Текст книги "Четыре письма о любви"
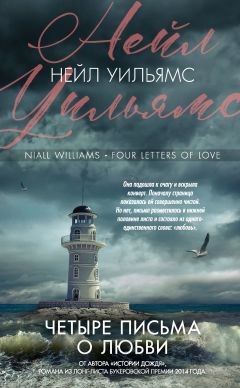
Автор книги: Нейл Уильямс
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Тем же вечером, но чуть позже, сидя на стуле у кровати Шона, Исабель рассказывала уже немного другую историю. Голуэй оказался не таким, каким она его себе представляла. Город выглядел чужим и враждебным, к тому же там было слишком шумно и грязно, а люди постоянно куда-то бежали. И все-таки, шептала она, наклонившись к самому уху брата и следя за тлеющими в его глазах огоньками мысли, все-таки в нем есть что-то очень притягательное! Исабель много раз сбега́ла из монастыря в город и подолгу бродила по улицам, разглядывая спешащих навстречу прохожих. Ей нравились волнение и восторг, которые она испытывала, когда по средам, вместо двух последних уроков гимнастики, прокрадывалась через маленькую калиточку в восточной стене монастыря, нравилось оказываться за пределами этой огороженной со всех сторон тюрьмы, вдалеке от болтливых монахинь и ежедневной скучной рутины, нравилось ощущать себя частью бесконечного и разнообразного большого мира.
– Однажды, – шепотом призналась она Шону, – я даже ездила на поезде в Дублин. Тебе бы понравилось ездить на поезде, Шон. Мы с тобой обязательно на нем покатаемся, когда тебе станет лучше, вот увидишь!
В поезде Исабель все время сидела у окна, неотрывно глядя на разворачивающиеся за ним сельские пейзажи, на горы и реки, озера и поля. Все было ей внове, и все восхищало: крошечные полустанки, толпы пассажиров на платформах, груды саквояжей и баулов, наваленных на тележку так высоко, что за ними не видать было носильщика, заброшенные на багажную сетку чемоданы и мальчишка в черных штанах и белой тужурке, который, толкая по проходу колесную тележку, вежливо спросил у нее, не хочет ли она кофе или чаю. Нравился ей и четкий музыкальный ритм, который отбивали колеса вагонов, несущихся по просторам невиданной, сказочной страны. Исабель даже захотелось, чтобы ее поезд никогда не прибыл на конечную станцию, чтобы он мчался все вперед и вперед, стуча колесами и лязгая сцепкой, ныряя в тоннели, снова выскакивая на свет и вновь летя через поля с работающими на них людьми, которые часто оборачивались, чтобы посмотреть на мчащийся состав и помахать ему вслед. И Исабель тоже махала им рукой из окна.
Монахини, разумеется, обнаружили ее отсутствие и очень рассердились. Небольшая их группа даже отправилась в Голуэй на ее поиски. Нескольких девочек, приехавших с островов, вызвали к матери-настоятельнице и стали спрашивать, не знают ли они, куда могла отправиться Исабель Гор. С каждым прошедшим часом ожидающее ее наказание становилось все суровее, все страшнее. И когда сестра Агнесса выкрикнула, что Исабель следует вышвырнуть из школы, сестра Мария в первые мгновения восприняла ее слова буквально. Она была не в состоянии понять ту вызывающую дерзость, с которой эта девчонка намеренно совершала поступки, раздражавшие и злившие монахинь. Ей казалось – в Исабель есть какой-то тайный изъян, что-то вроде прослойки жира в постном окороке, поэтому она умолкла, только когда в коридоре раздались медленные, осторожные шаги, и мать настоятельница, заглянув в двери, спросила, не нашли ли еще беглянку. С девочкой такое случалось и раньше, добавила мать настоятельница мягким, тихим голосом, и казалось, будто эти слова птицами взлетают с ее вспаханного морщинами лба. В ответ монахини перечислили прошлые грехи Исабель и стали ждать, что ответит им маленькая горбатая женщина в белой, озаренной льющимся из окна мягким золотым светом осени рясе, но настоятельница только кивнула, сложила перед собой руки и сказала: «Мы должны молиться за нее, сестры. Радуйся, Благодатная!..»
Когда, вернувшись из Дублина, Исабель сошла с поезда, она все еще была как во сне. Покинув вокзал, она двинулась к монастырю сквозь блестящий холод голуэйского вечера. Воспоминания о только что совершенном путешествии все еще были с ней, когда она добралась до монастырских ворот и почувствовала на своем предплечье цепкие пальцы сестры Консепты, которая волокла ее к входной двери, причем одна рука Исабель – та, за которую держала ее монахиня, – задралась вверх, а вторая болталась, как у сломанной куклы. Сначала, рассказывала она Шону, монахини просто не знали, что с ней делать. Они только отвели ее в какую-то комнату, из окон которой были видны внутренний двор с опавшими каштанами и высокая каменная стена на заднем плане, но даже она больше не была для нее непреодолимой преградой. Теперь воображение Исабель могло перенести ее в мир за стеной в любую минуту, когда ей этого только захочется. И когда примерно час спустя сестра Агнесса вошла в комнату и, прикусив изнутри щеку и крепко – пожалуй, чересчур крепко – сжимая перед собой ладони, принялась перечислять различные наказания и ограничения, которые ожидали преступницу, Исабель не чувствовала ни гнева, ни стыда, ни раскаяния. Единственным, что она испытывала в эти минуты, был восторг обретенной свободы.
– Совсем как во время танца, – шепнула она.
На острове ее не было всего три месяца.
13
Шону Исабель рассказывала все. Он стал как бы частью ее, и в последующие несколько лет ей хотелось возвращаться не столько к родителям, сколько к нему. Иногда Шон кивал в ответ, шевелил пальцами или издавал горлом короткие, сдавленные звуки. Он понемногу поправляется, говорила мать. Когда-нибудь, говорила она, мой мальчик снова станет здоров. Каждый вечер, опустившись на колени возле очага, Маргарет Гор молилась Богу именно об этом, и ее горячие молитвы, кружась точно дым на ветру, поднимались прямо к Небесам.
Как-то на святочной неделе, когда Исабель сидела в комнате Шона, ей попалась его старая жестяная флейта. Повертев ее в руках, она протянула инструмент брату, внимательно следя за выражением его глаз. Почти сразу она увидела, как Шон взглядом потянулся к флейте, словно стараясь зацепить ее невидимым крюком, и Исабель без колебаний поднесла блестящий мундштук к его перекошенным губам – ко рту, в уголках которого кожа покраснела и потрескалась от постоянно текущей слюны.
– Подуй, Шон! – проговорила она негромко.
Некоторое время ничего не происходило, но она чувствовала, как он медленно собирается с силами. Музыки еще не было. Невероятным напряжением всего своего существа Шон сосредоточился на том, чтобы правильно сложить губы для игры.
– Дуй, Шон, дуй! – повторила Исабель – и боком полетела со стула, когда рука брата, пытавшегося нащупать отверстия на флейте, описала стремительный полукруг и ударила ее по лицу. Шон протяжно застонал и без сил откинулся на кровать.
– Все хорошо, Шон, все хорошо, – пробормотала Исабель, поднимаясь с пола и пытаясь снова подсунуть ему под спину подушку. Шон лежал, упираясь подбородком в грудь и не поднимал глаз. Она ждала, прислушиваясь к тому, как ветер снаружи подхватывал крупные дождевые капли и швырял в окно маленькой сырой спальни. Исабель еще немного постояла, а потом начала все сначала: заключив лицо брата между ладонями, она заставила его приподнять голову и заглянула ему в глаза. Прочтя во взгляде Шона немую мольбу, она снова поднесла флейту к его губам, а потом направила пальцы на отверстия. В течение нескольких секунд он крепко сжимал инструмент, вцепившись в него, словно в перила или канат, словно стараясь не дать своим рукам снова упасть на одеяло. Шон весь изогнулся, он склонялся то вперед, то в стороны, сгибался и разгибался и с такой силой прижимал к губам мундштук, что расцарапал себе десны до крови. В какой-то момент он едва не свалился с кровати, но Исабель успела его подхватить.
– Попробуй еще раз, Шон! – снова попросила она. Брат попытался подуть – и флейта выпала у него из рук.
В тот день он повторял свои попытки раз десять или даже больше, но у него так ничего и не получилось. И только когда ранние зимние сумерки пали на остров и за окнами спальни не стало видно ничего, кроме льнущей к стеклам плотной, густой синевы, он все же схватил флейту и дунул в нее, приподняв над отверстием указательный палец правой руки. Ему хватило сил, чтобы сыграть только одну ноту, но она, переливчатая и чистая, взмыла высоко в воздух и зазвенела под самыми облаками, словно удивительная и величественная осанна.
Значит, какой-то Бог все-таки есть, думала Исабель Гор, возвращаясь в Голуэй после рождественских каникул. В том, что произошло дома, ей виделся не только проблеск надежды для Шона, но и ее собственное избавление от гнетущего чувства вины.
14
Жены сами создают себе мужей. Они берут грубое сырье – ту неуклюжую, действующую из лучших побуждений молодую энергию, в которую влюбились, – и начинают не спеша обрабатывать этот сырой материал, пока лет через сорок кропотливого труда из него не получается мужчина, с которым женщина может жить.
Мужчина, которого моя мама создала в первые годы своего брака, твердо знал две вещи: муж обязан обеспечивать семью, а жена должна поддерживать чистоту в доме. По утрам папа целовал ее в щеку и уходил на работу, а она оставалась одна в крошечном – на две спальни – домике на Кленовой улице, который, как казалось маме в ее более поздних воспоминаниях, в течение примерно полугода оставался единственным в ее взрослой жизни местом, где она чувствовала себя счастливой. Надев желтый клеенчатый фартук и подпевая радиоприемнику, мама скребла и мыла и без того чистый дом, а потом зачесывала волосы назад и отправлялась по магазинам с таким счастливым, сияющим лицом, что ее новым соседям казалось, будто она лучится любовью. Маме казалось, что она ведет себя в точности так, как полагается образцовой жене, поэтому когда папа возвращался с работы и, войдя в чисто убранную прихожую, снимал с брючин бельевые прищепки (в те времена он ездил на службу на велосипеде), а потом целовал маму, прижавшись к ней прохладной после улицы щекой, она была уже в другом платье и благоухала эвкалиптом. Ужин мама накрывала в кухне, на маленьком пластиковом столе, и пока он ел, слушала его рассказы о том, что случилось сегодня на работе. Лицо ее при этом оставалось внимательным и сосредоточенным, да и сама она стала намного серьезнее. Еще бы, ведь теперь она была уже не девчонкой, а женой; именно поэтому в течение первого же года супружества мама перестала поддразнивать папу, постаравшись полностью избавиться от своих прежних, игривых и легкомысленных манер.
Ей хотелось, чтобы папа продвигался по службе, делал карьеру. Когда его начали мучить головные боли, а волосы надо лбом начали редеть (тревожный признак на самом деле!), она вообразила, будто лысина и мигрень – непременные атрибуты любого успешного государственного служащего. «Ты выглядишь очень респектабельно», – говорила она ему, стараясь не замечать растущего с каждым днем разочарования и пока еще тихого, не прорывающегося наружу раздражения, которое подспудно тлело в лысеющем, худом мужчине, который был ее мужем. Сама она изо всех сил старалась сделать его мир еще более чистым и опрятным; в один памятный день мама заменила на окнах все занавески и собственноручно оклеила крошечную ванную комнату обоями светло-розового оттенка, который, как ей казалось, успокаивает лучше других цветов. Папа, разумеется, ничего не заметил – пройдя в аккуратную гостиную, где стояли прекрасно сочетавшиеся друг с другом кресла и диван, украшенные кружевными подголовниками и подлокотниками, он сел, глубоко задумавшись о скучном однообразии своей жизни, и его волосы сыпались и сыпались на ковер седыми прядями, которые наутро мама уберет пылесосом и щеткой.
Детей у них долго не было. Деньги они тратили на дом, который в течение пяти лет претерпел несколько косметических ремонтов, призванных придать комнатам так называемый свежий вид. Каждый новый проект тщательно продумывался и был более амбициозным, чем предыдущий, так что в конце концов, если поскрести стену в ванной, можно было обнаружить пастельного оттенка обои чуть не всех цветов радуги, отражавших историю предпринимавшихся каждые два года маминых попыток воплотить наконец в жизнь свое представление о «доме мечты».
Мама, конечно, видела все это совершенно в ином свете. Она не сомневалась, что умело вьет семейное гнездышко и заодно воспитывает идеального мужа, с которым ей было бы удобно и комфортно жить. Она покупала папе новую одежду, она выбросила его поношенные «воскресные» брюки, которые он любил больше всего, она заставляла его бриться по выходным и даже настояла, чтобы он перестал ездить на работу на велосипеде и купил машину. Вскоре машина появилась – крошечный черный «Фольксваген», на котором они ездили по воскресеньям в Уиклоу: папа управлял, скорчившись в три погибели и упираясь коленками в руль, а мама сидела рядом – прямая и прекрасная, как королева.
Когда папа получил третье повышение по службе, мама, вероятно, сочла, что ей больше не нужно работать над его воспитанием. Он больше не выдавливал зубную пасту из середины тюбика, всегда переобувался, прежде чем войти в дом, где лежал теперь красивый светло-бежевый ковер, купленный специально для гостиной, каждый день надевал свежее белье и носки, принимал ванну не меньше четырех раз в неделю и не забывал опускать сиденье унитаза после того, как справлял малую нужду. Его служебная карьера не вызывала никаких опасений – на работе его считали умным, исполнительным, аккуратным работником. Теперь даже Флэннери не узнавал в нем того худого, тоскующего, влюбленного парня, который всю рабочую неделю мучился словно в чистилище в ожидании заветного вечера пятницы, но это, как ему казалось, было сравнительно небольшой платой за столь очевидный успех.
Настало лето, папа взял отпуск, и нагруженный вещами сверкающий «Форд», выехав из ворот нового дома на Маллбери-лейн, помчался по шоссе за город. «Я была счастлива, очень счастлива, – говорила мама много лет спустя, обращаясь к обоям и занавескам своей маленькой спальни. – О Господи, как же я была счастлива!» Они останавливались в самых живописных уголках, где папа рисовал поля и горные пики, а потом устраивали долгие пикники на согретых солнцем травянистых лужайках, так что на какое-то время мама, поддавшись красоте безбрежного голубого неба и птичьих песен в древесных кронах, отставила в сторону ту непреклонную решимость, с которой она управляла их общей семейной жизнью. А через девять месяцев появился на свет я.
Эта история, как и все остальные истории из прошлого, дошла до меня в виде фрагментов, из которых я, как мог, сложил целую картину. К маю мой отец снова уехал на этюды, и мама спустилась из спальни вниз. Мы вместе вымыли дом, уничтожив малейшие следы папиного в нем пребывания, так что уже через неделю после его исчезновения от него не осталось даже запаха. За работой мама все время говорила. Поначалу это были просто бессвязные, сердитые восклицания и гневные фразы, адресованные глубоко въевшейся грязи на стенках раковины и спитому чаю, который, торопливо кружась вокруг сточного отверстия, забил трубу. Я, впрочем, не особенно к ним прислушивался и только налегал на щетку, помогая маме отмыть непрерывно накапливающуюся невидимую грязь жизни.
Пока она говорила, я оставался поблизости, делая вид, будто не только мо́ю и скоблю вместе с ней, но и слушаю. Только ближе к вечеру мама замолкала. К этому времени дом был идеально убран; он буквально сверкал чистотой, и она на несколько коротких секунд замирала неподвижно, упиваясь результатами своих трудов. Думаю, в эти мгновения мама была почти счастлива, но лишь до тех пор, пока на идеально выметенный пол не ложилась, медленно кружась, первая пылинка.
15
На исходе была первая неделя сентября, а папа все не возвращался. Из-за этого я не мог пойти в школу, так как маму нельзя было оставлять одну. Дома я часто садился у окна в маленькой передней комнате и смотрел в окно, не появится ли из-за поворота знакомая долговязая фигура. На этот раз, говорил я себе, я не прощу его так быстро. Прошедшее лето было сырым, дождливым и пасмурным, и мы почти не видели солнца, но это было еще полбеды. Главная проблема заключалась в том, что мамино состояние продолжало ухудшаться. То она вела себя совершенно нормально – занималась привычными домашними делами или, напевая что-то из Гилберта и Салливана, готовила для меня еду из консервов (не больше полбанки на порцию), а то вдруг принималась спорить с радиоприемником и, брызжа слюной, пыталась перекричать ведущих программы для садоводов, пока снаружи хлестали в оконные стекла внезапные, как приступы слабоумия, ливни.
Три месяца я жил в полутемном доме без отца и каждый день ловил себя на том, что в моей душе скапливаются все новые и новые обвинения и упреки – тяжелые, словно камни, которые я готов был обрушить ему на голову. Как он смел так с нами поступить? Кто дал ему право просто взять и уехать, оставить нас одних, чтобы мы сами разбирались с одиночеством и непогодой? Я смотрел в окно, мысленно раздувая угли своего гнева. Я мысленно отрекался от него, я клялся, что, когда он вернется, я отнесусь к нему с холодным безразличием, и тут же решал наброситься на него и колотить кулаками по его худым ребрам, чтобы выбить из него этот чудовищный эгоизм. Иногда, когда мне казалось, что он может появиться в любой момент, я выходил на крыльцо, где медленно сгущались сентябрьские сумерки, и, как в подростковом кино, доставал из кобуры свой безнадежный гнев со взведенным курком, готовясь к решающему поединку. Был ли у кого-нибудь из моих приятелей такой отец? В окне верхней спальни белело бессмысленное лицо матери, а я стоял на крыльце или у калитки и смотрел, как другие, нормальные отцы и мужья сворачивают на подъездные дорожки перед своими домами, выходят из машин, захлопывают дверцы, звенят на крыльце ключами и входят в привычные прихожие с привычным «Привет, я дома!» на устах и с газетой или портфелем под мышкой.
– Привет, Никлас.
Не успел я обернуться, чтобы посмотреть на него, а мне на плечо уже легла его рука, и мы пошли к дому – высокий, худой, широко шагающий мужчина в длинном, расстегнутом плаще, и я – его сын, все еще немного растерянный, глотающий на ходу невыплаканные слезы.
Папа потерял ключ. Я разжал кулак, в котором крепко сжимал свой, и он его взял.
– Спасибо, сынок, – сказал он, мимолетно улыбнувшись мне с высоты своего роста. И через секунду он одним поворотом ключа снова впустил себя в нашу жизнь. Одно простое движение – и папа снова стал частью нашей повседневности. Запахи, звуки, ощущение его присутствия – все вернулось в один миг. Даже прихожая, в которой он стоял, заполнилась им до краев, и я вдохнул исходящий от его одежды густой и сильный запах масляных красок. Его длинные тонкие пальцы словно ощупывали воздух, готовые погладить, прикоснуться, сжать, пока далекие горы и моря беззвучно сыпались с его плаща и оседали на пол невесомой пылью, а ветры и туманы болот, прохлада горных склонов и аромат терновых изгородей, колючее прикосновение дрока и несущийся над некошеным разнотравьем утренний бриз окружали его невидимым облаком.
Несколько секунд папа смотрел на меня, смотрел по-настоящему, и впервые в жизни я не просто затрепетал под его пристальным взглядом, не зная, что́ он может сказать или сделать, но и поднял голову, чтобы, в свою очередь, взглянуть на него, а взглянув – увидел в его глазах что-то похожее на одобрение и гордость.
– Никлас… – снова проговорил он, словно мое имя было чем-то вроде ключа, и он проверял его, желая узнать, откроется ли дверь, ведущая назад – в мир, где жила его семья. – Как твои дела, Никлас?
Весь гнев, который я лелеял и возгревал в себе все лето, покинул меня, сменившись жгучим желанием прикосновения, ласки, крепкого объятия.
– Хорошо дела, – ответил я, разглядывая обтрепанный подол его плаща, разорванный шипами терновника или колючей проволокой.
– Я так и думал. – Его рука опустилась мне на голову, и я почувствовал, как он прижимает меня к себе. Не знаю, то ли он обнимал меня, то ли я сам был не в силах от него оторваться; как бы там ни было, наше объятие длилось достаточно долго. Я зажмурился и прильнул к нему как можно теснее, поэтому мне не было видно слез, которые, как мне казалось, подступили к его глазам, не видно было сожаления, раскаяния и боли, обрушившихся на него, как только он переступил порог нашего дома, и наполнивших его осознанием неизбежности потери, которое должно было посещать его при каждом возвращении. Бог отнял его у нас, услал его прочь, но каждый раз, когда папа возвращался домой, он не мог не видеть, что от его семьи остается все меньше и меньше.
Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем он снова заговорил, но, еще до того, как папа открыл рот, я догадался, что он что-то решил. Быть может, подумалось мне, он сожалеет о своих поступках и хочет что-то исправить.
– Мама наверху? – спросил он. Его рука на мгновение исчезла в глубинах плаща и снова появилась с зажатой в пальцах пятифунтовой банкнотой. – Сходи-ка в лавку и купи нам большой сладкий кекс, хорошо?..
Я вышел на улицу, а папа поднялся наверх. Пятифунтовая бумажка жгла мне ладонь – наконец-то мы снова были богаты! Я бежал так быстро, как только мог, мчался во весь дух сквозь плотные каскады падающей листвы, я поддавал ногами и топтал башмаками увядшее золото прошедшего лета и чувствовал, как от восторга у меня начинает кружиться голова. Я был словно опьянен своей детской надеждой на спокойную и счастливую жизнь, на бесконечный свет – и на то, что Бог снова вернулся домой.
16
Я решил, что папа вернулся, чтобы снова любить маму. Наверное, думал я, Бог на время освободил его от необходимости следовать своему призванию и велел вместо этого заняться семьей (довольно-таки своевременное решение!). Быть может, думал я, Бог переселился к кому-то другому, чтобы ввергнуть в хаос чужую жизнь, пока Он будет спасать нашу. Откуда взялась эта последняя мысль, я не знал. Сжимая в кулаке пять фунтов, я мечтал или, точнее, надеялся, что мои родители смогут начать все сначала, ибо в глазах отца я совершенно неожиданно разглядел тень того молодого мужчины, который, стоя под уличным фонарем, сделал предложение своей девушке. И, возвращаясь назад по тихим пригородным улочкам с кексом в руках, я был почти уверен, что возвращаюсь в уютное и тихое домашнее гнездышко – в нормальную жизнь, какую ведут сотни других семей.
Этот коротенький вечерний поход в лавку и обратно я помню очень хорошо. В моей памяти сохранились и поднимающийся в серо-розовое небо пряный запах усыпанной листвой травы, и притихшие, как перед отходом ко сну, дома в аккуратных палисадниках, и аромат поздних роз, и шероховатость каменной стены, по которой я, обжигая кожу, провел на бегу кончиками пальцев, и вывернувший из-за угла городской автобус, и мистер Доусон со свернутой «Ивнинг геральд» под мышкой, который, заступив мне дорогу, сделал вид, будто хочет отвесить мне подзатыльник. Все это я видел, чувствовал и ощущал с особой ясностью, во всех мельчайших деталях и оттенках, словно мир вдруг сделался более контрастным, и все вокруг меня приобрело выпуклую, рельефную форму, стало ярче, удивительнее и прекраснее. Облака были величественны и великолепны, а прохожие в дальнем конце улицы оделись в ослепительное радужное сверкание. Даже миссис Хеффернан, которая, уперев голову в свои многочисленные подбородки, разворачивала и разглаживала на прилавке пятифунтовую банкноту, словно боясь, что она может растаять у нее на глазах, была похожа на ангела. Когда она вручила мне шоколадный кекс, я понял, что жизнь начинается снова. Я чувствовал это даже в похрустывании целлофана, в который он был упакован, и мне хотелось громко смеяться. Теперь у нас все будет хорошо, думал я. Сейчас я пойду из лавки домой, к моим маме и папе. Я войду в прихожую и сразу попаду в атмосферу чуда, название которому – обыкновенность, и чайник будет закипать на плите, и ложка будет греметь в жестяной чайнице, и на столе будет стоять блюдо для шоколадного кекса.
Но все оказалось не так, как я думал.
Пока я бегал в лавку, мир успел совершить полный оборот. Когда я вошел, папа как раз взлетал по лестнице, прыгая через ступеньки и шурша плащом, который он так и не снял. Вот он миновал то место, где я сидел в тот день, когда с ним заговорил Бог, и загремел башмаками по голым половицам верхней площадки, которые успели потемнеть посередине от наших с мамой шагов. С его каблуков сыпались земля и грязь, и вместе с ним поднимался вверх его густой запах. Не мешкая, папа бросился к дверям маминой комнаты, и я подумал, что он, наверное, наконец понял, что́ значит для него мама, – и его глаза светятся теплом и лаской. На этот раз он вернулся домой к ней – к ее полной белой груди, к тому блаженному чувству прощения, к несравненному ощущению покоя, которое снисходило на него, когда он заключал ее в объятия и опускал голову рядом на подушку, моля о прощении, а она клала руку ему на затылок, милосердно освобождая от всех грехов, хотя и не могла не видеть, что все ее надежды повержены в прах. В конце концов, он же вернулся, не так ли? Он вернулся к женщине, которая видела, как ее мужчина вырвался из мира пастельных обоев и безупречно отглаженных сорочек, с помощью которых она выражала свою любовь, – к женщине, чьи глаза утратили былой блеск, а спина согнулась под грузом несбывшихся надежд и утраченной любви, и которая отмеряла дни с помощью снотворных таблеток. Разве не к ней, к моей матери, он в конце концов вернулся, чтобы рассказать о жестоком эгоизме Бога, который толкнул его на мучительные поиски своего еще не познанного таланта, вынудив бросить ее с сыном одну? Разве не в этом было дело? Не от этого ли тряслись его пальцы, которыми он взялся за ручку двери, не это ли впервые за все годы заставляло его дрожать и ронять горячие слезы перед запертой спальней, ибо он вдруг осознал, что сейчас в нем действует не воля Бога, а воля мужчины, что его решение бросить все, чтобы писать картины, было чудовищной ошибкой, что на самом деле Бог ничего ему не говорил и он зря потратил два года, добровольно лишив себя любви и семейного тепла?
Папа крутил и дергал ручку двери, но она была заперта. Он звал маму, но она не ответила. Он колотил в дверь кулаками, снова и снова выкрикивая ее имя, и по его лицу текли горькие, горячие слезы. Когда я вошел в дом с кексом в руках, папа как раз сломал замок, ворвался в комнату и увидел, что мама мертва.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































