Читать книгу "Остров Рай"
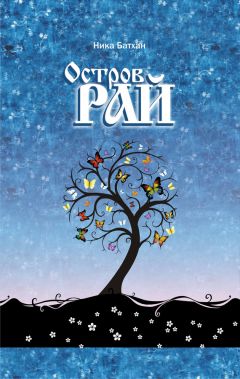
Автор книги: Ника Батхан
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ника Батхан
Остров Рай
Проза
С благодарностью,
первому наставнику в литературе Святославу Логинову,
руководителю нашего ЛИТО Леониду Кудрявцеву,
критику и другу Василию Владимирскому,
писателю и другу Сергею Байтерякову,
художнику и другу Рихарду Остроумову,
самой лучшей на свете Тикки Шельен,
гештальт-терапевту Ольге Людве
и многим-многим другим, кто помог мне пройти через трудности и поверить в себя.
Ясный сокол
Соловьи разорялись, будто май заплатил им за песни. Ночь выдалась жаркой – первая по-летнему жаркая ночь в году. От стены пахло терпкой смолой, кое-где проступали янтарные капельки. Дом срубили на скорую руку. Бог даст, лет через двадцать встанут каменные хоромы, а пока надлежит быть трудолюбивыми пчелками, обустраивать будущее гнездо. Будущий город. Княжество. Бог шутник, почему бы ему, князю Борису, младшему сыну Романа Черниговского, не поставить свой стол да не сесть на нем прочно? Пускай старшие братья грызутся за золотой кусок, ему покамест хватит простого черного хлеба. Только хлебушек уберечь надо – на каждый ломоть по десять ртов жадных. Болгарин проскачет – дай. Половец прибежит – дай. Гонцы от Киевского князя придут – дай, а ведь что ни год в Киеве – новый князь. То Ростиславич, то Святославич, а мира нет, и покоя нет. И поди тут сбереги детинец-город, дай на ноги-валы подняться, чтобы злой тур копытами по полям не прошелся. С единой белки семь шкур не снимешь… А, заррраза. Князь скинул с лавки босые ноги, потянулся с хрустом, нашарил на столе крынку, глотнул кваса и сморщился – теплый. Сон ушел. А за окном колыхалось марево сумерек, темнели голые стволы яблонь, где-то лениво перебрехивались собаки – ночь отступала в берлогу, но серая ее морда еще лежала на холмах Ладыжина.
Неторопливые слова молитвы проговорились спешно. Стоило дреме стечь вслед за последним «аминь», как пришла тревога. Князь Борис был здоровым двадцатипятилетним мужчиной, бессонница посещала его очень редко – и никогда зря. По смуглой коже пошли мурашки, князь передернул плечами, вспоминая, как осьмилетним отроком перебудил дядьку, слуг, братьев, с плачем требуя утекать поскорее – сон видел. По счастью, дядька Рагнар был опытный и выставил княжичей во двор, кого словом, а кого и тяжелой дланью. А тут и соколы налетели – Брячиславичи, Романовы племянники. Борис помнил, как страшно кричал отец, занося меч, как визжали осатанелые кони, как пламя перекинулось на застреху, как бесцельно, жалобно звонил серебряный колокол и вдруг восхитительной музыкой откликнулся лязг и топот поспешающей старшей дружины… Брячиславичей быстро уняли – кого в монастырь, кому отрубили лишнее. Только матушку было уже не вернуть – с перепугу она начала рожать прежде времени да так и не разродилась. И отец надорвался – он прожил еще без малого десять лет, сделал двух меньших братьев с черноокой кипчачкой[1]1
Кипчаки – средневековый тюркоязычный народ, известный на Руси как половцы.
[Закрыть], но прежним Ярым Романом так и не стал…
Льняная рубаха пристала к телу, влажному от ночного пота. Искупаться сходить что ли? С крутого берега да к Бугу-батюшке в сини волны. Борис хорошо плавал и любил воду, в отрочестве он мечтал даже ходить по морям на своей ладье. Матушка рассказывала, как поочередно, словно лебединая стая, отплывали из гавани Константинополя белопарусные дромоны[2]2
Дромон (от греч. «dromos» – бег) – быстроходное парусно-гребное военное судно в V–VII вв.
[Закрыть], как мерно, слаженно опускались и поднимались весла под руками загорелых гребцов, как ветер раздувал флаги и качалась деревянная палуба. Отрок больше любил сказы о битвах, залпах стрел, волнах греческого огня. Мать смеялась – греческий огонь у тебя в крови, милый. Вправду – Борис уродился смуглым, черноглазым и медно-рыжим, хоть костер от волос пали. И сестра его, Зоя-Заюшка, удалась златовласой, бронзовокожей красой – даром что ли берет ее Даниил Бельцский, после Яблочного Спаса и свадебку отгуляем.
В ближней горнице шевельнулся горбатый забавник Боняка – преданный, словно пес, он всегда норовил сопровождать господина. Но князь отстранил раба. И сонному гридню[3]3
Гридень – воин княжеской дружины, телохранитель князя.
[Закрыть] велел оставаться у хором, сторожить домину. Препоясался только ножом, свистнул Серку и пошел по росистой тропке, босиком по корням и глине. Одиночество зверя в лесу, полном шорохов, хищников и добычи, манило Бориса, притягивало, словно свеча притягивает бестолковых маленьких мотыльков. Он хотел бы быть быстрым пардусом, или соколом, или волком… Но человеческое оставалось сильнее, негоже крещеному бесовским блудом маяться, даже в мыслях. А вот в том, чтобы кинуться сильным телом в тугие, темные волны, греха не было. Князь долго плавал, разрезая руками воду, нырял, словно рыба в заходящей луне, со смехом пробовал ловить серебристых рыбешек. Он углядел краем глаза, как играют в корнях водяницы, жаль чудо-девки исчезли, стоило ему приблизиться. Чур их. Серко тихонько лежал на берегу, сложив лобастую башку на лапы, – прав был братец, волчья кровь течет в этой собаке. Князь сел рядом, запустил пальцы в желтоватую жесткую шерсть, пес вздохнул и придвинулся ближе, согреть ноги хозяину. Третий месяц как разлученный с семьей, Борис скучал по жене и детям, но Янушка собралась оставаться в Дорогобуже до полного выздоровления матери.
Прохладный туман поднялся с воды, окутал длинные ветви яворов и далекие дубы. Птичий хор засвистал с новой силой, ему откликнулись ранние петухи. Небо было уже почти светлым. Князь оделся и неспешно пошел назад. Мощный тын городища наполнил Бориса гордостью – семь лет назад на ладыжинских холмах у слияния Буга и Сальницы стояла кучка дворов, кое-как отгороженных. Место вроде хорошее – и для хлеба, и для пчел, и для рыбы, и для торговых путей – а почитай пустовало. Болтали, мол, при Владимире-Солнышке старый Ящер летал в тех краях, похищал себе девок, а кто против вставал – вместе с хатами жег. Потому и селились здесь неохотно и дочерей выдавали замуж, едва дождавшись первой крови. Взяв под руку Ладыжин, Борис пообещал, что сам пожжет или вразумит батогами всякого, кто про бесов поганых сказы сказывать станет. А подумав чутка, побалакал с Бонякой и первым делом, еще до княжьего двора, поставил деревянную церковь святой Софии и крест вызолотил – пусть бережет. Красота вышла несказанная – храмина, хоромы, терем девичий, дом дружинный. И народ подселяться пошел – запалили огнища, распахали поля, посадили черешни с яблонями, буренушек завели, коз, лошадок. Ловкие охотники повадились бить куницу, бобра и выдру, коих в чащобах водилось несчитано, бортники собирали душистый липовый мед, рыбаки коптили, а потом везли на продажу копченых голавлей, рыбцов и лещей. Кузню поставили, мастеровитого коваля Янка с собой привезла из Дорогобужа. Завести б еще стеклодувню, делать пестрые бусы, обручья, посуду дивную… Рассеянный взгляд князя прошелся по двору. Ставни высокого девичьего оконца отворились с легким скрипом. Из светлицы Заюшки неуклюже выбрался крупный сокол. Очень большой. Переступил лапами, резко крикнул – и спорхнул с подоконника в ночь. Это еще чья птица?!
Изумленный Борис поспешил в покои. Гридень у дверей девичьего терема дрых, как свинья. Сенные девушки, подружки сестры и старая няня тоже спали вповалку по горнице. Сердце князя сжалось в тревоге. Что с сестрой? Он рывком распахнул дверь и увидел Заюшку, простоволосую, в просторной белой рубахе, стоящую у окна. Сестра повернулась на шум, полыхнула испуганными глазами – и вдруг с ошеломляющей ясностью Борис разглядел то, что не мог различить под парадными вышитыми одеждами, – круглый, тяжкий живот. Князь взмахнул кулаком, сестра молча упала перед ним на колени. Еще минута – и он мог бы ее убить. Сестру. Заюшку. Мамину дочку. Насмерть.
Дверь светлицы князь чуть не вышиб. Сонных клуш растолкал пинками. Гридню, не удержавшись, врезал сплеча – бабы дуры, а эта дрянь – воин княжий. Чтоб никто не входил в терем! Чтобы мышь не пробежала, муха не пролетела!!! Баб дурных выпускать по бабьим делам, но при входе проверять каждую – что с собой тащит. А Зою – запереть на два замка и затворить окна… «Раньше запирать надо было», – отозвался внутренний голос. Господи, понмяни кротость царя Давида, прости и помилуй мя, прости и помилуй и ее, дуру грешную. С дальней улицы переливисто задудел берестяной рожок – пастухи собирали стадо на молодую травку. Словно в ответ зазвенел колокол, созывая народ к заутрене. Помолиться бы стоило. Князь покойно отстоял службу, повторяя за стареньким, тихоголосым батюшкой слова молитв. Запах смолы, ладана и курений, свет свечей и особенный, храмовый, мирный покой чуть утешили душу, гнев спал. Но исповедаться не хотелось – был грех, и, скорее всего, еще будет. Ох, Зоя-Заюшка, как же нам с тобой быть?
Завтрак в горло не шел – Борис едва пожевал пшенной каши с изюмом, погрыз куриную ножку и отставил еду, удержавшись от сладостного желания смахнуть плошки на пол и велеть высечь толстую повариху – просто так, чтобы стравить злость. Зато конюхам перепало – и за плохо заплетенные гривы, и за сено вместо овса (хотя сам же велел поберечь), и за драку между Чалым и Вороном. Любимый княжеский жеребец оказался покусан и ушиб ногу – пусть холопы и отдуваются. Олухи! Старшому боярину Давыду Путятичу Борис устроил такую выволочку, что старый вояка чуть не бросил на крыльцо перевязь вместе с мечом. Чтобы мои гридни на посту спали? Быть такого не может!!! Сам лично! Обойду! Проверю! Шкуру спущу!!! Землекопам, копошащимся на валу, тоже досталось почем зря: мол, рыхло кладете, дождем размоет, всех к Бугу снесет. Купец из Галича, Йошка Файзман, ожидавший с утра справедливого княжьего суда и взыскания долгов с трех дворов и дружинного гридня, порскнул прочь, аки мышь полевая, углядев грозный лик Бориса. Многоопытный, хитрый Боняка не рисковал даже спрашивать, что случилось, – просто таскался за хозяином следом, не отставая ни на шаг. Надо будет – сам скажет.
… Проще всего было бы, если б сестра вдруг преставилась. Тихо-кротко, в самом расцвете лет. Или, скромно потупив глазки, подалась в монастырь – видение, мол, мне было. Так в какую обитель ее возьмут с полным пузом?! Даниил Бельцский – суровый князь. Если в Романовичах играла византийская жаркая кровь, по бабке, а у них с сестрой и по матушке, то Мстиславичи были чистыми северянами, плоть от плоти снегов, и били с рассудочной, ледяной яростью. Выдай он за белоголового Даниила непраздную Заюшку, крови пролилось бы – не утереться. И как отказать теперь? Отложить свадьбу, дожидаясь, пока родит? Девку с бабой даже слепой не спутает. Другой сестры на выданье нет, дочери от Янки еще малы, а приблудную княжну против законной кто же возьмет? Похоже, выбор один – Даниилу отписать, мол, больна Зоя тяжкой хворью – лихоманку подхватила или гнилую горячку. Сестру с бабами до самых родов из терема не выпускать ни на шаг, сказать, что слегла княжна. Челяди пообещать – язык отрежу, буде кто проболтается. Или в самом деле поотрезать языки?… Князь мотнул головой – чай, не половец. Как родит – в монастырь. Дитя… пусть сперва свет увидит, там поглядим. Можно на сторону отдать. Может, и мы с Янкой воспитаем, своя кровь, не чужая…
Неожиданно князь остановился посреди улицы. Верный Серко тут же сел рядом, ткнулся носом в ладонь. Осторожно отпихнув пса, Борис поскреб пятерней в затылке. А с чьею кровью смешалось византийское золото, кто отец будущего ребенка? Если князь или старший боярин – можно ведь брак на брак поменять. У старшого Романовича, Святослава Черниговского, было две дочки на выданье, у среднего брата, Михаила Унежского, одна поспела. А не то с половецкими ханами породнить Бельцы или в Византию к материной родне… Поперек телеги лошадь запряг! – взъярился на себя князь. А если снасильничал кто Заюшку? Или по доброй воле с гриднем сошлась, с челядинцем али холопом?! убью. Вот тогда – убью гада, – решил Борис, и на этом ему стало легче.
– Что печалишься, свет-надежа князь? Ночью с бродягами стакнулся, запеченного в глине ежа откушал, а теперь чревом маешься? Или пестрою юбкой по устам мазнуло, а медку-то и не досталось? – хитрец Боняка тотчас заметил, что лицо князя просветлело. Привычно увернувшись от заслуженной оплеухи, он заглянул в лицо Борису, снизу вверх, моргая выпуклыми глазами:
– Чего уж там, вижу, суров и смурен, аки Навуходоносор[4]4
Навуходоносор – царь Вавилонии в 605–562 до н. э., величайший правитель Нововавилонской империи, известный своим крутым нравом.
[Закрыть]. Говори, князь, что за напасть.
– Пошли к Бугу, – буркнул Борис. Болтать на людях ему не хотелось. А забавник и вправду что дельное присоветует – горбатый уродец был самым умным, хитрым, бесстрашным и преданным из челядинцев. Они сели на берегу, в тени старой березы с вывороченными корнями. Серко, послушный короткой команде «сторожи», улегся поперек тропинки, чутко выставив уши. Боняка сел подле княжьих ног, пристроил поудобнее горб и велел:
– Сказывай.
Забавник, казалось, нисколько не удивился. Мысль, что княжну снасильничали, он отверг – даже в лес по ягоды Зоя ходила с девушками и бабами, кто б ее хоть на час оставил одну. Надежду о родстве с иным знатным домом он отверг так же быстро – никаких заезжих княжичей на белых конях с прошлой осени в Ладыжине не появлялось. Зазнобы из гридней, челядинцев или, упаси боже, холопов у Зои не было – сболтнули бы, девки завистливые заметили и сболтнули. Не примечалось, чтобы следила она глазами за чьей-нибудь ясноглазой красой. Задумчива бывала последние месяцы – да. Бледна. Под глазами круги, губы пухлые – шептались, мол, не по душе княжне жених из Бельц, не торопится она к собственной свадьбе.
– А пошли-ка мы сестру твою, князь, навестим. Глядишь, сама она что расскажет. А я тем временем глазом по хоромам пройдусь – у меня, старика, глаз на всякое зло зорче.
… Как и следовало ожидать, Зоя молчала. Ненавидяще смотрела на брата, зыркала черными заплаканными глазами, сидела сжавшись на лавке, прикрывала драгоценное пузо. Словно не он, Борис, учил ее ногу через порог заносить и на лошадь верхом садиться, прикрывал от злой мачехи и отцова тяжкого гнева. Что ей стоило подойти, рассказать, так, мол, брате и так, любый есть у меня – отдай. Покричал бы, да, кулаком постучал по столу, погрозился бы – и отдал. Ужели не пожалел бы единородную, единокровную, лицом в лицо – матушку?! Сухая цепкая ладошка Боняки дернула князя за рукав:
– Глянь.
Забавник протягивал князю горсть перьев. Пышно-белых с темными кончиками, просто белых, темно-серых, длинных и заостренных. Потом рука указала на подоконник – свежее дерево прорезали глубокие, узкие царапины, словно бы следы хищных когтей.
– Ножи острые в ставни воткни, князь. Чем больше, тем лучше. А во двор и на крышу терема – гридней с луками и самострелами, всех собирай, мало не покажется.
Зоя охнула и повалилась без чувств.
– Правду говорю, вишь! – зло ухмыльнулся Боняка.
Ввечеру засада была готова. Зою заперли в дальней горнице. Ножи воткнули. Гридней с луками рассадили, боярин Давыд самолично засел у крыльца с самострелом.
Князь препоясался добрым мечом, надеясь на добрую сечу. Ночь была лунной, светлой – явится кто, сразу встретим со всем гостеприимством… Князь с дружиной просидели всем скопом с заката до первых петухов, тетивы у луков отсырели, одежда вымокла от росы. И вторую ночь просидели. И третью. С недосыпу вои ходили злые, словно цепные псы, у холопов чубы трещали от княжьей ласки, а Боняка старался не показываться лишний раз на глаза Борису. Но был упорен, настаивал – надо сидеть.
На четвертую ночь полил дождь. Мелкий, серый, холодный дождь, от которого враз покрывается ржавью кольчуга. Гридни ворчали, почти не скрываясь, луки держали спущенными, стрелы прятали в кожаных колчанах. И когда в отворенные ставни с криком грянулась птица, никто не успел выстрелить. Нет, она не упала и не улетела – распахнула огромные крылья и опустилась во двор. Темные капли крови стекали по белым перьям. Это был сокол. Очень большой и очень сердитый сокол с крючковатым, острым клювом. Кто-то из младших гридней, завопив, прыгнул с крыши в крапиву, остальные лихорадочно натягивали тетивы, ожидая команды. Птица щелкнула клювом, заклекотала, подпрыгнула, кувырнулась через голову, и князь Борис пожалел, что он не сопливый отрок, которому можно бечь по сырой крапиве в мокрых штанах. Тур, огромный мохнатый тур, с загнутыми рогами и длинной, волнистой, густо-синею шерстью, возвышался посередь двора. От зверя веяло дикой мощью, могучей и страшной силой. Нутром князь понял – ЭТО нельзя из луков. Только в честном бою, равный с равным. Очень медленно Борис расстегнул пояс, совлек кольчугу, снял островерхий шлем. Нож и голые руки. Он был красив, молодой ладыжинский князь – рыжекудрый и смуглый, как мать-гречанка, с мощным торсом, литыми плечами и неожиданно узкими, почти девичьими запястьями. Он был быстр, отважен и удачлив в бою, он стоял на своей, родовой земле и ничего не боялся. Ну, зверюга, давай!!! Кто кого?
Ярый тур устремился в атаку, наклонив голову. Князь рванулся наперерез и ухватил зверя за рога. Они встали – сила на силу, воля на волю. В глазах у Бориса мутилось, дыханию стало тесно в груди. Казалось, напряженные мышцы сейчас порвутся, спина хрустнет, и зверь пойдет по человеку копытами. Сквозь собственный натужный хрип он услышал, как орет Боняка: «Стой, князя зацепишь!» – и оттолкнулся ладонями от рогов, отшагнул: «Не стрелять!!!» Тур за ним не пошел. Он стоял и смотрел прямо князю в глаза синими, пронзительными очами. «Словно звезды глядят из колодца» – некстати подумал Борис. Во дворе встала мертвая тишина, гридни словно боялись дышать, даже капли дождя опускались на землю неслышно. У огромного зверя вдруг подломились ноги, он грянулся ниц – чтобы подняться – нет, не добрым молодцем, а могучим, кряжистым, немолодым уже мужиком, с широченными плечищами и короткими кривыми ногами. Копна полуседых волос закрыла лицо, он совсем по-звериному мотнул головой, убирая пряди со лба. Глаза у чудища остались прежние – синие и глубокие. Неожиданно он поклонился князю – в пояс, как равный равному:
– Отдай за меня сестру, светлый князь! Вено дам, какое ни пожелаешь. Отслужу службу, какую запросишь. Отдай!
– А кто ты таков, что сестру мою в жены просишь? Кто отец твой, кто твоя мать? Почему не пришел со сватами, а прокрался в светлицу как тать? – давний обычай подсказывал Борису слова.
Незнакомец усмехнулся и чуть ссутулился, словно ждал нападения:
– Волх я. Серый Волх, сын Любавы Олеговны, из переяславских Ольговичей.
– А отец-то твой кто? – неожиданно встрял Боняка.
– Отец? – Волх замолчал надолго, словно пробуя на вкус тишину. – Бог мой отец. Старый Ящер, летучий змей.
Одинокая стрела просвистела над крышей и ушла в темноту. Гридни попятились. Борис понял: еще минута – и во дворе будет бойня. Бесова сына, может, они и сложат, но на этом князь лишится дружины. И хорошо, если голову сохранит.
– Стоять! – рыкнул он на парней. – Всем стоять, сволота! Поперек князя из пекла полезли?! Щит к ноге!!!
Шестеро старших гридней тотчас выстроились подле ворот, уткнув в землю острые концы щитов. Остальные сгрудились за живой стеной, целя стрелы.
– Добро. Держите строй. Молча. Князь говорит.
Хмурый Волх стоял совершенно спокойно, словно железо не могло его уязвить. Но Борис видел глубокие, сочащиеся кровью царапины на груди и плечах богатыря – не иначе как об ножи в ставнях. Князь глубоко вдохнул, чтобы спутанные слова улеглись в голове нужным порядком.
– Значит так, Волх сын Любавы… Виру с тебя возьму, и немалую. Сестру княжью поял, как холопку безродную, семье позор принес, Бельцскому князю свадьбу сгубил, против чести пошел. Стены мне поставь. Каменные. Вокруг Ладыжина. Чтобы ни огонь, ни вода, ни дерево, ни враги лютые их порушить не могли во веки веков…
Волх легонько повел бровями:
– За белы камушки сестру продаешь? Хорошо… Через три дня, князь, будет тебе стена. Ни огнем, ни водою, ни вражьей силой ее не взломят.
– Я не договорил, Волх сын Любавы. Я, князь Борис Романович, крещеный, верю в Христа, Богородицу и святых. Отец наш, князь Роман Ингваревич Черниговский, отошел ко Христу, и княгиня-матушка Ирина Феодоровна почила в бозе, и князь Ингвар Святославич Черниговский, и отец его, и дед, и прадед… И сестра моя, княжна Зоя Романовна, не пойдет за бесьего сына плодить нехристей-чертенят. Хочешь взять ее в жены – прими Христа. И веди сестру под венец в церковь, как положено у добрых людей.
Нехороший взгляд Волха уперся в переносицу князю:
– А если я скажу «нет»? Я сильней тебя, князь, и сильней твоей дружины. Разметаю по бревнам тын, стопчу твоих воев и уйду себе в лес с сестрой твоей на плече… Что поделаешь?
Низкий голос Бориса был тяжел, словно молот:
– Не уйдешь. И не скажешь.
Волх ссутулился, наклонил голову, сжал пудовые кулаки… На какой-то момент Борису показалось, что битва все-таки будет. Но вот тяжелые плечи поникли:
– Хорошо. Приму крест. Но и ты, князь, обещай, что пройдешь со мной по лесу в ночь перед тем, как я в церковь отправлюсь. По рукам?
Князь ударил ладонью о широкую, как подушка, десницу. Тут же Волх отпрыгнул назад, кувыркнулся и взмыл вверх серым соколом. Никому из дружинников, к счастью, не взбрело в буйну голову пальнуть вслед. Разом ослабнув, князь приказал Давыду Путятичу расставить караул и побрел в девичий терем. Исстрадавшаяся Зоя металась по горнице, мало не обезумев. Борис обнял ее, как в детстве, удержал вырывающееся, горячее тело, неловко чмокнул в золотую макушку:
– Все хорошо, Заюшка. Жив твой сокол, целехонек. Бог даст – и свадьбу сыграете.
В распахнутых глазах Зои попеременно сменились недоверие, испуг, радость:
– Правда, брат?
– Да. Счастлива будешь, любит он тебя крепко.
Зоя тут же заплакала. Бабий глупый обычай: горе в дом – надо слезы точить, счастье в дом – тоже соленой росой умоешься. Князь машинально гладил сестру по мягким, пахнущим мятой кудрям и думал об одном – как бы не упасть прямо в горнице. Поединок со змеевым сыном забрал все силы. Он передал Заюшку на руки сенным девушкам, кое-как спустился во двор и побрел в свои покои. Верный Боняка выскочил, словно таракан из подпечья, князь заплетающимся языком поблагодарил раба и уснул, не дождавшись, пока челядинцы снимут с него перепачканные мокрой глиной, тяжелые сапоги. Из глухого сна князя вырвал перепуганный отрок:
– Князь-батюшка, ступайте поглядеть, что за городом деется!
… Значит, не приснилось. Сонный Борис даже не стал обуваться. Он вышел со двора, поднялся на тын у ворот – и слова молитвы сами легли на губы. Раз за разом князь повторял «Отче наш», вперив взгляд в черный вспученный холм, из которого поднимался белоснежный, словно младенческий зуб, первый зубец новой крепости…
Отец Викентий поспешил князю навстречу, едва Борис вошел в церковь. Кроткий старый священник был смертельно напуган, у него тряслись руки. Он бормотал что-то о гонце в Лавру, молебствии и защите от дьявольских козней. Узнав, что беса привадила Зоя, пообещал отлучить ее вместе с семейством от церкви. А услышав про княжью просьбу, и вовсе пришел в неистовство, затопал ногами и закричал слабым голосом, что без патриаршего благословения о таком святотатстве, бесовской пакости и помыслить-то грешно. Упираясь ладошками в княжью грудь, старик вытолкал Бориса из церкви и громко захлопнул за ним дверь.
Дело запахло скверно. Князь уже осознал, что столкнулся с силой, превышающей и его могуту, и его разумение. О прежних богах, тех, кого скинул в Днепр князь Владимир, он слышал – немного, но слышал. Мелкой нечисти – купалок, полуденниц, леших, гуменников, банников – навидался вволю. Украдкой, мельком, из укромного уголка, но видал, и как шутят они над людьми, и как блазнят, и как по лесу водят легковерного бедолагу. Про вовкулака однажды рассказывал дядька Рагнар – у его батюшки в дружине был норвег, который прыгал через ножи, только он однажды взбесился, пошел грызть лошадей, и его порубала дружина. А вот старые сказки – о жуткой, безглазой Коровьей смерти, о змее-Ящере, о гневливом Перуне-громовержце, о матери Живе и весенних плясунах Лёле с Лелем – казалось, канули в прошлое, растворились по рекам, затерялись в чащобах и глухомани. Как повторяла матушка, кто пшено в горшок сыпал, тому и кашу варить.
– Дай бог светлому князю дожить до ста двадцати лет и ни одного дня из этих лет не печалиться так, как от нынешних горьких забот! – Йошка, похоже, решил, что нашлось подходящее время напомнить о своих должниках. Князь уже дважды выслушивал его пространные, витиеватые жалобы и решение давно принял.
– С Дедюхи Волчка возьмешь свои восемь гривен. Будет рыпаться – скажи, князь приказал платить. С Белоярова дыма – шесть гривен, они надысь двух теляти продали, при деньгах. С Василья Гвоздя – мехами, нету у него серебра. А вдову Ростиславлеву брось. Сам знаешь, брать с нее нечего, а в рабы ни ее, ни детей не отдам.
– Ай, князь, до серебра ли тут, когда в городе суматоха. Как говорил мудрец, маленькому рыбаку достается большая рыба…
– Нет мне дела до твоих мудрецов, нехристь! Получи свои деньги и проваливай с Богом.
– Как говорил мудрец, – Йошка проворно отпрянул, – с поганой собаки и репьи хороши. Беда у тебя, князь, и немалая, разве чудом сумеешь выбраться. Когда ребе Иегуда в Кракове пробовал делать голема[5]5
Голем – глиняный великан, которого, по легенде, создал праведный раввин пражской синагоги ребе Иуда Лев бен Бецалель для защиты еврейского народа.
[Закрыть] и ошибся в пятой букве имени Бога…
– И цидульки[6]6
Цидулька – (разг., шутл.) – письмецо, бумажка, на которой что-нибудь записано.
[Закрыть] твои поганые мне не нужны!!! – рявкнул Борис.
– Замолкаю! Замолкаю и ухожу, – заюлил Йошка, пятясь, – только вспомни, кто сидит настоятелем в Святогоровом монастыре.
Кто сидит настоятелем в Святогоровом монастыре? Семь лет назад столетние стены кое-как укреплял толстобрюхий Геронтий, любитель печеной зайчатины, красного меда и пирогов с грибами. Три года назад чревоугодник утонул в Буге. Новый пастырь прибыл из самого Киева, болтали, мол, с кем-то в Лавре не сошелся характерами. Звали его Евпатий. Прежде чем сесть в обители, монах пешком обошел пол-земли, бывал и в Константинополе, и в Иерусалиме, и в Иордане губы мочил, и на гору Фавор подымался. Бесов он изгонял легионами, больных исцелял божьим словом и за палицу отеческую был не дурак взяться, если кто набегал из Дикого поля… Вот тебя-то мне, батюшка, и надо!!!
Вместо себя в Ладыжине князь оставил Давыда Путятича. Гридня Шупика взял с собою для пущей важности, от Боняки отговориться не смог, и Серко увязался следом – чем не свита? Ехать было неблизко – солнце уже садилось за сосны, когда из-за дальнего поворота блеснуло озеро и показался рубленый монастырь. Был он мал, но выглядел прочным – крепость, не божий дом. И монах, что, зевая, открыл двери нежданным путникам, не походил на смиренного чернеца – тяжелые кулаки, тяжкая поступь и совершенно разбойничья физиономия. Вызвать батюшку настоятеля он наотрез отказался: сейчас служба, потом отец Евпатий почивать будет. С вечери до заутрени он по обету и слова не говорит, так что незачем вам его, чада, тревожить. Коней можете привязать под навесом, почивать лечь в сараюшке, она пустует. Угостить вас, уж извините, нечем, трапеза давно кончилась. Доброй ночи!.. Злой, как оса, Боняка хотел вступить в перебранку, но князь одернул его – будет. Жалует царь, да не жалует псарь – поутру разберемся.
Заутреню князь отстоял вместе с монахами и челядь поднял помолиться – дело, вишь, предстояло нешуточное. В трапезной им, как и прочим, поднесли по миске овсяной каши, даже без хлеба. Келья отца Евпатия, куда провел князя косоглазый чернец – ни дать ни взять половец, – тоже была почти пуста. Голая лавка, полка с книгами да икона со свечкой. Сам настоятель казался огромным – и не потому даже, что отличался высоким ростом и мощью тела. Он словно полнился изнутри некой силой, светился ей. Особенно это было заметно по взгляду – из-под кустистых желто-седых бровей смотрели ясные, словно два родника, глаза. Изумленному Борису вдруг вспомнились синие глаза тура… блазнится! Князь перекрестился, отгоняя наваждение, поцеловал руку пастырю и начал свой рассказ.
Сперва священник слушал невозмутимо, кое-где ухмыляясь в бороду. Мол, дело молодое, поправимое. Дивный сокол, оборотившийся в тура, тоже не удивил, разве что взгляд у пастыря стал внимательнее. Он кивал, одобряя, постукивал пальцем по лавке… и даже побледнел медленно, словно был ранен:
– Что ты бесу велел, сын мой? Повтори, может, я глух от старости?
Борис чуть повысил голос:
– Хочешь взять Зою в жены – прими Христа. И веди сестру под венец в церковь, как положено у добрых людей.
– И он согласился? – отец Евпатий поднялся с лавки, в келье сразу стало тесно.
– Да, отче. Сказал, что крест примет. И стену строить взялся вокруг Ладыжина, – подтвердил Борис.
– Ты хоть понимаешь, что затеял… чадо ты неразумное! Анафемы захотел? Или душу свою не жаль, или город со всем животом? Или хочешь, чтоб старые идолы из травы встали, головы подняли?! Думаешь, все они в Днепре потонули, в дикие чащи изошли?! Ливы[7]7
Ливы – финно-угорское племя, в древности населявшее территорию современной Латвии до пришествия балтийских племен.
[Закрыть] по сю пору Перкунасу[8]8
Перкунас – в балтийской мифологии бог-громовержец, властитель воздуха, молнии, грома, а также податель солнечного света и дождя, защитник справедливости (у славян – Перун).
[Закрыть] рогатому молятся, коней ему режут и огни жгут. А сколько отсюда до Двины-то?!! Эх ты, князь…
Гневный Евпатий мерил шагами келью, зажав в деснице длинные четки, – бусины так и мелькали. У Бориса оставался последний козырь:
– Батюшка, он русич по рождению. Сын княжны переяславской… да хоть бы и сенной девки. Христос сказал ведь, что примет любого – и мытаря, и грешника, и даже разбойника на кресте простил. Если Волх – сын людской, значит, у него душа есть.
– Душа есть… Душа, – вдруг Евпатий остановился, – что ты знаешь о душе, чадо? Каким судом тебя судить будут, каким мои грехи смерят?
– Я знаю, что буду спасен, – просто сказал Борис, – и ты, отче, будешь спасен. А Волха, кроме тебя, никому не спасти.
– То же самое говорил мне один франкский витязь подле Бет-Лехема[9]9
Бет-Лехем – еврейское название Вифлеема.
[Закрыть], умирая от ран. Он лежал и пах гнилью, и черви жрали его плоть. А он все пробовал встать и хрипел, что встанет, ведь если не он, кто спасет Иерусалим, кто пойдет отбивать город у сарацинов[10]10
Сарацины – народ, упоминаемый древнеримскими историками IV века Аммианом Марцеллином и Птоломеем. Кочующее разбойническое племя, бедуины, жившие вдоль границ Сирии. Со времени крестовых походов европейские авторы стали называть сарацинами всех мусульман.
[Закрыть]?!
– И что?
– Он умер. Я засыпал его песком, прочел молитву над телом и воткнул в землю его собственный меч – там даже не было дерева срубить крест. А Иерусалим остался под рукой сарацинского князя Салах ад-Дина[11]11
Салах ад-Дин – полководец и правитель Египта, основатель династии Айюбидов.
[Закрыть], – настоятель остановился у окна кельи и задумчиво глянул вдаль, на гладкое, словно шелк, безмятежное озерцо. Призраки жарких стран и тяжелых походов словно бы окружили его, горячим ветром подуло по маленькой келье. А Борису вдруг представились белопарусные дромоны, и как сам он, словно Святослав на Константинополь, плывет во Святую Землю с верной дружиной Черниговской. И где-то там поднимаются стены Иерусалима – большого, как Киев-град, с златоглавыми церквями и золотыми воротами…
– Хорошо. Я крещу твоего беса. Потом, если живы будем, с сестрой твоей обвенчаю. И чадо их как родится, тоже крещу – кто, кроме меня, согласится? Вместе будем грехи отмаливать, кто здесь не грешен… Когда, говоришь, бес стену пошел ставить?









































