Читать книгу "Остров Рай"
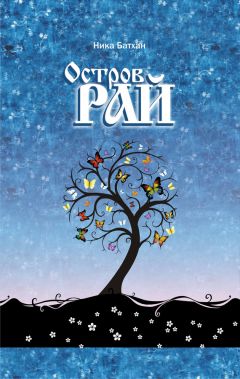
Автор книги: Ника Батхан
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Вчера с рассвета.
– Значит, завтра к закату закончит. Езжай к себе в Ладыжин, князь, и ничего не бойся. Как построит бес стену – вели ему в полдень явиться к церкви. Я к тому времени подоспею. Да, и с сестры своей глаз не спускай и в храме ей вели быть, не пойдет, так силой тащи. Ступай.
У Бориса слегка отлегло от сердца. Пятясь он вышел из кельи и споткнулся о притаившегося Боняку – хитрец все же подслушивал у дверей.
– Уговорил я отца Евпатия. Едем домой. Вели Шупику седлать лошадей, а я пойду помолюсь.
… Князь любил постоять один в пустом, тихом-тихом храме, когда суровые взгляды икон словно смягчаются и можно поговорить с Богом наедине. Встав на колени, Борис покаялся, что пожелал было сестре смерти, гневался попусту на людей, попросил смирить злую гордыню, что влекла его из малого Ладыжина к большим делам. Прохлада храма успокоила его, словно ладонь матери легла на воспаленный лоб, но стоило выйти во двор, как тоска зашевелилась снова. По дороге назад князь молчал, даже шутки Боняки его раздражали. Мысль о величии словно плеснула кислотой в душу. Ему двадцать пять. Святослав в эти годы ходил в Константинополь, князь Владимир крестил Киев. А ему, Борису Романовичу, светит подымать Ладыжин и молиться, чтобы город встал на ноги, прокормил его род, дал корень в землю. Почему не пойти против старших братьев за Черниговский стол или хоть бы податься к чехам, ромеям, свирепым франкам – бранной славы искать? Мечом отбить себе жаркую, изможденную землю, караулить ночами поля, ожидая набега кочевников, мечом высекать искры из желтых стен и падать перед иконами на колени – в еще не просохшую кровь. Чтобы не три десятка – сто, двести, тысяча воинов славной дружины шли следом и, стуча мечами в щиты, громыхали «Бо-рис! Бо-рис!». Чтобы увидеть, как разрезают море белопарусные дромоны, как усталое солнце садится за белые шапки гор, как идет по траве зверь-гора олифант, а над ним парит огнекрылое чудо жар-птица. Чтоб добраться до края земли, как Александр Великий… взгляд князя уперся в черный блестящий комок почвы, прилипший к копыту коня… Вот она, твоя земля, князь. Ее тебе поднимать, ее сторожить, ее кровью своей поить, чтобы лучше родила…
Доехать засветло не успели, заночевали в лесу. Солнце уже светило вовсю, когда князь со свитой приблизились к городу. Белые стены Ладыжина были видны издалека – словно кубики льда, сложенные для детского баловства, но от детских игрушек не веет такой угрозой. Князь некстати подумал, что не хотел бы теперь штурмом брать собственный город – разве если пороки делать и ворота ломать. А вот жителей – и дружинников, и челядь, и смердов, и даже баб – новое укрепление почему-то не радовало. Купец Йошка удрал в свой Галич, не собрав половину долгов, кое-кто из холопов тоже хотел податься в бега, но Давыду Путятичу где кулаком, где словом удалось увещевать трусов. По дороге до княжьих палат к Борису подошло не меньше двух десятков просителей, и всем он отвечал одно и то же: приедет отец Евпатий из Святогоровой обители, благословит стены, беса покрестит к вящей славе Бога и Ладыжина, и все будет хорошо. В покоях он заперся у себя, велел подать вина с пряниками и до вечера не беспокоить без надобности. И без того душу князя снедало неуемное беспокойство, он волновался, как в четырнадцать лет перед первой битвой. Растянувшись на лавке, Борис попробовал было взяться за переплетенную в сафьян, ветхую «Александрию», но подвиги великого царя не отвлекли, слова не шли на ум. Хорошо бы зарыться лицом в мягкое и податливое бабье тепло, позабыть обо всем, хлебнуть сладости… и гадать потом, глядя на рыжего, черноглазого сына дворовой рабыни «мой – не мой», а ведь всех-то в покои не приберешь. Чуть подумав, князь кликнул Боняку, приказал расставить тавлеи и сел двигать фигуры. Обычно раб обыгрывал повелителя девять раз из десяти, но тут – не иначе от злости – Борис трижды подряд загнал в ловушку забавника, принуждая того сдаваться…
Дело близилось к вечеру – вот и закат коснулся крылом воды Буга-батюшки.
… Борис оделся как на княжью охоту – простые льняные порты, мягкие, кожаные, богато расшитые жемчугом сапоги, шелковая нижняя сорочка, алый кафтан с оплечьями и золотой каймой, шелковый вышитый пояс и шапка, отороченная бобром. Из оружия – тот же любимый нож, еще дедов, с волчьей мордой у рукояти, и перчатка-кистень со свинцовыми бляхами. Из запаса – краюху хлеба да малую флягу вина. А вот мечом опоясываться не след – вряд ли князя ждет битва. И исповедаться рановато – Бог даст, вернусь живым, тогда разом за все грехи разочтусь. Боняка крутился рядом понурый, как пес, которого не берут на прогулку. Еще пять зим назад, когда Галицкий князь воевал Чернигов и Борис с дружиной ушли на сечу под стягом старшего Романовича, был у них уговор: случись что с князем, забавник подастся к Янке, беречь ее и дочурок. Ладно, с Богом. Отогнав тревожные мысли, Борис присел напоследок на лавку, встал, перекрестился, поклонился в пояс иконе Бориса и Глеба и пошел к бесу – принимать виру.
Крепость, за три дня выросшая вокруг Ладыжинского детинца, была прекрасна. Двое ворот, четыре стройные башни с бойницами, широкий ров, отводящий течение Буга так, что город оказывался на острове, аккуратный наборный мост через текучую воду – поутру ни моста, ни рва еще не было. Чтобы держать оборону такой махины по всем правилам тактики, нужно было не меньше сотни бойцов… Ну, положим, горожанам можно дать луки, а под защиту белокаменных стен люд потянется быстро. Бог ты мой, с такой крепостью можно вправду собирать вотчину, кормить большую дружину и не бояться ни половца, ни голодного степняка. И палаты поставить каменные, и церковь, и мастеровых завести, и сыну (а Янка непременнейше родит сына) оставить в наследство богатый и крепкий город. И на степь выйти с развернутым стягом, и отправиться в Константинополь за богатой добычей, и тысяча воинов за плечами «Бо-рис! Бо-рис!»…
– Борис Романович, все по твоему слову, – невесть откуда появившийся Волх обвел широким взмахом руки могучие стены: – Вот тебе кремль ладыжинский. Ни огонь, ни вода, ни железо, ни дерево не возьмут крепость. Только ложь и обман сокрушат здесь врата, запомни, князь! Только ложь и обман!!!
Князь увидел, как зашептались дружинники, как холоп дал подзатыльник мальчишке – запоминай.
– Только ложь и обман. Запомню и детям своим заповедаю. Благодарствую за труд, Волх, и принимаю виру, нет больше между нами обид.
– А теперь пойдем со мной, князь ладыжинский. Твою землю я уже видел, взгляни напоследок и на мое княжество. Только не обессудь – я тебе глаза завяжу.
Борис услышал, как загудела дружина – точь-в-точь пчелы, почуяв медведя у борти, – и кивнул Давыду Путятичу: уводи гридней. Волх ждал. Когда последний человек скрылся за воротами, он достал из кармана синюю ленту. Князь бесстрашно подставил лицо. Сперва ему показалось, что он потеряет зрение, – прикосновение ткани было острым, болезненным. Волх сильно взял князя за руку и повел – как ребенка или слепца. «Так, должно быть, водили князя Василька, ослепленного братьями», – подумалось вдруг Борису. На какое-то время он сосредоточился на простых мелочах: как идти, как поставить ногу, что на дороге – корень, грязь, камень. Ощущения обострились – он чувствовал каждую шишку, ветку, неровность почвы, еловую лапу у плеча, мягкий листок березы, коснувшийся щеки, хлопанье птичьих крыльев над головой. Теплый яблочный ветер коснулся его лица. Из-под ног порскнула зазевавшаяся лягушка. Запищала мелкая птаха в кустах. Кто-то грузный заворочался в чаще леса. Засмеялся серебряный малый ручей. Заблестели первые звезды на чистом небе… Князь почувствовал, что видит сквозь тонкую ткань, видит даже яснее, чем днем при свете. Они были в березовой роще, стволы светились, землю словно покрыло жемчугом… да нет же, это стайки подснежников рассыпались по траве. А над цветами, не касаясь босыми ногами земли, кружили девушки в белых летниках и рубахах, вели неспешно свой хоровод. Князь видел, как шевелятся губы берегинь, как собирается песня:
… Ай, лёли-лели,
Гуси летели,
За море сине
Весну уносили.
Ай, лели-лёли,
Волки на воле
Пастуха рвали,
Овец воровали.
Ай, лёли-лели,
Девицы пели,
Кругом ходили,
Весну проводили…
– Смотри, князь, – громыхнул голос Волха, – смотри, когда еще такое узришь.
У берега Сальницы в карауле стояли тени – молодой гридень в порубленном шлеме и пробитой кольчуге, старик с топором и юная женщина с вилами. Они беззвучно поклонились Борису, не сходя с места. Не долго думая, князь ответил им поклоном.
– Это бродяники, князь. Давно, еще до варягов, они здесь живьем жили. Пришли булгары, пожгли деревню, весь род побили. Почитай все мертвые в Ирий поднялись, а эти слишком ненавидели, когда гибли. Вот и остались сторожами. Если враг к Ладыжину приступит – они его в трясины заводить будут и реки на пути разливать… Ты смотри, смотри.
Подле Бурлячей болотины князь едва удержался от смеха – пожилая плешивая лешачиха вывела на прогулку махоньких, шустреньких лешачат – кто на ежонка похож, кто на лисенка, кто на щенка. Бойкие бесенята носились друг за дружкой по кочкам, кувыркались на мху, брызгались мутной водой из лужи, дрались из-за прошлогодних брусничин и листиков заячьей капусты и мирились, умилительно вытянув рыльца навстречу друг другу. Мать (или бабка) похрапывала на пригорке, изредка отвешивала затрещину чересчур расшумевшимся отпрыскам или гладила по голове отчаянно ревущего лешачонка, утирала ему слезы и сопли… Мелкая мошка залетела Борису в ноздрю, он чихнул – и сей же миг ни следа лешачьей семейки не осталось на кочках.
На другом берегу реки, там, где сосны стоят обвитые сочным хмелем до самых крон, к ним навстречу вышли косули. Просто звери – доверчивые, живые, подставляющие спинки и шеи, осторожно снимающие губами подсоленный хлеб с ладони. Князь гладил теплые уши, покатые лбы, дивился на нежные, почти девичьи глаза с загнутыми ресницами. Косуля – добыча, вкусное мясо, он помнил. Но сейчас ему показалось, что он больше не сможет травить собаками это лесное чудо, всаживать нож в беззащитную грудь – а вдруг именно этот зверь брал хлеб у меня с руки.
Хмурый взгляд неприятно-желтых светящихся глаз едва не напугал князя. Кто-то большой, злобный поселился посреди бурелома и ворчал там, косился на прохожих недобро, хрустел, разгрызая кости, чем-то противно чмокал. Волх цыкнул туда, погрозил кулаком:
– Упырь проснулся. Голодный весной, а сил, чтобы крупную дичь завалить, нет. Вон, заволок себе падаль какую-то и жует помаленьку. Был бы ты тут один, князь, мог бы и не вернуться в свой Ладыжин.
У протоки, где крутой берег Сальницы бросал в речку длинную песчаную косу, в воде резвилась целая толпа водяниц – острогрудых, пригожих, сладеньких. Они мыли друг другу длинные волосы, плели венки из первых желтых лилий, плавали вперегонки или просто качались в волнах, улыбаясь звездам. Чужие люди сперва всполошили их – красавицы с визгом бросились прятаться кто в воду, кто в заросли камыша. Но потом водяницы осмелели, стали выглядывать из укрытий, строить глазки и нежными голосами зазывать гостей искупаться и поласкаться.
– Хочешь к ним? – насмешливо спросил Волх. – Пошли… окунемся. При мне не обидят, не защекочут.
Красный, как рак, Борис отрицательно помотал головой.
– И правильно, – согласился Волх, – они только с виду красивые. А сами холодные, как лягушки, и радости никакой.
Тропинка протекла через поле и остановилась у самой границы величавой дубовой рощи. Уставший, трудно дышащий Волх усадил князя на большой пень подле старого кострища, пошарил по кустам, добыл изрядную груду хвороста… И запел. Постукивая пальцами по углям, затянул какую-то длинную песню без слов. То ли жаловался Волх, то ли печалился, то ли звал кого низким переливчатым голосом. Князь почти задремал, когда пронзительный свет ударил в глаза. На разлапистой груде хвороста преспокойно сидела жар-птица. Небольшая, размером чуть больше хорошего петуха, с длинным пышным хвостом и малюсенькой остроклювой головкой. Она переступала с лапки на лапку, вертела носом – совсем как голубь, который просит об угощении. От оперения расползались мелкие искры, хворост уже занялся. Волх зыркнул на Бориса, тот попробовал вспомнить обычай жар-птиц, но бесстыжая птаха его опередила. Хлопая крыльями, подлетела к самому лицу, прицельно клюнула в оплечье, сглотнула гранат и взмыла в небо – потанцевать, покрасоваться под облаками. Тронув маленький ожог на носу, князь порадовался, что брил бороду и усы по византийскому обычаю – иначе быть бы ему паленым.
– Мало кто из крещеных видал то, что ты нынче. А тебе открылась дай бог сотая доля того, что можно увидеть. Алконост прячется, Сирин спит, из звериных хозяев никто не вышел – ни Кабан, ни Волчиха, ни Тур. Полуденницы по ночам таятся, дедушка Водяной по весне в озере на самом донце хвостом воду мутит, Индрик-зверь только летом в наши края забредает, Пчелиная Матка от роя далеко не отходит, – усталый Волх прилег у костра, бородой к небу.
– Благодарствую, Волх… – князь замялся – язык не поворачивался проговорить «Ящерович». – А ответь мне как родич родичу, благо вскоре мы породнимся…
– Давай, – согласился Волх.
– Если ты владеешь столь чудным, прекрасным княжеством, зачем тебе становиться просто зятем Бориса из Ладыжина?
– Знал, что ты это спросишь. У тебя выпить есть? – Волх приподнялся на локте.
Веселие Руси есть питие – прав был князь Владимир. А если невесело, тем паче без вина не обойтись. Заветная фляга полетела через костер, Волх ловко поймал ее.
– Знаешь, как погиб мой отец, Старый Ящер? Добрыня Никитич бился с ним три дня и три ночи. А потом затравил раненного собаками, словно зверя.
– И ты не отомстил? – удивился Борис.
– Я б его сам убил. По крайней мере попробовал. Злой стал Ящер, до крови жадный, до буйства неутолимый. Как почуял, что сила тает, власть из когтей уходит, яриться стал без причины, убивать почем зря. Матушку мою замучил… Она рассказывала, по молодости Змей веселый был, удалой, бесшабашный. На спине ее, девку, катал, сине небо показывал, чудеса небывалые. А под старость вот озверел, – Волх швырнул князю полупустую флягу. – И я тоже почувствовал, что зверею.
– Почему?
– Сила исконная во мне тает. Земля из-под ног уходит. Поговорить не с кем – я почувствовал вдруг, что забываю человечью речь. Там, откуда уходит мудрость, поселяется злоба, – Волх помедлил: – А еще я хочу, чтобы у меня были дети, которых никто не станет травить собаками.
И умереть не в какой-нибудь дикой щели, а на своей лавке в своих покоях, чтобы сын мне глаза закрыл. Вино вышло?
Борис кивнул. Тяжелый Волх поднялся на ноги, отошел к дальнему пню, пошарил там под корнями и выкатил темный от старости мелкий бочонок.
– Мед гречишный, столетний. К своей свадьбе берег – вот и выпьем, брат. Ты же братом мне теперь будешь, а, князь? Знаю, у князей брат брату враг хуже змея лютого может стать. Ты не бойся… землей родной поклянусь, водой ключевой, жизнью своей – никогда злоумышлять против тебя и рода твоего не стану. Пей!
В руки Борису лег прохладный деревянный ковшик. Такого меда он никогда не пробовал – кисловатый, чуть терпкий, пахнущий летом, он смягчал душу и целил сердце. Стало спокойно, отступили заботы, словно спал княжий венец. Очень давно не случалось Борису просто сидеть у огня – не охотиться, не сторожить добычу, не спешить в погоню или возвращаться с кровавой сечи – просто сидеть и смотреть, как пляшут по сухим веткам языки пламени. Ночь текла, словно сладкое молоко по Чумацкому шляху, круглые звезды то прятались за вуалями облаков, то, прищурясь, смотрели вниз. От земли пахло свежестью, молодая трава была мягкой на ощупь, сильные корни поднимали к поверхности влагу жизни. Пролетела сова и ворчливо заухала в чаще, ей откликнулся чем-то разбуженный ворон. Проходя к водопою, захрустели валежником отощавшие кабаны. Водяная лошадка подняла из реки белую голову и промчалась по сонной поляне, оставляя мокрый след на траве… Князь лег навзничь на землю – ему хотелось увидеть небо как можно полней, подняться ввысь к недостижимым звездам, в глубокую синь…
– Пора, брат, – тяжелая ладонь Волха легла на плечо, – рассветает. Закрой глаза.
Князь послушно зажмурился. Волх осторожно развязал ленту. Тусклый утренний свет резанул по глазам до слез, мир, казалось, стал серым и плоским…
– Это туман. Просто туман. Ступай по тропке, через Сальницу – по мосткам, бродом мимо водяниц не ходи. Вот, держи, – Волх бросил оземь пушистый клубок, – выведет. Значит, говоришь, к полудню в церковь?
– Да, к полудню, – ответил изумленный Борис. Он точно помнил, что не успел сказать Волху, когда его ждут в Ладыжине.
– Я приду, – Волх поклонился князю, грянулся оземь и взмыл вверх серым соколом. Тотчас клубок запрыгал, словно собачка, и покатился по тропке. Борис пошел следом. Утренний воздух был прохладен и влажен, кафтан промок от росы, стало зябко. Густой туман клубился вдоль стволов сосен, стекал с белых берез, вставал над текучей водой, мешая видеть, – или то пропадало колдовское действие ленты. Думая о своем, князь шел быстро, едва поспевал за шустрым клубком… мимо поля, вдоль левого берега речки, мимо старого вяза с расщепленною вершиной, мимо ветхих мостков… стой!
– Клубочек-клубочек, а куда это ты меня ведешь? – ошарашенно спросил князь. Он точно знал: надо было сворачивать на мостки. Цепкая память сохранила до мельчайших примет весь вчерашний путь… а клубочек, по-прежнему бодро подпрыгивая, манил вдаль – в омут к проказливым водяницам. Ядовитая мысль пронеслась в голове: «Волх, змея, предал»… Нет, если б чудищу хотелось убить – он бы убил ночью, пока князь спал. Кто-то другой морочит голову, бесовским наваждением сбивает с пути. Князь размашисто перекрестился и прочел молитву, спокойно и четко выговаривая каждое слово. На последнем «аминь» клубок рассыпался роем ос. Борис бросился в реку. Быстро переплыв Сальницу, он поднялся по глинистому обрыву, цепляясь за корни деревьев, и заспешил к Ладыжину, не полагаясь больше на тропы, – звериное чутье бывалого воина помогло ему определить направление. Небо так и не посветлело, начал накрапывать дождь, все сильней и сильней. Вдрызг размокшие сапоги пришлось снять, князь шагал босиком через лужи, оскользался на цепкой траве, падал в грязь и снова вставал. Он уже начал было опасаться, что заплутает, но, по счастью, ветер донес до Бориса дальний перезвон колоколов.
Белые стены Ладыжина окружала вода. Ров раздулся, волны грозили смыть мост и подточить рукотворный остров. Князь пробежал по скользким бревнам и заколотил кулаком в ворота. Ему открыли тотчас. Не ожидая вопроса, гридень доложил, что приехал отец Евпатий с чудотворной иконой, что с рассвета в церкви не прекращается служба, что все младенцы в Ладыжине заходятся плачем, собаки попрятались по дворам, а коровы не дают бабам себя доить. Князь как был – босой, мокрый, облепленный грязью – поспешил в храм Софии. Сразу от двери он увидел, как бьет поклоны отец Викентий: стоя перед иконой, старик читал какой-то длинный канон по-гречески. Всюду горели свечи – больше даже, чем на светлую Пасху. У отца Евпатия был усталый и озабоченный вид. Длинные четки, которые князь запомнил с последней встречи, быстро-быстро щелкали бусинами, прокручиваясь в сильных пальцах монаха.
– Ну, чадо неразумное, видишь теперь, в какие бирюльки играть собрался? – хмуро бросил Евпатий. – Ступай к себе, переоденься, поешь. Силы тебе понадобятся – сторожем будешь своему Волху. Везет как утопленнику этому бесу, глядишь, и впрямь дело Богу угодное делаем.
Надо бы исповедаться, – мельком подумал Борис, но настаивать не стал. В покоях он первым делом велел Боняке затопить баню, чтобы согреться и смыть грязь. Мылся быстро, без обычного удовольствия, после бани переоделся в неношеную рубаху и простые порты. Есть не стал – показалось, так правильней. За окном все лил и лил дождь, полыхали зарницы, ворочался гром, бил по крышам свирепый ветер. Князю было не страшно, точнее, «страшно» было неверным словом. Боялся ли Ной потопа, слыша, как стучит ливень по крыше его ковчега? Сила пошла на силу, воля на волю, и он, Борис Ладыжинский, был одной из фигурок в божьих тавлеях – неважно, снесут ли его с доски или дадут устоять, судьба партии определится на другом краю. Песок в часах пересыпался – время. Князь послал за сестрой и отправился в церковь сам. Он шел медленно, стылый дождь бил его по щекам, мочил рыжие кудри, пробирался за пазуху. На колокольне Софии не умолкали колокола – слепой звонарь трудился вовсю. Князь увидел отца Евпатия – стоя на самом крыльце храма монах вглядывался в горизонт…
– Летит! Ах ты, выгребок, напоследок решил покуражиться! Вон он, твой сокол, князь!!!
Прикрывая лицо ладонью, Борис глянул на небо – там били молнии, одна за одной, словно белые копья. А между ними мелькали серые крылья – сокол шел наперерез ветру. Это было немыслимо сделать. Невозможно. Никак. Но птица резала воздух, уворачивалась от карающих бичей неба и продвигалась все ближе к цели… Яркая вспышка озарила улицу, раздался хриплый, мучительный крик. Борис не задумываясь рванулся вперед – и грянулся оземь от удара птичьего тела. Гридни бросились поднимать, но Борис успел встать на ноги сам. И Волх тоже поднялся, – измученный, мокрый, с алым рубцом ожога через всю грудь.
– В храм! Скорее! – крикнул Евпатий и кинулся на помощь. Они с Борисом подхватили Волха под белы руки и повели, верней сказать, потащили к церкви. Князь слышал, как тяжело, хрипло дышит чудище и как задыхается, надрывая силы, монах… В одиночку б не вышло поднять грузное тело. Молния ударила возле крыльца, но двери уже захлопнулись. Купель была готова. Волха шатало, пришлось помочь ему разоблачиться. Мельком взглянув на сестру, князь увидел, что Зоя бледна и еле держится на ногах, – кабы не скинула плод прямо в церкви.
– Держи его, князь. Если кого из нас порешит, убей, – резко сказал Евпатий и отвернулся: – Братие, время!
Отец Викентий возвысил голос:
– Создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою…
Борис видел, как исказилось страданием лицо Волха, как налились кровью глаза, розоватая пена появилась на губах, как сжались пудовые кулаки. Отец Викентий молился, отец Евпатий совершал таинство – медленно, строго. Глаза монаха блестели, словно светлые звезды, – и вправду были похожи на синие очи тура. Голос громыхал, заполнял собой купол:
– Отрицаеши ли ся сатаны, и всех дел его, и всех аггел его, и всего служения его, и всея гордыни его?
Волх плюнул на пол:
– Отрицаюся!
Вместо старого человека встал серый сокол.
– Отрицаеши ли ся сатаны и всех дел его, и всех аггел его, и всего служения его, и всея гордыни?
Птичий крик был ответом, сокол харкнул кровавым и обратился в огромного тура.
– Отрицаеши ли ся сатаны и всех дел его?
Синий тур не двинулся с места. Он скрестил взор с монахом, как скрещивают мечи. Мгновения текли, было слышно только, как хрипло вздымаются бока зверя, бьет о крышу бешеный ливень да неумолчно, размеренно звенит колокол. Гневом полнились синие глаза, гневом стихии, в которой не было ничего человеческого. Покоем правды сияли пронзительно голубые глаза, родниковой прозрачной ясностью. Сила на силу. Пальцы сами нашарили нож, Борис помнил – тура надо бить в шею, как закалывают быка. Если Волх бросится… Гридни не успели удержать Зою. Тонкая девичья фигура закрыла собой священника:
– Хочешь бить – меня бей!!!
В ответ ударила молния, храм содрогнулся. С улицы закричали разноголосьем:
– Церковь горит!
Тур склонил круторогую голову, плюнул на деревянные доски и упал, преобразясь в человека. Еле слышно зашептал «Отче наш…» Отец Евпатий перекрестился:
– Быстро!!!
Борис кивнул, и гридни под руки потащили наружу упирающуюся Зою. Волх уже был в купели, стоять он не мог. Дым пополз из-под купола.
– Крещается раб божий… раб божий Василий. Во имя отца! Аминь. Сына! Аминь. И святого духа! Аминь!
Монах зашарил рукою в воздухе. Отец Викентий протянул ему крестик на гайтане. Волх покорно подставил шею… и упал спиной в воду, теряя сознание. Князь и отец Евпатий вытащили большое, обвисшее тело, монах выстриг крестообразную прядку и помазал новокрещеного миром. Борис все поглядывал вверх, боясь, не обрушится ли на них полыхающий купол, но дым словно бы таял в воздухе и вскорости выветрился совсем. Шум дождя тоже смолк. Князь упал на колени, повторяя благодарственные слова молитвы. Словно в ответ, луч солнца пробился сквозь церковное оконце, и тут же Волх-Василий открыл глаза. Князь поразился его взгляду – так смотрит только-только объезженный конь, впервые узнавший человечью властную руку.
– Кто ты теперь?
– Я раб божий Василий. Раньше звали Серым Волхом из Ладыжинской пущи. Я помню тебя, брат. Я выполнил свое обещание, теперь ты выполняй свое.
– Погоди три денечка со свадьбой, сын мой, если не хочешь молодую жену раньше срока вдовой оставить. Отлежаться тебе надо, отдышаться, привыкнуть. Уж поверь мне, нелегкое это дело – душу менять, – Евпатий смотрел сочувственно, даже ласково.
– Я свое слово сдержу, – подтвердил Борис, – встанешь на ноги – и венчайся. Покои тебе поставим, приданое сестре соберем. А пока будь моим гостем.
– Благодарствую, князь…
Князь с крыльца крикнул гридней – отнести изнемогшего Василия в его покои, выделить горницу и челядинца в услужение, пока на ноги княжий зять сам не встанет. Отца Викентия тоже пришлось нести – старика священника не держали ноги. Счастливая Зоя, увидев, что любый жив, ушла сама – сил у нее прибавилось и глаза заблестели. У могучего отца Евпатия еще хватило сил обойти новый ладыжинский кремль крестным ходом, во главе всех честных христиан. Он благословлял белые стены, чтобы берегли и хранили князя, княгиню, дружину, честных людей, их жен, детей, скот и имущество. Князь покорно ходил следом за пастырем. Все кончилось. Кончилось так хорошо, как не могло бы привидеться и в самом добром сне. У сестры будет счастье, у Волха – спасение, у него, Бориса Ладыжинского, – белокаменный кремль с неприступными укреплениями. Отчего же непокой точит душу?
Завершив крестный ход, отец Евпатий тотчас велел подать свою лошадь, чтобы ехать назад, в Святогоров монастырь. От провожатых наотрез отказался – кто тронет настоятеля монастыря? А кто тронет – того и палицей по-отечески поучить можно. Напоследок монах наказал тотчас слать за ним, когда Зоя начнет рожать, а до родов глаз с нее не спускать – мало ли кто нечистый на ребенка позарится. Князь дождался, пока копыта каурой монастырской кобылы простучат по мосту, убедился, что город мирно готовится отойти ко сну, и отправился на свое любимое место к Бугу. Он любил посидеть у корней вывороченной березы, глядя, как тает в воде закат, как гоняются рыбы за крошками солнца. Верный Боняка осторожно прокрался следом, Борис чувствовал, что раб рядом, но не спешил его гнать. Князю думалось вязко, тяжеловесно. Стало ясным одно: мир уже не будет прежним, словно шустрая фишка тавлей соскочила с доски и укатилась в душистую пестроту луга. Что еще скажет Янка и поверит ли сказу про ясна сокола, как удастся объясниться с Даниилом Бельцским, не начнется ли война раньше, чем он успеет собрать дружину, кто родится у Зои и успеем ли уследить… Мысли путались, переплетались, словно глупая бабья кудель. «Только ложь и обман», – вспомнил князь слова Волха и улыбнулся. Коль одна эта напасть угрожает Ладыжину, до скончания лет вражья лапа не ступит в город. У него есть и будут верные слуги, преданные друзья, любящие родные… Пусть свирепые братья грызутся между собой, он, Борис, твердо помнит: негоже русичу на русича заносить меч. Тем паче на кровного своего. Если же придут половцы или булгаре, или немецкие витязи добредут до ладыжинских земель – их теперь есть чем встретить. Честным пирком да за красную свадебку, сва-деб-ку… Медно-рыжая голова князя упала на руки, он уснул. Выждав немного, верный Боняка подкрался к Борису, заботливо укутал его синим плащом, сел рядышком и насторожил самострел. Раб сидел до рассвета, напряженный и чуткий, как сторожевой пес, точно зная: пока он жив, господина никто не тронет. Временами он нюхал воздух и удивлялся – майский ветер пах степью, лошадиным навозом и дымом горьких, чужих костров.
Спустя двадцать четыре года, в мае 1240, татарское войско хана Батыя, проходя по черниговским землям, осадило Ладыжин. Семь недель белокаменный кремль не поддавался ни штурмовым лестницам, ни стенобитным машинам. Отчаявшись взять город силой, татары отправили гонцов к князю Борису Романовичу, суля живот, пощаду и милосердие, если город сдадут добровольно. Старый князь отказал, но горожане, изнемогшие от войны, настояли послушать татар и открыли ворота, дабы встретить Батыя дарами. Князь Борис Ладыжинский, его племянник Евпатий Васильевич и ближняя челядь затворились в каменной церкви и бились насмерть. Ладыжин был сожжен дотла.









































