Читать книгу "Игра на выживание"
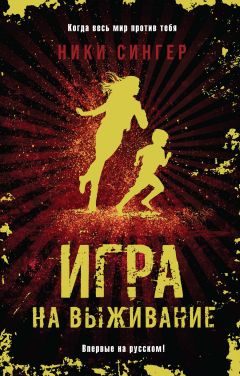
Автор книги: Ники Сингер
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
28
Грузовик
От этого его смеха мне хочется выхватить нож – плевать на винтовку – и вонзить ему в горло. Но я этого не делаю. Выживание – это не то, что первым приходит в голову. Выживание – не импульсивное действие, выживание – игра с дальним прицелом.
Я не сопротивляюсь и послушно поднимаюсь на следующий ярус склона. И вот она – дорога. На обочине стоит грузовик, а рядом с ним – солдаты в синей форме с эмблемой Андреевского флага на груди. Ведут себя непринужденно, курят, перебрасываются шутками. Сигареты пахнут табаком. В Судане солдаты могли курить табак, а могли и марихуану из Индии. Они могли пить сок из сахарного тростника или опиум. От всего этого глаза у них становились бешеными, и они были рады любому поводу пострелять. Так что табак – это хорошо.
Солдаты (курящие табак) откидывают задний борт грузовика и стволами винтовок подталкивают нас с мальчиком, чтобы забирались в фургон. Внутри уже очень много людей, и все они сидят в клетках. Клетки кое-как сделаны из досок и мелкой проволочной сетки, но от этого они не перестают быть клетками. В клетках сидят мужчины, женщины, подростки и совсем маленькие дети. Один из малышей плачет. Не громко плачет, а тихо хнычет. Он будто бы знает, что капризничать нет смысла, но просто не может остановиться, и слезы текут сами собой. А так в фургоне тихо. Тихо, потому что всем страшно. По периметру клеток – низкие, сколоченные из досок лавки. Те, кому повезло, сидят на лавках. Они сидят, опустив голову, как будто им стыдно оттого, что у них появилась возможность немного передохнуть. В клетках для мужчин (в фургоне мужчин гораздо больше, чем женщин) вообще яблоку негде упасть. Кто-то сидит на полу, кто-то стоит, лечь нет никакой возможности.
Один солдат открывает клетку с женщинами и детьми. Когда мы заходим, женщины кивают, но не произносят ни слова. Мы садимся на пол, и одновременно я слышу, как поднимают и закрывают задний борт грузовика. И только тогда я понимаю, что в фургоне нет окон. Снаружи день не казался таким уж теплым, но внутри фургона жарко и душно. И темно. А еще здесь пахнет. Сомневаюсь, что люди в этом грузовике имели возможность нормально помыться в последние несколько дней или недель. Может, даже последние несколько месяцев. Но дело не в запахе. То есть не в том, что в фургоне пахнет рыбой и потом. Здесь стоит вонь людей, которых не выпускали из фургона по нужде. Эти люди мочились под себя, в штаны, или в угол клетки.
Это – запах стыда.
Но похоже, нам повезло. Клетки заполнены, и день заканчивается. Кто-то стучит кулаком по борту грузовика. Урчит двигатель. Мы едем.
Я начинаю отсчет. Если дорога долгая, считать нет смысла. А если нет, то я смогу приблизительно вычислить, какое расстояние мы проехали. Подсчет веду так: считаю до шестидесяти и фиксирую первую минуту на себе – просто коснувшись какой-нибудь части тела. А потом снова начинаю считать. Пальцы на руках, соответственно, – первые десять минут. Обычно я начинаю с правой руки. Если идет одиннадцатая минута, я прикасаюсь ко лбу. Двенадцатая и тринадцатая – брови. Четырнадцатая и пятнадцатая – глаза. И так дальше: уши, щеки (всегда сначала правая), нос, верхняя губа, нижняя губа, подбородок. Если дохожу до шеи, значит прошло двадцать две минуты.
Грузовик останавливается, когда я дотрагиваюсь до левой груди. Двадцать восьмая минута.
Задний борт откидывают. Мы все выдыхаем и вдыхаем свежий воздух. Даже малыш перестает хныкать.
– Пункт регистрации номер один! – выкрикивает один солдат. – Мужчины на выход!
Солдаты остаются на дороге, а в фургон заходят три охранника в бронежилетах и шлемах. Они не вооружены, но у них дубинки. Щитки на шлемах подняты.
– Все мужчины на выход!
Мужчины, которые сидели на полу, встают. Но не все. Думаю, сидеть остались те, кто не понимает английский.
– Встать! – орет один из охранников на оцепеневшего от страха мужчину, как будто криком можно решить проблему. – ВСТАТЬ!!!
Я прошла через это в пустыне, тогда солдаты остановили нас в четвертый раз. Когда мы не сделали то, что они от нас требовали (потому что не понимали, чего от нас хотят), они срывались на крик.
Они на нас орали.
Это жутко, когда на тебя орут на языке, который ты не понимаешь. Особенно страшно, когда на тебя орут на языке вроде арабского. Для иностранца слова на арабском могут показаться грубыми, хотя в переводе они вовсе не грубые. Страх нарастает, когда нет обратной связи. Когда ты не можешь ничего объяснить, не можешь уговорить или упросить.
Не можешь даже взмолиться.
Сначала мы подумали, что солдаты хотят от нас того, что и все солдаты на пропускных пунктах. Денег. Нас уже не первый раз останавливали на дороге от Хартума. Такие остановки были в порядке вещей еще до чрезвычайного положения. Наш шофер, отец Мохаммеда, он понимал язык солдат и хорошо знал, что надо делать.
На первом посту нас оштрафовали за превышение скорости.
«Мы превысили скорость?» – удивилась мама, когда отец Мохаммеда сел обратно в машину.
«Конечно превысили, – ответил отец Мохаммеда. – На этой дороге все превышают».
«Это почему? Какой здесь скоростной режим?»
Отец Мохаммеда рассмеялся:
«Это зависит от того, сколько, по их мнению, у вас денег».
В тот день получалось, что чем дальше мы ехали на север, тем чаще превышали скорость. И переговоры с солдатами занимали все больше времени. На четвертом пропускном пункте отец Мохаммеда вышел поговорить с солдатами и не возвращался целых двадцать минут.
И именно тогда мама, поглядывая в окно, сказала те роковые слова:
«Никогда раньше не видела, чтобы на пропускных пунктах солдаты были вооружены „хищниками“. Обычно их используют во время боевых действий».
«А я, – сказал папа, – никогда раньше не видел ребенка с „хищником“ в руках. Посмотри на него. Ему же не больше четырнадцати».
Не больше четырнадцати. А мне четырнадцать. Я внимательнее присмотрелась к тому солдату. Как я уже говорила, в наступившие времена трудно определить возраст человека, но тот долговязый и немного растерянный парень действительно был скорее мальчишкой. Он был похож на только появившегося на свет жирафенка, который встал на ноги, но еще не знает, как ходить. Мужчины – взрослые мужчины – зашли в белую дощатую будку для ведения переговоров, и паренек остался один. Он не знал, чем себя занять, и было видно, что он не понимает, в чем его задача как солдата. Защищать кого-то? Охранять? Или убить? Никакой самоуверенности, никакой развязности, только смутное ощущение тревоги. Он даже как-то ссутулился, когда заметил, что я за ним наблюдаю, как будто груз магазинов с патронами давил ему на плечи.
Десятилетний Мохаммед (он тогда с нами поехал только потому, что в деревне у границы жили его дедушка с бабушкой, и они с папой планировали у них заночевать) попросился в туалет. Ну или пописать в песок.
«Думаю, будет лучше, если ты подождешь, пока не вернется твой папа», – сказала мама.
И он ждал. Мы ждали. Было жарко, нам все это надоело, но нам не было страшно. А потом в постовой будке поднялся крик. Но это тоже нас не напугало и даже не удивило. Мы понимали – это тактика солдат на переговорах. Во всяком случае, мы так думали. Но мы не могли расслышать, да и понять, что именно там кричали. А вот молодой солдатик с «хищником» понял и сразу пошел в будку.
И даже тогда я ничего такого не заподозрила, просто сидела и наблюдала за мухой, которая ползла вверх по окну и оставляла на пыльном стекле отпечатки своих лапок. Я часто спрашиваю себя: что сказал или не сказал отец Мохаммеда в той будке? Что он сделал или отказался сделать, перед тем как тот паренек начал стрелять?
Тра-та-та-та-та.
Надеюсь, это было не из-за денег. И еще надеюсь, это не было по ошибке – просто случайно нажал на спусковой крючок.
Окна в будке были без стекол, поэтому пули очередями ложились прямо в песок. И некоторые белые доски, которыми была обшита будка, трескались от выстрелов. Или это у меня в ушах трещало.
И тогда папа выпрыгнул из машины.
Мой папа, который всегда мог все уладить, выпрыгнул из машины.
А из будки выскочили трое мужчин. Вернее, двое мужчин и паренек. Отец Мохаммеда остался в будке.
Папа начал что-то говорить. Помню, он говорил настойчиво, но спокойно и ладони держал раскрытыми. Не знаю, что именно он говорил, – его голос заглушали крики солдат.
Они орали, но мы не могли понять ни слова.
«На выход! – рявкнул охранник мужчинам в грузовике. – Я сказал – на выход!»
Возможно, именно это кричали солдаты, когда окружили нашу машину тогда в пустыне. Что-то вроде «На выход!». Но мне так не показалось. Да и папа к тому моменту уже вышел из машины.
«На выход!»
И тут начинается суматоха. Я ничего не понимаю. Мужчины в грузовике кричат что-то солдатам в ответ, потому что тоже ничего не понимают. Один из них встает и начинает трясти клетку, как горилла, будто так может что-то изменить. И папа тоже думал, что может что-то изменить.
А мне хочется кричать: «Хватит! Замолчите! Хуже будет!» Но я сижу как приколоченная.
Так же я сидела, когда мама вышла из машины. Мама не любила, когда ею командуют.
Да, мама вышла из машины и тоже начала что-то говорить. Солдатам это не понравилось. Мама не понравилась. Не знаю почему. Потому, что она женщина, или потому, что она моя мама. Мама, которая не привыкла слышать в ответ «нет». Иногда мне кажется, что я хоть немного, но такая, как мама.
А тогда мне очень не понравились глаза паренька с «хищником». В них не было дикости, как у обкурившихся марихуаной солдат, но они пугали. До ужаса. Потому что в них был страх. Я смотрела в глаза человека, который напуган. Напуган, как маленький ребенок. Можно сказать, я в тот момент смотрела в зеркало.
И я не вышла из машины.
Не вышла.
«Быстро! На выход! Шевелись!»
Мужчины в грузовике, толкаясь, пошли на выход. Одна женщина что-то закричала. Я не понимала ее язык, но ее голос звучал настойчиво и в то же время так, будто она хочет успокоить. Она обращалась к мужчине, который тряс клетку, как горилла. Возможно, она хотела подарить ему надежду, или умоляла о чем-то, или в последний раз хотела сказать о своей любви.
Как бы я хотела, чтобы мама с папой тогда в пустыне успели сказать о своей любви.
О том, что они любят друг друга.
О том, что мама любит меня.
Папа любит.
Но они этого не сказали.
Все, что они тогда сказали: «Беги!»
29
Несовершеннолетние
Все мужчины выходят, и задний борт снова с грохотом закрывают.
А потом – тишина.
Тишина.
Тишина.
Тишина.
И снова начинает плакать ребенок. Мне кажется, дети интуитивно лучше взрослых понимают, что происходит.
Во второй раз заводится двигатель грузовика. Но теперь до остановки я в своих подсчетах дохожу только до безымянного пальца правой руки. Четыре минуты.
Фургон открывают.
– Несовершеннолетние на выход! Только те, кто без сопровождения.
– Вставай, – говорю я мальчику, и мы встаем.
На этот раз даже те, кто не понимает английский, понимают команду. Все встают. Просто на всякий случай.
– Я сказал – несовершеннолетние!
Нас человек восемь. Команда немытых подростков без присмотра. Все моложе пятнадцати.
Мужчина-охранник открывает клетку напротив и выгоняет оттуда четырех подростков лет одиннадцати-двенадцати. С этими ребятами нет взрослых, которые попытались бы их удержать, начали бы кричать на охранников. Да, оставшиеся в клетке женщины что-то бормочут себе под нос, но не громко. Им совсем не хочется подставляться, – похоже, им и без нас есть о ком волноваться.
К нашей клетке подходит женщина-охранница. Крупная такая. А бронежилет делает ее еще крупнее.
Она показывает на мальчика и командует:
– На выход.
Я киваю мальчику и собираюсь выйти следом за ним.
– Ты остаешься, – говорит охранница.
– Мне четырнадцать, – говорю я.
– Кто бы сомневался.
– Возраст указан в моих документах. Я родилась на острове Арран.
– Скажешь это на иммиграционном контроле.
Мальчик смотрит на меня.
– Я уже проходила паспортный контроль, – говорю я. – В Хитроу.
– Хитроу в Англии, – говорит охранница. – А мы в Шотландии.
– Если я старше четырнадцати, – я неожиданно для себя слышу в собственном голосе нотки паники, – если вы считаете, что я взрослая, тогда его нельзя считать ребенком без сопровождения. Вы не можете его увести. Вы не можете нас разлучить.
– Нас? – переспрашивает охранница. – Ты теперь мамашей заделалась?
Мама.
– Нет, – отвечаю я и добавляю: – Я его сестра.
Чувствую какое-то движение поблизости. Это мальчик встал рядом.
Охранница смотрит на нас.
На меня, кельтских кровей, белую, с голубыми глазами. И на мальчика-африканца с бронзовой кожей и глубокими, как чашки, карими глазами.
– Я, по-твоему, вчера родилась? – спрашивает охранница и с такой силой тыкает меня дубинкой в грудь, что я падаю.
Но мальчик продолжает держаться за меня. Охранница его отцепляет и выволакивает из клетки. А потом запирает за собой дверь.
– И чтоб ты знала, – говорит напоследок охранница, – я могу делать все, что захочу.
30
Пакет
Едем дальше. Время в пути занимает три пальца. Грузовик останавливается, и задний борт грузовика откидывают в последний раз. Но теперь все обходится без криков и солдат. Оставшихся женщин и детей конвоируют обычные охранники.
Впереди вижу собранную из секций будку с табличкой «Регистрация 3». Иду медленно. Во-первых, мне все еще тяжело дышать после удара дубинкой в грудь, а во-вторых, чтобы мысленно составить карту местности, надо сохранять спокойствие. То, что пункт регистрации не был построен специально для этих целей, ясно с первого взгляда. Распределительный центр в Хитроу, современное здание из бетона и стали, с виду был очень похож на тюрьму. За время в пути я заметила одну закономерность: дальше от крупных городов или так называемых центров силы все дома выглядят проще и вообще похожи на временные сооружения. Этот распределительный пункт на тюрьму не похож – просто комплекс кирпичных зданий, которые когда-то давно выглядели очень даже солидно. Как по мне, изначально они могли быть школой. Много окон, но некоторые зарешечены, причем недавно. То есть варианты у меня есть, хотя их и маловато. По верху забора метров пять высотой натянута спираль колючей проволоки.
В пункте регистрации меня сразу отделяют от тех, кто идет с детьми. Я стою в очереди одиноких «взрослых» женщин. Большинство из них примерно моего возраста, но определить точнее сложно.
«Постарайся не принимать все это на свой счет, – говорил мне в Хитроу Фил, тот, у которого я украла огниво. – Для несовершеннолетних разработаны специальные инструкции и нормы. С ними в обязательном порядке беседуют соцработники, их осматривают доктора и психологи. Их не имеют права помещать в одиночные камеры. Все дело в ресурсах, Мари».
Очередь ведет к столу, за которым сидит имгрим. В ее распоряжении нанонет с голографическими клавиатурой и монитором и ручным иридосканером. И все эти штуки гудят. На самом деле кажется, что вся комната издает техношум. Странно, что я его забыла, ведь этот шум был саундтреком моей жизни. А теперь мне кажется, будто у меня возникли проблемы со слухом.
Еще на столе имгрима целая стопка прозрачных пластиковых пакетов. Возможно, они сделаны из водорослей. Это бесполезное допущение приходит мне в голову одновременно с воспоминанием о том, как мама говорила, что не будь она инженером, то, скорее всего, занялась бы длинноцепочечными полимерами. Задержанные подходят к столу, и имгрим, не отрывая глаз от голографического монитора, просто протягивает руку. Если у женщины в очереди есть документы, имгрим их забирает. Затем документы сверяются с данными на мониторе, задержанная проверяется иридосканером, ей выдается пакет и напечатанный на 3D-принтере браслет. В пакет складываются личные вещи задержанной женщины или девушки.
Над столом висит табличка:
«Все задержанные в процессе регистрации проходят досмотр с полным раздеванием. Все, кто попытается утаить какой-либо предмет, направляются в административный блок».
Табличка на двух языках: на английском и гэльском. Первым идет гэльский. Что значит «административный блок», не поясняется, но догадаться нетрудно.
Подходит моя очередь. Протягиваю документы. Имгрим смотрит на документы, на монитор, пробегает пальцами по виртуальной клавиатуре, сканирует мои глаза пультом-палочкой и снова смотрит на монитор.
Вот сейчас она поймет, что мне четырнадцать.
Я жду.
Имгрим нажимает на несколько подсвеченных клавиш. А потом просто отправляет мои документы ко всем остальным в настольный лоток и протягивает мне пакет.
А я стою и не двигаюсь.
Наконец она поднимает голову. Женщина, мягко скажем, не симпатичная: волосы затянуты в тугой узел на затылке, а глаза маленькие и очень близко посажены.
– Личные вещи в пакет, – командует она.
Достаю револьвер.
Глаза имгрима становятся еще меньше.
Прикидываю: может, прицелиться ей в голову? Или садануть рукояткой по черепу? Пожалуй, нет. Напасть на имгрима с незаряженным револьвером, притом что в холле полно вооруженных охранников, – неправильное решение.
Живи, Мари. Ты должна выжить!
Да, мама.
И я просто поддеваю револьвер указательным пальцем за спусковую скобу. Так можно его крутануть. Что я и делаю. Всего-то пару-тройку оборотов. Зря я это делаю. Как папа напрасно выскочил из машины с открытыми руками. И тот мужчина тоже зря тряс клетку, как горилла. Но есть в этой жизни вещи, которые ты просто не можешь не сделать. Они определяют тебя как личность. Большие или маленькие. Поступая так, а не иначе, ты остаешься собой. Пусть даже это опасно. И плевать на риски или возможность выбирать.
Я улыбаюсь.
Улыбка тоже из этой серии.
Роняю револьвер в пакет.
Следом за револьвером – платок, который был узелком с едой, а теперь – просто тряпочка.
И последнее, что я опускаю в пакет, – мое огниво.
Флягу оставляю при себе. Она висит на шнурке у меня на шее.
«Помни, – сказал папа, когда вручал мне мою первую металлическую флягу, – вода – это жизнь».
Имгрим поднимает глаза, смотрит на флягу и указывает на табличку у себя над головой.
«Все, кто попытается утаить какой-либо предмет, направляются в административный блок».
– Я ничего не утаиваю, – говорю я.
– Ты испытываешь мое терпение, – говорит имгрим.
– Это всего лишь фляга, – говорю я.
– Положи ее в пакет, – говорит она. – Быстро.
Я опускаю флягу в пакет. Фляга еще наполовину заполнена – слышно, как плещется вода. Я смотрю на свою флягу в прозрачном пластиковом пакете, и мне сразу хочется пить. Кажется, что целое озеро бы выпила. Женщина затягивает пакет стяжкой, такие еще используют вместо наручников. Потом она выуживает из подноса принтера свеженькую бирку и сильнее, чем это необходимо, фиксирует ее у меня на запястье.
В этот момент я перестаю быть Мари Энн Бейн. Я становлюсь Реп1787Ф. «Ф» – «фимейл». Это понятно – я женского пола. 1787 – мой номер. Но вот что означает «Реп», я не понимаю. В Хитроу я была Шот5271Ф. «Шот», ясное дело, – Шотландия.
– Что значит «Реп»? – спрашиваю я.
– Это значит, – отвечает имгрим, – что ты сейчас пройдешь вон в ту дверь.
31
Матрас
Я прохожу в «вон ту дверь».
Но она не ведет в помещение для досмотра с полным раздеванием. Та предупреждающая табличка – наверняка одна из уловок, которыми пользуются в местах принудительного содержания, ложь, потенциальная угроза, вероятные сценарии, все, что может сбить вас с толку. Дверь ведет в помещение вроде зала ожидания. Здесь около тридцати женщин, пятнадцать стульев (три ряда по пять), стол с пластиковыми стаканчиками и кувшином с водой. Кувшин пустой. Никто не сказал мне, чего и как долго я должна ждать. Но я по собственному опыту знаю: для таких мест это нормально.
Еще здесь есть туалет. Не воняет, терпеть можно. Некоторые из женщин тихо переговариваются. Говорят на английском. На английском с шотландским акцентом.
– Ничего не понимаю, – говорит одна. – Как они могут так с нами обращаться.
Помню, у мамы с бабушкой случился такой разговор.
Мама сказала:
«Не говори глупости, мы же шотландцы. Мы здесь родились. Даже если границы закроют, мы все равно сможем вернуться в любое время».
«Не будь так уверена. От этого зависят ваши жизни, – сказала бабушка. – Правила постоянно меняются. Возвращайтесь прямо сейчас».
Да, правила могли измениться.
Худая жилистая девчонка зло теребит и пощипывает свой браслет. Она примерно моего возраста. В Прошлом мы бы могли с ней разговориться, но сейчас она раздражает меня, как муха, которая без толку жужжит и бьется о стекло. И вообще, мне есть о чем подумать.
О мальчике.
Я не хочу о нем думать, но все равно думаю.
О том, как он сосет свой камешек. Разрешили ему оставить себе камешек? Или отобрали? Заставили положить в пакет со стяжкой? Уже поместили его в камеру? Если поместили, то с кем? Со взрослыми или с детьми? Там есть хоть кто-то, кто говорит на его языке? Может, там люди орут на непонятном для него языке? Орут на него?
Я задаю себе все эти вопросы и понимаю, что от этого ничего не изменится. Надо переключить внимание на охранников. Я отслеживаю все их перемещения. Запоминаю распорядок. Это может помочь.
Похоже, все тут ждут, когда их вызовут. Каждые полчаса в камеру заходит охранник со списком. Задержанные выходят группами, после того как охранник зачитывает несколько имен, вернее, номеров. Тощая девчонка выходит и на ходу продолжает теребить свой браслет. Наконец наступает и моя очередь. Меня и еще пять молодых женщин конвоируют в здание, которое с виду – главное во всем комплексе. Я считаю ступеньки и калькулирую расстояние от одной точки пути до другой. Сколько времени займет перебежка от этого здания до пункта регистрации? Сколько от этого места до главных ворот? За точность расчетов не поручусь – в последний раз я ела больше двенадцати часов назад.
Уже стемнело. Надеюсь, в этом здании камеры, и у меня будет возможность прилечь. В Хитроу камеры называли «номерами». У них в номерах стояли кровати (две, иногда – три), была раковина и туалет без стульчака, а еще зарешеченное окно под потолком и глазок в двери.
Поднимаемся по лестнице с широкими пролетами. Идем по ярко освещенному коридору. Дверь в камеру не заперта. Глазка нет, но есть окошко с армированным стеклом.
– Реп1787, – говорит охранник и вталкивает меня в камеру.
Это не камера, но и не комната. Это скорее похоже на дортуар. Кроватей нет, но есть матрасы. Всего двенадцать, лежат на полу в два ряда по шесть. Окна зарешечены. Решетки не заводские, но с виду крепкие. Раковины и туалета нет.
Одиннадцать матрасов уже заняты. Женщины, которые лежат на матрасах, все в ночных рубашках или пижамах. И рубашки, и пижамы бледно-розового цвета, все, естественно, женщинам не по размеру. Такие же выдавались задержанным в Хитроу. Беженцы не берут с собой ночнушки и пижамы. Такие вещи у тех, кто остановился в одном месте надолго. Мне не хочется думать о том, сколько времени просидели здесь эти женщины.
Единственный свободный матрас лежит возле двери. На матрасе пижама. Возможно, когда-то она была розовая, но сейчас серая.
Только я собираюсь опуститься на этот матрас, кто-то у меня за спиной говорит:
– Это – мое место.
Тощая девчонка с браслетом.
Видимо, она стояла прямо у меня за спиной в небольшом алькове с окном справа от двери. Я не люблю, когда кто-то застает меня врасплох.
Итак, на одно спальное место две претендентки.
Девчонка напрягается и немного сутулится. Она словно вызывает меня на бой.
Женщины в ночнушках и пижамах приподнимаются на своих матрасах. Начинается вечернее шоу. Мне это не впервой. В тюрьме для любых ситуаций есть неписаные правила. Правила строго соблюдаются. В группе вроде этой всегда есть Большая мама. Это она устанавливает правила, решает, когда закончится представление и каким будет наказание за нарушение правил. Обычно легко догадаться, кто в камере главная. Даже говорить ничего не надо, достаточно немного понаблюдать. Главную всегда выдаст язык тела, то, как она сидит или стоит. Или то, как нервно на нее поглядывают другие заключенные, прежде чем что-то сделать. Но сейчас все произошло слишком быстро, и я не успела оценить ситуацию.
Но я понимаю, что делает девчонка с браслетом. Она хочет застолбить место. Хочет казаться крутой. Хочет показать всем, что она не слабачка и с ней шутки плохи. Она хочет играть в одной команде с большими девочками.
И пусть она мелкая. Блондинка с бледной кожей. Все косточки держатся только на внутренней энергии. Эта энергия достойна восхищения. И надежда тоже. Но девчонке можно посочувствовать – ей не хватает уверенности в себе.
– Располагайся, – говорю я и преувеличенно дружелюбно показываю раскрытой ладонью на матрас. – Мне все равно, я не планирую тут задерживаться.
И Большая мама смеется. Смеется, давясь сигаретным дымом. Это крупная вульгарная белая женщина с крашеными красно-коричневыми волосами. И еще – из всех только у нее пижама по размеру.
«Вот и хорошо, – думаю я. – Теперь все ясно».
Девчонка с браслетом сдувается, садится на матрас и начинает переодеваться в пижаму. Мы все за ней наблюдаем. И все видим одно и то же: ее уязвимость, лобок, я даже успеваю мельком увидеть ее маленькую белую грудь.
Потом я выбираю для себя место в нише. С этой позиции открывается вид на всю камеру. И на Большую маму. Поспать на полу – не проблема. Да и камни перед сном убирать не надо. А доски вполне удобные, но не настолько, чтобы забыть – путешествие еще не закончено. Нельзя терять бдительность только потому, что ты близко к цели. Это ошибка, за которую можно дорого поплатиться. Знаю по собственному опыту – поплатилась за подобную ошибку недалеко от аэропорта Каира.
Ложусь на пол, не раздеваясь. Одежда уже почти высохла.
Окно в нише, естественно, не занавешено, и я вижу, как темнеет небо. Темнеет, но не становится черным – на территории слишком много фонарей.
По дыханию женщин в камере понимаю, что они засыпают. Они не дышат, как мальчик. Мне бы очень хотелось услышать, как он сопит, засыпая со своим камешком во рту. Возможно, сегодня он совсем не так сопит, потому что у него больше нет камешка. Возможно, он, как и я, лежит без сна и смотрит в окно, а за окном фонари подсвечивают черноту ночи.
Начинаю планировать.
И когда посреди ночи в камеру входят охранники, я еще не сплю. Охранники включают свет и дуют в свистки.
– Встать! Всем встать! – орут охранники.
Все женщины в камере встают. Каждая рядом со своим матрасом.
Выкрикивают номера.
Женщины по очереди отвечают:
– Здесь.
Когда доходят до моего номера, я тоже выкрикиваю:
– Здесь.
На все про все – две минуты. Охранники уходят. После их ухода в камере никто не говорит ни слова. Я понимаю, что такие переклички происходят каждую ночь. А еще это объясняет, почему Большая мама спит в пижаме.
Меняю планы.
Если бежать отсюда, то днем.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































