Текст книги "Мобилизованная нация. Германия 1939–1945"
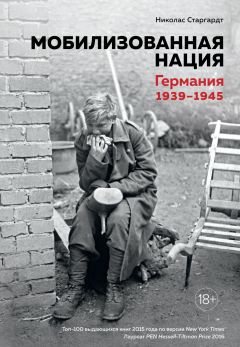
Автор книги: Николас Старгардт
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Следующей остановкой в рабочем маршруте Лизелотты стал отель «Вартеланд» в Велюни. Она приехала туда в начале октября 1940 г. фотографировать процессы колонизации на другой недавно «возвращенной» территории, на сей раз на востоке. В гау Вартеланд (ранее Позен) работа оказалась не такой простой, как в Эльзасе, и Лизелотта тотчас заметила большое количество евреев. Она назвала их «опасностью для дорожного движения», поскольку им приходилось ходить не по тротуару, а по проезжей части. В том же месяце, но позднее, евреям в новом гау приказали снимать головные уборы перед немцами в военной форме, а некоторые чиновники принялись прогуливаться со стеками и хлыстами и лично следили за исполнением новых правил. Еще с предыдущего декабря Главное управление СС по вопросам расы и поселения приступило к процессу изгнания евреев с целью полностью очистить от них западную – в прошлом прусскую – часть Вартеланда, однако нехватка угля зимой помешала проведению операции с полным размахом. В качестве временной меры в наиболее важном из центров восточного Вартеланда, городе Лодзь, евреев согнали в гетто – первое в границах рейха[283]283
Ibid., 2 Oct. 1940; Madajczyk, Die Okkupationspolitik Nazideutschlands, 261–262; Aly, ‘Final Solution’, 45–47; Adelson and Lapides (ed/), Łódź Ghetto, 30–41.
[Закрыть].
Лизелотта Пурпер посетила Лицманштадт (так переименовали Лодзь в честь захватившего его в 1915 г. немецкого генерала), где фотографировала евреев для личной коллекции. Гетто «шестого по размерам города Германии» превратилось в популярную тему, и фотографии оттуда, сделанные другой женщиной-фотокорреспондентом Эрикой Шмахтенбергер, опубликовал мюнхенский журнал Münchner Illustrierte. Один из личных фотографов Гитлера Гуго Йегер поспешил наделать цветных слайдов евреев в гетто Кутно, поразив читателя подборкой «этнографических» кадров с всклокоченными пейсами обитателей лачуг и портретами прекрасных молодых женщин. Однако в октябре 1940 г. задача Лизелотты Пурпер в Вартеланде была иной[284]284
Harvey, ‘Seeing the world’ // Swett et al. (eds.). Pleasure and Power in Nazi Germany 177–204; Hugo Jaeger sold his collection to Life magazine, which has placed them online: http://life.time.com/history/world-war-ii-color-photos-from-nazi-occupied-poland‐1939–1940/#1.
[Закрыть].
Новое гау служило образцом этнической перекройки территории, или «онемечивания». В конечном счете 619 000 польских граждан подверглись «переселению» в обкромсанную Польшу, или в «генерал-губернаторство», находившееся под правлением Ганса Франка, с целью освободить место для немцев. Подавляющее большинство – около 435 000 – происходили из Вартеланда, где делами заправлял гауляйтер Артур Грейзер, с восторгом разделявший взгляды Гиммлера на радикальную колонизацию. Зимой 1939/40 г. депортируемых зачастую силком сгоняли в поезда, не заботясь о соответствующей провизии, воде и одежде. Поскольку многие оказались евреями, шеф СС и полиции Люблинского района Одило Глобочник вышел в феврале 1940 г. с предложением нарочно затянуть переезд и попросту «позволить им умереть с голоду». Когда двери товарных вагонов открывали в Кракове, Дембице и Сандомире, станционный персонал находил полными замерзших от холода детей и матерей[285]285
Epstein, Model Nazi; Madajczyk, Die Okkupationspolitik Nazideutschlands, 407–408 and Table 15. Еще 367 592 поляка подверглись выселению – преимущественно из сельских районов центральной Польши вблизи границы генерал-губернаторства с СССР, где строились военные и эсэсовские лагеря подготовки. См.: Tadeusz Norwid, Kraj bez Quislinga, Rome, 1945, 30–32; Oskar Rosenfeld in Adelson and Lapides (eds.). Łódź Ghetto, 27; Hrabar et al., Kinder im Krieg – Krieg gegen Kinder, 82–83; Pohl, Von der ‘Judenpolitik’ zum Judenmord, 52.
[Закрыть].
Но Лизелотта Пурпер прибыла в Вартеланд для документирования радостного события – другой стороны переселения, то есть приезда немцев. Немцы прибывали из Волыни в Восточной Польше, где многие не говорили по-немецки, а также из республик Прибалтики, где 60 000 этнических немцев сорвали с насиженных мест, поставив точку в истории их гордой независимости длиною в добрых семьсот лет. Перед лицом готовящегося присоединения Прибалтики к СССР они согласились на отправку «к себе в рейх», как это называлось у германского правительства. Лизелотта считала, будто они слишком много жалуются и недостаточно благодарны. Куда лучшее впечатление на нее произвели простые крестьяне с польско-украинских приграничных территорий Волыни и Галиции: «При нашем приезде на их лицах светилось счастье». Несмотря на месяцы, проведенные во временных немецких лагерях, пока для них готовились дома, хутора и работа, они показались девушке поистине благодарными. Все, о чем они мечтали, по ее мнению, – поскорее начать обрабатывать свою землю, «чтобы дать германскому народу хлеба»[286]286
DHM, Do2 96/1 861, ‘Tagebuch von Liselotte Purper’, 2 Oct. 1940.
[Закрыть].
В ноябре 1940 г. Лизелотта продолжала путешествие с целью документировать исход этнических румынских немцев из Бессарабии, Буковины и Добруджи. В составе комиссии СС по переселению Лизелотта побывала в селах около порта Констанца на Черном море, с их маленькими, беленными известкой домами, говорила с семьями об их ожиданиях, пока те паковали вещи. Вместе с ними она путешествовала на пароходе по Дунаю через узкие места и пороги Железных ворот. Однако сближаться с ними девушка особенно не спешила. Даже напротив, страх нахвататься блох от «пока еще не прошедших дезинфекцию» поселенцев то и дело отражается в ее записках; Лизелотта просто помешалась на гигиене, поскольку на борту судна, как она подсчитала, рекорд поимки блох составлял двадцать штук за десять минут. Эти маленькие трудности позволили ей в конце поездки чувствовать себя «сияющим победителем», вернувшимся с поля боя. В дневнике и на рабочих фотографиях переселенцы предстают благодарными, но пассивными получателями хорошо организованной благотворительной помощи немцев из «старого» рейха.
В Белграде Лизелотта оказалась в компании давней подруги Марго Моннье. Младшая сестра Ойгена Хадамовски, шефа германского радио, «Хада», как неизменно называла ее Лизелотта, обыгрывая девичью фамилию, так радовалась участию в экспедиции, что часто выступала в роли фотографа-ассистента при Лизелотте, хотя занимала положение главы отдела фотографии Организации немецких женщин и фактически являлась начальником подруги. Обе они умели развлечься – в частности, нашли время съездить в Будапешт и пробежаться там по магазинам. Глава местной комиссии СС по переселению в Белграде оказался давним другом семьи и взялся показать Лизелотте ночную жизнь города. Две элегантные дамочки владели трюками, позволявшими заставить мужчин содействовать им в получении желаемого, будь то пропуска от румын, помощь немецкого железнодорожного кондуктора для нелегального провоза их приобретений в рейх или просьбы к рыцарственным, хоть и довольно скучным офицерам СС составить им компанию в посещении ночью замка в Будапеште. Повеселившись в обществе австрийского капитана и его офицеров на пароходе, девушки сели в поезд и отправились в Вену, где Лизелотта и Хада церемониально утопили «последнюю блоху»[287]287
Ibid., 1 Nov. – 6. Dec. 1940; Harvey, ‘„Ich war überall“‘ // Steinbacher (ed.). Volksgenossinnen, 138–153.
[Закрыть].
В Вартеланде 28-летнюю Лизелотту глубоко поразили студентки-добровольцы из Германии и девушки, заботившиеся о переселенцах в рамках их обязанностей по работе в Имперской службе труда. Именно они выявляли и отправляли прочь поляков, под шумок возвращавшихся на родные хутора. В акциях переселения 18-летние девушки из службы труда часто использовались в равных количествах с мужчинами из СС. Некоторые из них шли на железнодорожные станции встречать немецких поселенцев, другие помогали эсэсовцам выгонять поляков и следили за тем, чтобы польки все как следует вымыли и вычистили, оставив новые дома для приезжих в наилучшем виде. Говоря о работе для земляков на родине, студентка из добровольцев в таких словах выражала реакцию на действия эсэсовцев, сгонявших польских селян в хлев в ходе одной подобной акции по выдворению:
«Сочувствие? Нет, я тихо поражалась тому, что такие люди вообще существуют – люди, само бытие которых бесконечно чуждо нам и непостижимо для нас, что нет никакого способа постичь их. Впервые в нашей жизни попадаются люди, чья жизнь или смерть есть дело совершенно безразличное»[288]288
DHM, Do2 96/1861, ‘Tagebuch von Liselotte Purper’, 2 Oct. 1940. См.: Harvey, Women and the Nazi East, 155–156.
[Закрыть].
Единственным способом защитить права собственников для поляков служила регистрация в качестве «немцев» в новом «национальном реестре», составлявшемся на аннексированной территории. Сделавшись немцем, гражданин автоматически повышал статус семьи до более высокого уровня рационирования, получал доступ к лучшему образованию и обретал более радужные перспективы в плане трудоустройства. Имея некую свободу действий в методике воплощения в жизнь программы «онемечивания», начальники в других регионах не всегда придерживались жесткой линии рейхсштатгальтера Вартеланда Артура Грейзера со свойственной ей расовой проверкой населения. Они предпочитали сохранять квалифицированную рабочую силу, критически важную для промышленных районов Верхней Силезии. Тут почти все население оформляли как немцев. В Восточной Померании руководство поступило подобным образом, тем временем в области Данциг – Западная Пруссия, где поляки подвергались наибольшему насилию со стороны ополчения этнических немцев в 1939 г., значительная часть населения регистрировалась либо как немцы, либо как лица, обладающие «необходимыми качествами для того, чтобы стать полноправными членами немецкой народной общности». Все зависело от того, сумеют ли они должным образом показать себя в дальнейшем. Как и в Эльзасе, одним из новых испытаний на прочность для мужчин послужил призыв в вермахт[289]289
Epstein, Model Nazi; Wolf, Ideologie und Herrschaftsrationalität; Wolf, ‘Exporting Volksgemeinschaft’ // Steber and Gotto (eds.). Visions of Community in Nazi Germany, 129–145.
[Закрыть].
Тем полякам, кому не удалось записаться в привилегированные категории, уроки раболепия преподавались быстро и внушительно. Опуская за скобки различия в подходе в разных гау и между аннексированными территориями и генерал-губернаторством, можно сказать, что в целом все развивалось одинаково. Чередой указов немецкие власти запретили в польских школах преподавание всех предметов, считавшихся базовыми для формирования в детях чувства патриотизма: физкультуру, географию, историю и национальную литературу. В Вартеланде стало нельзя даже обучать на польском языке, но в то же время в школах не позволяли должным образом преподавать немецкую грамматику, чтобы «поляки не смогли успешно выдавать себя за немцев». После казней или высылки большинства польских учителей и священников дети собирались в переполненных классах только на короткое время, в основном же власти Вартеланда передавали учеников на попечение женам немецких фермеров и унтер-офицеров, и те воспитывали польских детей в «чистоте, порядке и в уважительном поведении и послушании немцам»[290]290
Hohenstein, Wartheländisches Tagebuch, 293: 10 July 1942; Harten, De-Kulturation und Germanisierung, 192–196.
[Закрыть].
Огромное количество насильно «переселенных» в генерал-губернаторство поляков – «в резервацию туземцев», по замечанию Гитлера – не могло сравниться по размерам с числом очутившихся в Германии. Еще в 1939 г. 300 000 польских военнопленных послали на уборку урожая. К тому же поначалу, поскольку поляки искали работу в условиях немецкой оккупации, хватало желающих добровольно ехать в Германию и среди гражданских лиц. К концу мая 1940 г. в ней насчитывалось свыше 850 000 иностранных рабочих, почти две трети из которых использовались в сельском хозяйстве, где имелась давняя традиция привлекать для сезонных работ гастарбайтеров – тех же самых поляков. Для режима, помешанного на национальной и расовой чистоте, казалось куда менее терпимым видеть поляков работающими и живущими в немецких городах, хотя военная промышленность остро нуждалась в трудовых ресурсах. Вследствие чего после французской кампании вермахту приходилось увольнять в запас военнослужащих из числа квалифицированного персонала, поскольку в противном случае многие заводы и фабрики пришлось бы останавливать[291]291
Madajczyk, Die Okkupationspolitik Nazideutschlands, 245–249; Herbert, Hitler’s Foreign Workers, 61–64 and 86–96.
[Закрыть].
В глазах нацистов весь «внутренний фронт» представлял собой «женскую» половину дома, куда теперь вторгались чужаки – мужчины-иностранцы. Половозрастная концепция, построенная на идеалах взаимоотношения полов образца XIX столетия, основывалась на разделении мира на отдельные мужские и женские сферы, где работа, политика и общественная жизнь являлась делом мужчин, тем временем как женщинам полагалось сосредоточить усилия на создании семейной, домашней идиллии в стиле бидермейер[292]292
Бидермейер – течение в немецком и австрийском искусстве в период после победы над Наполеоном и до революции 1848 г. Стиль характеризуется упором на уют и функциональность предметов, в том числе мебели в домашнем интерьере.
[Закрыть]. Такая умозрительная специализация безвозвратно нарушилась уже во время Первой мировой войны, когда женщины взяли на себя обязанности ушедших на фронт мужчин: стали рабочими и инженерами на машиностроительных производствах, начали водить трамваи, а другие пошли медсестрами в Красный Крест.
Несмотря на пристрастие нацистов к патриархальным идеалам, та же схема женского участия в неженских делах тотчас заработала и в описываемую войну, но еще шире и интенсивнее. Количество студенток в университетах никогда еще не было столь велико, и все больше женщин осваивали ранее несвойственные им профессии. Однако, вместо того чтобы махнуть рукой на устаревающие представления о мужских и женских призваниях, нацисты лишь переосмысливали их. Традиционная «женская сфера» – дом – расширялась и включала в себя весь внутренний, или домашний, фронт, тем временем мужские занятия «где-то там, вокруг» ассоциировались теперь не просто с общественной деятельностью и трудом, но и с охраной рубежей отечества. Такое резкое расширение женской сферы с вовлечением их в прежде закрытые перед ними социальные и экономические области допускалось без опасения перед крушением миропорядка, поскольку оставалось нечто незыблемое, частью чего женщины не могли становиться по определению, – армия.
В действительности женщины, конечно, служили до войны в полиции, к тому же, если не считать 400 000 медсестер Красного Креста, полмиллиона женщин поступили в вермахт, в основном для работы телефонистками и в почтовых структурах после двух или трех месяцев подготовки на курсах в Гисене[293]293
Hämmerle et al. (eds.). Gender and the First World War, 1–15; Daniel, The War from Within; Nienhaus, ‘Hitlers willige Komplizinnen’ // Grüttner et al. (eds.). Geschichte und Emanzipation, 517–539; Maubach, ‘Expansion weiblicher Hilfe’ // Steinbacher (ed.). Volksgenossinnen; Maubach, Die Stellung halten.
[Закрыть].
Сама мысль о женщинах с оружием в руках, однако, по-прежнему подвергалась анафеме и даже оправдывала самые жесткие меры со стороны немецких солдат в ходе польской кампании. Мужская честь настолько прочно связывалась с военной службой, товариществом и с умением сохранять хладнокровие под огнем, что все «военные невротики», трусы и дезертиры встречали презрение как ненастоящие мужчины, или бабы. Женская честь продолжала измеряться категориями целомудрия и сексуальной разборчивости. В 1943 г. инструктивные материалы имперского Министерства юстиции повторяли основополагающую аксиому: «Немецкие женщины, состоящие в половых связях с военнопленными, предают фронт, наносят огромный ущерб чести нации и порочат репутацию германской женщины за рубежом». Такие довольно разные точки зрения сложились у нацистов на тела мужчин и женщин как носителей чести германского народа[294]294
Theweleit, Male Fantasies, 1, 70–79; со ссылкой на Rothmaler, ‘Fall 29’ // Justizbehörde Hamburg (ed.). ‘Von Gewohnheitsverbrechern’, 372. Przyrembel, ‘Rassenschande’.
[Закрыть].
Моральным хранителем национальной чести выступала нацистская партия, и шеф расово-политического управления в августе 1940 г. утверждал:
«Нельзя ни на секунду усомниться, что соображения расовой политики требуют всеми имеющимися средствами бороться с чрезвычайной угрозой осквернения и загрязнения, которую несет с собой это сосредоточение иностранных рабочих… нашей немецкой генеалогии. Чуждое население до недавнего времени было нашим самым злейшим врагом и внутренне остается таким сегодня, и мы не можем и не должны стоять в стороне тем временем, когда они вторгаются в жизненно важное естество нашего народа, оплодотворяют женщин немецкой крови и растлевают нашу молодежь».
Сотрудники гестапо и СД видели местоблюстителями отсутствующих мужей, отцов, братьев и женихов прежде всего себя. Перед лицом наплыва иностранных рабочих гестапо довольно жестко трактовало общий запрет «недозволенных контактов», расследуя специфические нарушения вроде «личных, приятельских/дружеских связей», «дружественного или общительного поведения в отношении поляков» и «помощи полякам». Все это обретало весьма важный смысл для чиновников, зацикленных на понятиях вроде «скользкая дорожка» и «разложение». Подобно тому как, по их мнению, прогулы школьных занятий приводили мальчишек к воровству и другим мелким преступлениям, а девочек – к неразборчивости в связях, венерическим заболеваниям и проституции, так и все социальные контакты с поляками неминуемо заканчивались в постели. При таком пессимистическом взгляде на вещи вмешательство полиции становилось необходимым, причем даже при мелких нарушениях, в целях избежания худшей беды[295]295
Со ссылкой на Hansch-Singh, Rassismus und Fremdarbeitereinsatz, 138; Kundrus and Szobar, ‘Forbidden company’.
[Закрыть].
Начиная с июня 1940 г. гестапо принялось публично вешать поляков за «недозволенные контакты». В первых числах июля в Ингелебене близ Хельмштедта польский пленный, помещенный в военную тюрьму за половую связь с немкой, был передан гестапо и «повешен на дереве в назидание прочим». 26 июля по распоряжению из Главного управления имперской безопасности в Берлине повесили Станислава Смыля, хотя местное гестапо в Падерборне высказывалось против по причинам умственного состояния подследственного. Как можно заключить, он приставал к женщине на улице, издавая «странные звуки» и показывая пенис. 24 августа палачи гестапо извлекли 17-летнего польского рабочего из тюрьмы в Готе и повесили его на обочине дороги. Пятьдесят поляков заставили смотреть на казнь наряду с большой толпой немцев, пришедших поглазеть на происходящее по собственному почину. Парня обвинили в связи с немецкой проституткой, тело его оставили висеть на протяжении суток[296]296
Herbert, Hitler’s Foreign Workers, 132; Gellately, Backing Hitler, 172–173 and 176.
[Закрыть].
Подобные публичные и позорные казни проводились для острастки прочим. Хотя нацистское государство в принципе проникло повсюду – добралось до уровня консьержек, портье и школьников, – у него недоставало действующего персонала для чего-то большего, чем просто демонстрации опасности «недозволенных связей». Пусть гестапо и пользовалось зловещей репутацией вездесущей, всеведущей и всемогущей организации, его амбиции сильно ограничивала нехватка сотрудников, только усугубившаяся во время войны. Точно так же, как раньше в случаях контактов между евреями и «арийскими» женщинами, теперь гестапо тоже приходилось полагаться на бдительных соседей, готовых указать на нарушителей норм «народной общности». Прибегая к запугиванию с помощью показательных казней, политическая полиция одновременно признавала собственную неспособность добиться выполнения нацистских расовых законов повсеместно. На протяжении всей войны гестапо завело всего 165 дел по обвинениям в «недозволенных связях» в Дюссельдорфе, 150 – в Пфальце и еще 146 дел в Нижней Франконии[297]297
Lüdtke, ‘Denunziation-Politik aus Liebe?’ // Hohkamp and Ulbrich (eds.). Der Staatsbürger als Spitzel, 397–407; Przyrembel, ‘Rassenschande’, 65–84; Gellately, Backing Hitler, 134–140 and 155–166; Gordon, Hitler, Germans and the ‘Jewish Question ‘, 241.
[Закрыть].
Существовала и другая, популистская сторона новых массовых ритуальных наказаний. Уже в марте 1940 г. суд Йены с сожалением отмечал, что в Тюрингии стало нормой брить головы женщинам, виноватым в «недозволенных связях», помещать им на шею табличку с указанием совершенного злодеяния и прогонять через село или городок, причем даже до официального обвинения. 15 ноября 1940 г. толпа собралась на главной площади городка Айзенах потешиться над немкой и ее любовником-поляком, привязанными спина к спине к столбу на небольшом помосте. Висевший над ее бритой головой плакат гласил: «Я спуталась с поляком», а над его – извещал собравшихся: «Я осквернитель расы». Матери подводили детей поближе или поднимали их вверх, чтобы те тоже все увидели[298]298
Virgili, Naître ennemi, 88–89.
[Закрыть].
Часто раздавались призывы заставлять женщин присутствовать на казни любовников или даже подвергать их самих той же участи. Иногда ту или иную выставляли в качестве «соблазнительницы»; а другой раз люди просто говорили, что ей следовало вести себя осмотрительнее. В одном случае в Регенсбурге высказывалось соображение, будто «бо́льшая часть жителей на самом деле считают виноватой в основном немку». Поляк «просто хотел удовлетворить свои половые потребности, тем временем как девица, от которой следовало ждать чего-то большего, чем от поляка, нанесла ущерб чести нации». То есть, по мнению этого свидетеля из толпы, на женщину ложилась особая ответственность как на представительницу «высокой культуры». В то время как власти оперировали понятиями «честь», «раса» и «культура» и сомневались, насколько далеко следует заходить в защите прав мужей, подробности сексуальной жизни граждан становились достоянием общественности на местах. Если речь шла о замужней женщине, у мужа – обычно отсутствующего по причине несения военной службы – интересовались, не готов ли он простить жену; в случае его положительного ответа ее могли наказать легко или вовсе отпустить[299]299
Gellately, The Gestapo and German Society, 243; Gellately, Backing Hitler, 169–170 and 179–180; Herbert, Hitler’s Foreign Workers, 129.
[Закрыть].
Возобновление давних традиций публичных наказаний не могло не породить и проблем. В Штраубинге народ жаловался, что эшафот стоит слишком близко к подготовительному лагерю для девушек. В районе Лихтенфельса виселица, по выражению жителей, испортила «прекрасный» холм. Нацисты явно стремились мобилизовать общины, создавая связи между прошлым и настоящим за счет ритуальных показательных наказаний, однако культурная традиция была уже разрушена, а потому люди реагировали по-разному[300]300
Gellately, The Gestapo and German Society, 242; van Dülmen, Theatre of Horror; Evans, Rituals of Retribution, chapter 2.
[Закрыть].
Новая мода на публичные казни лучше всего прижилась в Тюрингии. Даже в СД испытали неуютное беспокойство из-за народного воодушевления, когда на массовую казнь через повешение двадцати поляков в Хильдбургхаузене собрались от восьмисот до тысяч зрителей – и это не считая шестиста-семиста женщин и детей, которых туда не пустила полиция. Однако данный регион славился ранним обращением в национал-социализм, а тамошние протестантские пасторы всецело поддерживали Немецкое христианское общество: в округе попросту не существовало институтов, способных пропагандировать иные взгляды на вещи[301]301
Gellately, Backing Hitler, 179: SD Bayreuth, 17 Aug. 1942; Fenwick, ‘Religion in the Wake of “Total War”.
[Закрыть].
В прочих местах, особенно в католических областях, ситуация выглядела не столь однозначной. Вместо сплочения и социального единства поиски и наказание козлов отпущения создавали раскольнические настроения. Немки не замедлили возвысить голос по поводу двойных стандартов в плане сексуальных отношений. Зрители позорного шествия, где в начале 1941 г. женщину водили по улицам Бамберга (близ Эберна) за связь с французом, как отмечали сотрудники СД, «осмеливались спрашивать, сделают ли то же самое с каким-нибудь немцем за интрижку с француженкой во Франции». Большинство женщин в толпе, даже и членов партии, присоединились к критике, а одна громко заметила: «Тиски для пальцев и пыточные камеры – вот чего не хватает, чтобы оказаться прямо в Средневековье». А между тем некоторые мужчины в толпе возражали и призывали добавить к наказанию женщины еще и «порку»[302]302
Kundrus and Stobar, ‘Forbidden company’, 210; приводится также в Hochhuth, Eine Liebe in Deutschland, 63; Gellately, The Gestapo and German Society 238–239.
[Закрыть].
Одна из причин такого гуманистического протеста против новых ритуалов в католических регионах состояла в том, что поляки и французы являлись единоверцами. В Кемпно-Нидеррайне около Дюссельдорфа гестапо приписывало откровенно враждебное отношение населения к казни через повешение поляка влиянию церкви и ее неприятию подобного вида публичных казней. К тому же с начала промышленной революции Рейнская область и Рурский бассейн приняли много мигрантов польской национальности. В Швайнфурте местное гестапо почло за благо перенести казнь двух поляков, от одного из которых забеременела 15-летняя девица, в концентрационный лагерь, во избежание «большого волнения среди католического населения». В октябре 1941 г. Гитлер запретил публичные позорные казни и ритуальные наказания, но не прилюдные казни инородцев. Однако к тому времени он столкнулся с гуманистическим протестом совершенно иного рода, ведущую роль в котором играли виднейшие католические епископы страны[303]303
Gellately, Backing Hitler, 180 and 160: Düsseldorf Oct. 1942; Schweinfurt, Aug. 1941.
[Закрыть].
9 марта 1941 г. Конрад фон Прейзинг, католический епископ Берлина, воспользовался инаугурацией Пия XII и напомнил конгрегации в кафедральном соборе Святой Ядвиги, что папа «подтвердил доктрину церкви, в соответствии с которой нет никакого оправдания убийства больных или ненормальных ни на экономической, ни на евгенической почве». Так тайная нацистская программа «эвтаназии» впервые встретила открытое осуждение. И протестантские, и католические епископы отлично знали о ней и о том, как она развивается, поскольку начальство церковных психиатрических приютов оказалось по разные стороны линии фронта – одни с энтузиазмом поддерживали начинание светских властей, другие, напротив, ни в коем случае не одобряли. Вместе с тем за последние полтора года ежегодная Конференция католических епископов в Фульде послушно шла за кардиналом Бертрамом и отправляла в адрес правительства письма с очень мягкими формулировками, часто просто личные, с вкрадчивым вопросом «а правда ли, что?..». Однако летом 1941 г. законопослушные петиции уступили место более радикальной публичной конфронтации. 3 августа епископ Мюнстера граф Клеменс Август фон Гален произнес с кафедры церкви Святого Ламберта проповедь против «эвтаназии». Тогда как Прейзинг всего лишь подчеркнуто обновил протест церковников против убийства обитателей приютов в абстрактных и общих терминах, Гален перешел в страстное наступление:
«Единоверцы христиане!.. вот уже несколько месяцев до нас доносится, что по приказу из Берлина пациенты приютов для страдающих умственно, которые больны длительное время и, возможно, неизлечимы, подвергаются насильственному удалению. Потом, через непродолжительное время, родственников там и тут информируют, что тело сожжено и можно забрать прах. Есть серьезное подозрение, граничащее с уверенностью, что неожиданные смерти умственно больных людей происходят не сами по себе, а вызваны умышленным вмешательством; что на практике осуществляется доктрина, в соответствии с которой можно уничтожать так называемую бессмысленную жизнь, то есть убивать невиновных, если есть мнение, будто их жизни не имеют более никакой ценности для нации и государства».
Касаясь конкретно первой партии пациентов из Мариентальского приюта близ Мюнстера, Гален зачитал письмо, отправленное им шефу местной полиции с уведомлением о готовящемся убийстве; епископ ссылался на долг гражданина в соответствии со статьей 139 Уголовного кодекса, обязывавшей любого информировать власти о «сговоре с целью покушения на жизнь людей». Затем Гален перешел к главному – этической стороне вопроса, предупреждая о возможной участи состарившихся, изможденных и израненных в боях ветеранов, «если вы установите и станете следовать принципу, по которому можно убивать “непродуктивные” человеческие создания». Проповедь Галена вызвала значительный резонанс на местном уровне. Ее широко цитировали и зачитывали в церковных епархиях округа Мюнстер и обсуждали среди священнослужителей в Кёльне[304]304
Nowak, ‘Euthanasie’ und Sterilisierung im ‘Dritten Reich’, 158–163; Löffler (ed.). Galen: Akten, Briefe und Predigten, 874–883; Brodie, ‘For Christ and Germany’, 103; со ссылкой на LNRW.AW, NSDAP Kreis– und Ortsgruppenleitungen, 125, 11 Sept 1941; LNRW.ARH, RW 35/08, 17.
[Закрыть].
Многие слухи о медицинских убийствах происходили из сфер децентрализованной бюрократии областных структур здравоохранения по причинам чисто техническим: управленцам приходилось санкционировать выплаты для пациентов, находящихся на государственном попечении, поэтому они не могли не отмечать перемен в денежных потоках, перенаправляемых в центры уничтожения; чиновники также получали и передавали дальше по инстанциям информацию от коллег. Такие знания – в чем-то отрывочные, в чем-то подробные – циркулировали на личном уровне до тех пор, пока Гален не решился воспользоваться независимостью церкви для придания гласности происходящему. Его проповедь со всей прямотой бросала открытый вызов властям[305]305
Sick, ‘Euthanasie’ im Nationalsozialismus, 73; Gerhard Schmidt, Selektion in der Heilanstalt, 8–19; Sandner, Verwaltung des Krankenmordes, 457, 488–505, 595–596 and 642–643; Burleigh, Death and Deliverance, 163–164.
[Закрыть].
Ответная реакция министра по делам церкви Ханнса Керрля, личного секретаря фюрера Мартина Бормана и местного гауляйтера Альфреда Майера выразилась в требовании применения репрессий против Галена. Что лучше: судить его и казнить как изменника в назидание другим? Без шума арестовать и отправить в концентрационный лагерь? Или попросту запретить проповедовать? Местные партийные активисты и функционеры в округе Мюнстер буквально тряслись от ярости, понося Галена как британского агента. Геббельса и Гитлера не в меньшей степени взбесила «выходка» высокопоставленного священника, но как формальные католики они очень хорошо отдавали себе отчет в возможном вреде поспешных мер. «Если предпринять какую-нибудь акцию против епископа, – заметил, как считается, Геббельс, – население Мюнстера, а в этом случае всей Вестфалии, можно будет списать со счетов до конца войны». Гитлер согласился, что бездействие станет пока наиболее мудрым выходом, хотя лично поклялся снять с Галена голову сразу после войны[306]306
Noakes, Nazism, 3, 431; Trevor-Roper (ed.). Hitler’s Table Talk, 555: 4 July 1942; Goebbels, Tgb, II/2, 27 and 29 Sept., 5 Nov. and 14 Dec. 1941.
[Закрыть].
На протяжении последних дней лета и осени 1941 г. католические епископы продолжали оказывать давление на умы. Антониус Хильфрих, епископ Лимбурга, находился в курсе происходящего в расположенном поблизости Хадамаре и в конце августа присоединился к совместным с архиепископом Кёльна и епископом Падерборна обращениям к министрам внутренних дел, юстиции и по делам церкви: «Мы считаем своей обязанностью выступить публично против этого [медицинских убийств] ради образования и просвещения нашей католической паствы, чтобы не вводить народ наш в сомнения относительно основ подлинной нравственности». Три дня спустя примеру Галена последовал епископ Трира Борневассер – он прочел проповедь против убийства пациентов с амвона кафедрального собора и вернулся к теме через полмесяца, 14 сентября, задавая риторический вопрос: действует ли еще в Германии статья 211 Уголовного кодекса? Сам Гален написал духовенству в Ольденбург с просьбой прочитать там его проповедь, а в октябре и ноябре британские ВВС разбрасывали листовки с выдержками из нее над территорией рейха. Епископ Майнца Альберт Штёр воспользовался праздником Христа Царя в конце октября[307]307
Праздник Христа Царя установлен папой Пием XI 11 декабря 1925 г. и первоначально отмечался в последнее воскресенье октября. С 1969 г. передвинут на последнее воскресенье перед началом Адвента – времени ожидания Рождества Христова. Первый день Адвента – четвертое воскресенье перед Рождеством, поэтому обычно праздник Христа Царя выпадает на конец ноября. – Прим. науч. ред.
[Закрыть] для обращения к заполнившим кафедральный собор прихожанам. В преддверии Дня поминовения усопших Прейзинг вновь поднял тему в соборе Святой Ядвиги в Берлине, изобличая художественный фильм с масштабным бюджетом «Я обвиняю» как топорную поделку пропаганды и проводя прямую связь между кассовым успехом ленты тем летом и убийством пациентов психиатрических лечебниц[308]308
Nowak, ‘Euthanasie’ und Sterilisierung im ‘Dritten Reich’, 168–170; Adolph, Kardinal Preysing und zwei Diktaturen, 168–170: Preysing, 2 Nov. 1941.
[Закрыть].
В фильме режиссера Вольфганга Либенайнера речь шла о помощи в уходе из жизни женщине, медленно и в мучениях умиравшей от рассеянного склероза. Зрители попеременно смотрели на происходящее то с позиции врача, пытающегося найти способ излечить пациентку, то – присяжных заседателей в суде, обсуждающих его решение помочь ей умереть с достоинством. Геббельс лично просматривал и отвергал все варианты сценариев с грубой пропагандой по данной тематике, выбрав именно этот вариант с его подходом «тонкого рекламирования». Как показывает выбор в пользу «серединки», министр пропаганды не считал германский народ «лишенным сантиментов» до такой степени, чтобы говорить ему правду об «эвтаназии»; людей надлежало готовить к этому мягко и словно бы исподволь. Задействованные в программе профессиональные элиты считали себя просто распространителями идей крайнего прагматизма на само право на жизнь; их готовность к сотрудничеству объясняется ключевым направлением мышления, нацеленным на борьбу с «антиобщественным элементом», «трудновоспитуемыми» подростками, «тунеядцами» и прочими подопечными органов социального обеспечения и полиции. Но, какие бы негативные эмоции ни вызвали заклейменные печатью умственной или физической неполноценности личности у «нормальных» людей, немецкое общество в целом не изъявляло готовности применять одни и те же меры против тех, кто не мог, и тех, кто не хотел работать. Разница между лентяями и беспомощными инвалидами оставалась огромной. Наиболее мощным аргументом Галена служили искалеченные солдаты, – получалось, что и их тоже надо будет лишать жизни. Когда его проповедь зачитали в церкви Аппельхюльзена 11 августа 1941 г., женщины в конгрегации принялись рыдать в голос, вообразив, что их сыновья на фронте окажутся под угрозой «эвтаназии»[309]309
Burleigh, Death and Deliverance, 183–219; Brodie, ‘For Christ and Germany’, 103–108; Joachim Kuropka (ed.). Meldungen aus Münster, 539.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































