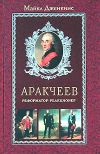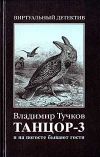Текст книги "Аракчеев"

Автор книги: Николай Гейнце
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 48 страниц)
IX
Страшная работа
Волнение Сергея Дмитриевича улеглось совершенно, он почувствовал себя вдруг как-то совершенно спокойным, его страх исчез так же мгновенно, как и появился.
Мысли его почему-то особенно стали ясны.
Он вынул еще по дороге к трупу из ножен висевший у него на поясе кинжал и, подойдя к мертвецу, стал спокойно и осторожно разрезать на нем одежду, чтобы не тратить времени не раздевание трупа. Шинель на покойном была только накинута, Талицкий разрезал пальто, сюртук и остальное. Для того, чтобы снять разрезанные лоскутки одежды, ему приходилось осторожно приподнимать труп, поворачивать его и даже иногда ставить прямо на ноги.
Картина этой адской, страшной работы, освещенная кротким светом луны, была ужасна.
Когда эта часть работы была окончена, Сергей Дмитриевич, как бы забыв о лежавшем рядом теле, стал шарить в этих лоскутках, ища карманов. Он нашел их, вынул все, что в них было: объемистый бумажник, кошелек, часы с цепочкой, кисет с табаком, трубку и записную книжку.
Переложив все это в свои карманы, Сергей Дмитриевич имел хладнокровие снова осмотреть каждый лоскуток. Пистолет, саблю и кинжал, бывшие на покойном, он отложил в сторону у края дороги. Разрезанную одежду он бережно положил на, шинель, закатал в нее и завязал ременной портупеей покойного, взвалил узел на плечи, захватил оружие и понес все это к бричке.
Все это он проделывал с какою-то особенной, точно рассчитанной медленностью.
Подойдя к бричке, он уложил свою добычу на ее дно и снова вернулся к трупу.
Хладнокровно взяв его за ногу, он было потащил его в лес, но вдруг свет луны отразился на чем-то блестящем на груди трупа.
Сергей Дмитриевич приостановился и снова наклонился над телом.
Блеснувший предмет оказался золотым тельным крестом, висевшим на такой же тонкой цепочке.
Талицкий без особого усилия разорвал последнюю и сунул крест в карман.
Затем он снова взял труп за ногу и быстро скрылся с ним в чаще леса.
В лесу было уже совершенно, темно, Сергей Дмитриевич шел тихо, ощупью, держась прямого направления, чтобы не сбиться с дороги на возвратном пути.
Он углублялся все далее и далее в глубь, таща за собою труп, путаясь в кустарниках, натыкаясь на деревья и цепляясь за ветви. Ему все казалось, что он все еще очень близко от дороги.
Вдруг он увидел впереди себя на довольно далеком расстоянии два блеснувшие глаза.
Не помня себя от страха, он выпустил из рук ногу трупа и бросился бежать назад, спотыкаясь, падая, но продолжая свой неистовый бег – страх, казалось, окрылил его ноги.
Позади его послышался протяжный вой, а впереди уже виднелась дорога.
«Волки! – вдруг осенила его мысль и сразу успокоила. – Это мои союзники и помощники… К рассвету от него останутся одни кости…»
Он вышел на дорогу, бледный, как полотно.
Кое-как влез он в бричку, и упав головой в угол сиденья, со свесившимися с краю брички ногами, заснул как убитый.
Когда он проснулся, было уже светло.
Сон был так крепок, что Сергей Дмитриевич несколько минут не мог прийти в себя и сообразить, где он и что с ним. Его взгляд упал на сверток одежды Зыбина, на котором он спал.
Он стал припоминать и, наконец, события минувшей ночи восстали перед ним во всей их страшной рельефности. Холодный пот выступил у него на лбу.
Он несколько мгновений стоял в раздумьи.
Что же делать? Что же делать?
«Ничего, теперь все кончено!» – успокоил он самого себя, бросив все же боязливый взгляд в ту сторону леса.
Ему даже показалось, что в просветлевшей чаще леса мелькнул голый мертвец.
Он вздрогнул, но вскоре снова оправился и инстинктивно повернул назад и пошел к месту совершенного им преступления.
Там все было, как и ночью: лужа крови, кровавый след, ведущий к лесу, следов других колес, видимо, не было, значит, еще никто не проезжал по этой дороге.
«А теперь, теперь каждую минуту могут проехать!» – мелькнуло в его голове.
Он тщательно и поспешно начал уничтожать следы крови с помощью найденной им толстой палки с заостренным концом и своих собственных ног.
Вскоре все подозрительное исчезло. Так, по крайней мере, показалось ему.
Вдали послышался какой-то неясный шум – стук колес.
Он расслышал его чутким ухом, напряженным страхом.
Он бросился к лошадям, отвязал их и пустился почти вскачь. Застоявшиеся лошади, видимо, были рады поразмять свои ноги. Но вскоре Сергей Дмитриевич одумался и придержал их.
«Это может хуже возбудить подозрение», – подумал он.
Он пустил лошадей сперва мелкой рысью, а затем почти шагом. Стук колес слышался все ближе и ближе – он не ошибся, по дороге кто-то ехал.
Талицкому вдруг страстно, до боли захотелось увидать живое, человеческое лицо, взглянуть в живые человеческие глаза. Ему казалось, что это уничтожит взгляд мертвых глаз Зыбина, неотступно носившихся перед его духовным взором.
Кроме того, у него появилась другая мысль – ему захотелось убедиться, что человек, проехавший роковое место, ничего не заметил. Сергея Дмитриевича вдруг стали мучить сомнения, что он не окончательно уничтожил кровавые следы.
Вследствие этого, он пустил лошадей шагом.
Стук колес становился все яснее и яснее. Талицкий уже чувствовал, что кто-то едет сзади него, но не оборачивался, а принял даже рассеянный, небрежный вид.
Ему сильно хотелось оглянуться, но он положительно не мог. Ехавший сзади, видимо, не решался обогнать его.
– Должно быть, мужик! – соображал Сергей Дмитриевич, мучимый нетерпением.
Такое его состояние продолжалось около четверти часа, показавшиеся ему целою вечностью.
Наконец, он не выдержал, свернул лошадей в сторону и остановился, делая вид, что ему надо слезть с брички. Мимо него проехал в таратайке, запряженной парой лошадей, какой-то крестьянин, почтительно снявший шапку перед офицером. Талицкий храбро глянул ему в лицо, в глаза и не прочел ничего подозрительного.
– Далеко ли до Вильны? – по-польски спросил он крестьянина.
– Да верст шестнадцать будет! – отвечал тот, почтительно сняв шляпу.
Услышанный звук человеческого голоса совершенно успокоил Сергея Дмитриевича, и он слез с брички, стал осматривать колеса, упряжь лошадей, будто поправлял то одно, то другое с деланно равнодушным видом.
Крестьянин поехал далее своею дорогою крупною рысью. Сергей Дмитриевич наблюдал за ним до тех пор, пока он не скрылся за поворотом. Крестьянин даже ни разу не оглянулся. Это окончательно успокоило Талицкого.
Переждав еще некоторое время, пока стук колес проехавшей таратайки заглох в отдалении, Сергей Дмитриевич снова забрался в бричку и поехал шажком.
Через два часа он въехал в город подполковником Евгением Николаевичем Зыбиным, как мы и будем называть его отныне.
X
Вильна
Город Вильна за время Отечественной войны 1812 года приобрел себе весьма любопытное историческое значение.
13 июня 1812 года соединенные силы Западной Европы, с французами во главе, перешли Неман, то есть тогдашнюю границу России, и началась война.
Государь Александр Павлович жил в это время уже более месяца в Вильне со всем двором и с графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым, делая смотры и маневры.
В тот самый день, в который войска Наполеона переправились через Неман и, оттеснив казаков, заняли русскую территорию, император Александр Павлович был на бале, дававшемся ему его флигель-адъютантами по подписке, для которого богатый помещик Виленской губернии, граф Бенингсен, любезно предоставил свой загородный дом в Закрете.
Во время разгара этого веселого, блестящего праздника, при начале мазурки, один из флигель-адъютантов с озабоченным видом подошел к государю и, наклонившись, шепотом передал ему известие о вторжении неприятеля в пределы России.
Государь удивленно вскинул свои чудные глаза на говорившего, оставил одну из польских дам, с которой до этого времени разговаривал, взял флигель-адъютанта под руку и отошел с ним в отдаленный угол залы, на ходу движением руки подозвав к себе графа Аракчеева.
До слуха присутствовавших, освободивших место залы, где стояли эти трое людей – и то только до ближайших долетели следующие слова государя:
– Без объявления войны вступить в Россию! Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле.
Известие о переходе французами Немана через несколько минут стало известно всем присутствовавшим на бале и принято было с совершенно различными чувствами: русские негодовали, поляки торжествовали, хотя, конечно, явно этого в данное время не выказывали.
Возмущенный наглым поступком того, кого он еще так недавно называл своим другом, государь остался, однако, до конца бала.
Возвратившись домой в замок Кейстута, государь немедленно послал за статс-секретарем Шишковым и приказал тотчас же написать приказ по войскам и рескрипт фельдмаршалу князю Салтыкову, требуя непременно, чтобы в последнем были помещены слова о том, что он не положит оружия до тех пор, пока хотя один вооруженный француз останется на русской земле.
На другой день было написано государем письмо к Наполеону следующего содержания:
«Государь, брат мой! Вчера дошло до меня, что несмотря на прямодушие, с которым соблюдал я мои обязательства по отношению к вашему императорскому величеству, войска ваши перешли русские границы, и только лишь теперь получил из Петербурга ноту, которою граф Лористон извещает меня по поводу этого вторжения, что ваше величество считает себя в неприязненных отношениях со мною с того времени, как князь Куракин потребовал свои паспорты. Причины, на которых герцог Бассано основывал свой отказ выдать сии паспорты, никогда не могли бы заставить меня предполагать, чтобы поступок моего посла послужил поводом к нападению. И в действительности, он не имел на то от меня повеления, как было объявлено им самим; и как только я узнал о сем, то немедленно выразил мое неудовольствие князю Куракину, повелев ему исполнять по-прежнему порученные ему обязанности. Ежели ваше величество не расположены проливать кровь ваших подданных из-за подобного недоразумения, и ежели вы согласны вывести свои войска из русских владений, то я оставлю без внимания все прошедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае я буду принужден отражать нападение, которое ничем не было возбуждено с моей стороны. Ваше величество еще имеете возможность избавить человечество от бедствий новой войны.
Александр».
Письмо это император Александр Павлович отправил для передачи лично императору французов с тем самым флигель-адъютантом, который первый передал ему известие о вторжении неприятеля в пределы русской земли.
По странной исторической случайности, посол русского государя был задержан в неприятельском лагере и через несколько дней уже снова в Вильне, в том самом замке Кейстута и даже в том самом кабинете, откуда отправлял его русский император, получил аудиенцию у императора французов, который и вручил ему письмо с дерзким и заносчивым ответом императору Александру Павловичу, полное лживых обвинений и непомерных требований.
Это письмо было последним письмом Наполеона к Александру, и война началась.
Последний раз город Вильна появляется на скрижалях русской истории в конце 1812 года, когда собственно война была окончена и неприятель изгнан из пределов России.
23 ноября 1812 года в Вильну приехал Кутузов, этот вождь, избранный царем, освободитель России.
Здесь он, в противность воле государя, оставил большую часть войска.
Государь Александр Павлович со всею свитою – графом Толстым, князем Волконским, графом Аракчеевым и другими, выехав 7 декабря из Петербурга, приехал в Вильну 11 декабря.
Здесь, в том же замке Кейстута, состоялось последнее свидание великого государя и знаменитого полководца.
Государь обнял при встрече старика, пожаловал ему Георгия I степени и сказал ему и собравшимся начальникам отдельных частей и офицерам знаменитые, золотыми буквами начертанные на скрижалях русской истории слова: «Вы спасли не одну Россию; вы спасли Европу».
Но роль Кутузова была кончена, он сделал свое дело и, не одобряя дальнейшего заграничного похода, решенного государем, должен был сойти с исторической сцены. Он и сошел с нее – он умер.
Таково историческое значение Вильны.
Она уцелела от французского погрома, была по-прежнему богата, полна жизненных удобств и житейских удовольствий.
Мнимый Евгений Николаевич Зыбин, въехав в нее и остановившись в гостинице, решил остаться здесь неопределенное время, находя ее самым безопасным местом от неприятных и неожиданных встреч с лицами из его прошлого.
Заняв богатое и роскошное помещение, он, переодевшись, немедленно поехал в парикмахерскую.
– До похода я был черный… а за это время слинял… – небрежно сказал он парикмахеру. – Нельзя ли почернить.
– Можно… – отвечал тот далеко не удивленным тоном, что очень успокоило мнимого Зыбина.
Через какой-нибудь час он сделался совершенным брюнетом.
Взглянув в зеркало, он нашел, что это ему даже идет и остался очень доволен.
Заплатив щедро за труды парикмахеру и купив у него несколько склянок заграничной краски, расспросив о способе ее употребления, он возвратился в гостиницу.
Отдав хозяину гостиницы отпускной билет на имя подполковника Евгения Николаевича Зыбина, он велел затопить камин и потребовал кипятку, лимону, сахару и рому.
Слуга исполнил требуемое, дрова весело затрещали в камине, а из наполненного стакана несся по комнате аромат крепкого пунша. Евгений Николаевич запер дверь номера на ключ и принялся за разборку бумаг.
Отложив в отдельную пачку все бумаги на имя поручика Сергея Дмитриевича Талицкого, он внимательно пересмотрел их и бросил в камин.
Медленно стали они загораться, а Зыбин, между тем, аппетитно прихлебывал из стакана пунш, наблюдая, как синеватое пламя постепенно охватывает документы, составляющие юридическую часть человека.
«Вот оно, зрелище своего собственного аутодафе!» – мелькнуло в его голове.
Вдруг перед ним снова мелькнули мертвые глаза.
Он усиленно налег на пунш и с отуманенной головой уснул тревожным сном.
Со следующего дня он ревностно принялся за дела. Прежде всего он послал прошение об отставке по домашним обстоятельствам, а затем сделал несколько визитов и вскоре познакомился со всем виленским обществом.
По рекомендации он нашел себе поверенного, которого, снабдив полномочиями, послал в тамбовское имение Зыбина получить доходы, а кстати поискать, не найдется ли на имение покупателя.
Этому же поверенному он поручил заехать в Москву, узнать жива ли и здорова ли его тетка – Ираида Александровна Зыбина, и если жива, передать ей сердечный поклон от племянника.
Устроив все это, он предался светской рассеянной жизни, вечера с дамами сменялись холостыми кутежами, он приобрел друзей, любовь общества, и жизнь его, казалось, катилась бы как по маслу… но…
Во всем и всегда бывает это «но».
Для нашего героя оно заключалось в том, что ему приходилось оставаться одному, и что за днем обыкновенно следовала ночь, которая дана для того, чтобы спать, а спать он не мог – мертвые глаза тотчас же появлялись перед ним, как только он ночью оставался один.
Он стал все чаще и сильнее прибегать к благодетельному пуншу. Впрочем, при здоровом организме ему это сходило с рук – он был бодр, здоров, цветущ.
Прошло около года, поверенный выслал деньги из имения и уведомил, что подходящий покупатель наклевывается; о тетушке же Ираиде Александровне известил, что она умерла вскоре после бегства французов из Москвы, в которой она оставалась, и что дом уцелел.
Евгений Николаевич письменно поручил ему принять наследство, так как других наследников не было.
Получен был, наконец, и указ об отставке подполковника Евгения Николаевича Зыбина, который при отставке был награжден чином полковника.
XI
Детство и юность Шуйского
15 августа 1831 года, под вечер, по дороге к селу Грузину, постоянной в то время резиденции находившегося в опале фельд-цейхмейстера всей русской артиллерии, графа Алексея Андреевича Аракчеева, быстро катился тарантас, запряженный тройкою лошадей.
В тарантасе сидел отставной офицер лет тридцати, высокого роста, с русыми волосами, с большими голубыми глазами, мутными и утомленными.
Черты лица его были красивы, но на них лежала печать весело проведенной юности, о чем красноречиво говорили преждевременные морщины и блеклость кожи.
Это был мнимый сын графа Аракчеева, небезызвестный читателям Михаил Андреевич Шумский.
Он равнодушно поглядывал по сторонам дороги, но по мере приближения его к Грузину, выражение лица его изменялось, какая-то болезненная грусть читалась в его глазах и в деланно насмешливой, иронической улыбке.
Картины прошлого с самого раннего памятного ему детства против его воли теснились в его голове, вызванные окружавшими его знакомыми местами.
Детство – этот счастливый, беспечный возраст пролетело совсем не так приятно для него, как для других детей.
Считавшаяся его матерью Настасья Федоровна Минкина более его мучила, чем берегла.
Это была, как знает читатель, женщина без всякого образования, грубая, жестокая, она старалась направить его воспитание к тому образу жизни, к которому он назначался.
Не имея понятия о жизни аристократии и зная о ней только понаслышке, она старалась привить ему аристократические манеры и придать ему вид природного аристократа.
Миша был здоровый ребенок – яркий румянец не сходил с его щек. Это сильно огорчало Настасью Федоровну, и она старалась придать интересную бледность его лицу, чтобы он походил на аристократа.
По ее мнению, все аристократические дети должны были быть бледными.
Для достижения этой цели, она не позволяла никогда кормить его досыта и даже поила уксусом.
Если бы добрая кормилица, находившаяся потом при нем в качестве няньки, не кормила бы его тайком – неизвестно, чем бы это кончилось.
Ребенок был связан во всех своих движениях. При своей мнимой матери он вел себя, как солдат на ученьи: вытянувшись в струнку, важно расхаживал, как павлин, закинув голову назад. Зато вырвавшись от нее, он вполне вознаграждал себя за все лишения и неудержимо носился по саду и лугам до истощения сил.
Несмотря на то, что Настасья Федоровна готовила из него изящного аристократа, она без милосердия порола его розгами.
Много горьких сцен этого времени припомнилось Шуйскому.
Кормилица всегда жалела его и заступалась, когда собирались его наказывать: она, со слезами на глазах, просила за него прощения и помилования, становилась перед Минкиной на колени, целовала ее руки, называя ее всеми нежными, сладкими именами, какие были только в ее лексиконе.
Иногда же она принимала угрожающее положение и говорила:
– Сейчас пойду к графу и все расскажу ему, чтобы ты не смела тиранить детище!
Угрозы действовали сильнее, чем ласки: ребенка оставляли в покое, но зато кормилица всегда после таких сцен много плакала и даже стонала.
Это продолжалось до шестилетнего возраста Миши.
После этого времени угрозы не повторялись.
Развивать в ребенке добрые чувства вовсе не заботились. Его учили и молитвам, только не для того, чтобы молиться Богу, а для того, чтобы он твердо и бойко мог прочесть их, когда графу-отцу вздумается спросить его. С младенчества старались ему привить гордость и презрение к низшим. Если Минкина замечала, что он говорил с мужиками или намеревался поиграть с крестьянским мальчиком, она секла его непременно, но если он бил по лицу ногой девушку, его обувавшую, она смеялась от чистого сердца. Таково было его первоначальное воспитание, мало, впрочем, отличавшееся от воспитания подобных барчуков того времени.
Самыми приближенными лицами к его мнимой матери была его кормилица, а затем нянька Авдотья Лукьяновна Шеина и Агафониха.
Шеина была женщина веселого и беспечного характера и очень красива. Минкина любила ее за веселость нрава и забавлялась, заставляя ее петь песни и плясать.
Агафониха – старуха со свиным рылом, хитрая, вкрадчивая. Со льстивыми речами, с низкими поклонами, она, как змея, заползала в сердце своей жертвы, выведывала все тайны и сообщала их Настасье Федоровне, которой, таким образом, было известно все, что делается кругом. Вот между какими людьми рос, хотя и не долго, мальчик Миша.
Граф Алексей Андреевич любил его и ласкал, не раз он сиживал у него на коленях, но Миша дичился и боялся его, всеми силами стараясь избегать, особенно после той сцены, памятной, вероятно, читателю, когда граф чуть было не ударил ногой в лицо лежавшую у его ног Настасью Федоровну, которую ребенок считал своею матерью.
Мальчику было как-то неловко в присутствии графа.
К его счастью, последний был очень занят, а потому его свидания с ним были редки и коротки.
С восьми лет Миша Шумский начал жить вместе со своей мнимой матерью более в Петербурге, в доме графа на Литейной.
К нему приставили учителей: француза, немца, англичанина и итальянца.
Француз находился при нем безотлучно – мальчик был более всех расположен к нему. Он в свободное время учил его гимнастике, что очень нравилось ребенку, рассказывал про Париж, про оперу, про театр, про удовольствие жить в свете; многого он не понимал из его рассказов, но темное понятие осталось в его памяти, и когда ему было восемнадцать лет, они стали ему понятны и много помогли в его шалостях.
Англичанин был строг, холоден и неразговорчив – он много мучил его, оговаривая постоянно, и стараясь охладить в нем живость, которую развивал француз.
Немца он терпеть не мог за немецкий язык, не нравившийся ребенку.
С нетерпением дожидался он часов, когда приходил итальянец. Он учил его музыке и итальянскому языку. Его учили играть на скрипке, на фортепиано и на гитаре. Ребенка это забавляло.
По-русски он учился мало: все науки читались ему, по обычаю того времени, на иностранных языках, а более на французском.
Благодаря таким наставникам, мальчик сделался вполне джентльменом, развязным, ловким, болтливым, надменным и даже немножко безнравственным, а благодаря петербургскому климату и своим менторам, он сделался интересно бледным, что приводило в восторг Настасью Федоровну.
Граф Алексей Андреевич был как нельзя более доволен его воспитанием. Ребенок знал Париж, не видав его, знаком был с образом жизни французов, англичан и итальянцев. Немцев он не любил в образе своего учителя, а потому мало ими занимался.
Мальчик знал даже, где в Париже можно провести весело время, но вовсе не знал России и с Петербургом знаком был мало. Его познания о России ограничивались начальными уроками географии и грузинской усадьбой, куда он летом ездил на праздники, да и там он более занимался изучением лошадей, собак и мест, удобных для охоты. Гувернер-француз был страстный охотник, во время прогулок он обращал внимание своего воспитанника лишь на места, удобные для охоты, и на разные породы догов.
Бедная кормилица! Сколько слез пролила она за это время! Мальчик не обращал на нее никакого внимания: простая русская баба не стоила того!
Так он воспитывался до того времени, когда его отдали сперва в пансион Греча, а затем в Пажеский корпус.
В корпусе жизнь мальчика пошла правильнее. Избавившись от докучливых менторов, он старался пользоваться свободой, какую мог иметь в корпусе.
Много проделал он проказ, но они всегда сходили ему с рук сравнительно легко – имя Аракчеева было для него могущественным талисманом. Впрочем, он учился хорошо, способности его были бойки, его знанием иностранных языков были все восхищены. На лекциях закона Божьего он читал Вольтера и Руссо, хотя, правда, немного понимал их, но тогда это было современно: кто не приводил цитат из Вольтера, того считали отсталым, невеждой.
Незаметно пролетело время в корпусе – он кончил курс в числе первых и был выпущен в гвардию. Это было счастливое время.
Получив, по тогдашним понятиям, блестящее воспитание, он вступил на широкую дорогу – будущность представлялась ему в самом восхитительном виде. Воображение его терялось в приятных картинах светской, рассеянной жизни.
Михаил Андреевич Шумский поехал в Грузино к графу Алексею Андреевичу Аракчееву.
Последний встретил его со слезами на глазах и восторженно любовался им – видно было, что его самолюбие было вполне удовлетворено его образованием. Он приказал отвести ему комнаты в главном доме, был с ним ласков и постоянно твердил ему, что он, как честный дворянин, должен быть предан царю до последней капли крови.
Настасья Федоровна была тоже в положительном восторге; не знала куда лучше посадить и чем потчивать. Когда вскоре граф уехал на один день из Грузина, она напоила его шампанским до пьяна.
Кормилица Лукьяновна, как звали ее в доме, глядя на него, плакала и с какою-то нежною любовью улыбалась ему сквозь слезы.
Она не сводила с него глаз, порывалась обнять, прижать к своему сердцу, но удерживалась присутствием посторонних.
Наконец, она дождалась счастливой минуты, когда они остались одни.
Она обхватила руками его голову, крепко прижала к своему сердцу, целовала его в губы, в лоб, в глаза и шептала в каком-то исступлении.
– Желанный мой, родной мой!
Он чувствовал, как на его лицо падали ее горячие слезы и не старался освободиться от ее ласк – ему было приятно в ее объятиях.
От этих ласк какое-то, неведомое ему прежде, новое чувство взволновало его грудь. Это были минуты первого и последнего его счастья на земле.
И теперь, при воспоминании, на поблекшее лицо Шуйского скатилась слеза.
Дворня и крестьяне с диким любопытством смотрели на него, но молодой барин не обращал на них внимания, не удостаивал их даже взглядом.
Вскоре он соскучился в деревне и заторопился в Петербург – поскорее вступить в новую самостоятельную жизнь.
Прощаясь с графом и Настасьей Федоровной, он не чувствовал ни тоски, ни сожаления, неизбежных при прощании, весело прыгнул в коляску, но взглянув в сторону, увидел свою бывшую кормилицу, устремившую на него полные горьких слез взоры.
Тупою болью отозвались в сердце молодого офицера эти слезы – Михаил Андреевич отвернулся и мрачный выехал из Грузина.