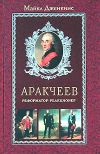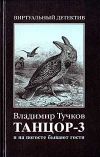Текст книги "Аракчеев"

Автор книги: Николай Гейнце
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 48 страниц)
XV
У мнимого отца
Не очень ласково принял Михаила Андреевича его мнимый батюшка – граф Алексей Андреевич Аракчеев.
Не по сердцу была ему проделка молодого человека в театре и поведение на Кавказе – он знал про него всю подноготную.
Но Шумскому было и горя мало, он не обращал на графа никакого внимания, промыслит, бывало, себе винца, да и утешается им на досуге. Он уже начал надеяться, что будет себе жить в Грузине, да попивать винцо на доброе здоровье, но вышло далеко не так.
Граф нахмурился, глядя на почти всегда полупьяного Михаила Андреевича, но в объяснения с ним не вступал; последний же старался как можно далее держать себя, что первое время ему удавалось, так как и сам Алексей Андреевич избегал его.
Прошло около месяца.
Однажды после обеда граф вдруг не тотчас же пошел в свой кабинет и заговорил. Шумский тоже принужден был остаться в столовой.
– Плохое дело старость, – начал, вздохнув, Алексей Андреевич, – хотелось бы потрудиться да поработать, но силы изменяют. Вот в твои лета я работал и усталости не знал. Самый счастливый возраст, чтобы трудиться для собственной и ближнего пользы – так охоты, видно, нет, лень одолела, а между тем, и стыдно, и грешно человеку в твоих летах тратить попусту время…
Михаил Андреевич хорошо понимал, в чей огород летят камешки, но молчал.
«Пришла охота старику побрюзжать, пусть его, на здоровье! Не стану ему отвечать, соскучится скоро один разговаривать и меня оставит в покое», – думал он про себя.
– Кажется, воспитание было дано отличное, – продолжал, между тем, граф, как бы говоря сам с собою, – и все было сделано, чтобы образовать человека, как следует быть дворянину, но ничто не пошло в прок. Вам и не скучно без занятия? – спросил он, обращаясь уже прямо к Шуйскому.
«Дело дрянь, – подумал последний, – молчком не отделаться».
– Что же прикажете делать, и поскучаешь другой раз… – смиренно отвечал он.
– Мне странно, что ты не можешь найти себе дела.
– Что же прикажете мне делать? Служить я не могу – это вам хорошо известно.
– Да ведь тебя учили всему; можно и без службы найти себе занятие.
Зло взяло Михаила Андреевича.
– Учили меня всему, чему не нужно, а чему нужно, тому не учили. Вот если бы учили меня сапоги шить и веретена точить – точил бы здешним бабам на досуге, а я и этого не умею.
– Хоть бы молился Богу на досуге, если ничего не можешь придумать делать.
– Не за кого! За себя я молюсь – этого с меня и довольно.
– Как не за кого? А за твою несчастную покойную мать… – хриплым голосом, с видимым усилием сказал граф.
– Моя мать, благодаря Бога, и теперь еще жива и здорова.
Алексей Андреевич грозно сверкнул очами.
– Да ты-то сам, братец, здоров ли? – спросил он сурово Шумского.
Последний встал.
– Время узнать вам истину, если вы только ее не знаете. Женщина, имени которой я не хочу произносить – оно мне ненавистно – недостойна была вашего внимания: она бессовестно обманула вас и погубила меня, насильно вырвав из родной семьи, из той среды, где я, быть может, был бы счастливым и все это из корыстных видов, чтобы этим низким обманом упрочить к себе вашу привязанность.
Граф сидел бледный – губы его посинели и тряслись, он слушал Шумского и не прерывал. Воспоминания прошлого, которое он столько лет старался забыть, одно за другим восставали в его уме.
Михаил Андреевич передал ему дословно рассказ своей родной матери – Лукьяновны.
Когда он кончил, Алексей Андреевич молча встал и неровными шагами ушел к себе в кабинет.
Михаил Андреевич отправился тоже к себе и выпил с горя так, что до утра проспал без памяти и ничего не слыхал, что вокруг него делалось.
Поутру, когда он проснулся, к нему вошел с озабоченным видом старый слуга Гаврила.
– У нас не совсем благополучно, Михаил Андреевич, – сказал он.
– Что такое?
– Граф захворать изволили вчера, и очень сильно – хлопот было довольно всем, в Петербург за доктором посылали, сейчас только приехал.
– Это все ничего – пройдет. Главное, есть ли водка – вот важный вопрос, на который тебе следует обратить внимание, – сказал Шумский, потягиваясь на постели.
– Эх, Михаил Андреевич, – покачал головой Гаврила, – пора бы вам и бросить: дело неприличное для вас, а для его сиятельства больно претительное. По правде сказать, вы, кажется, изволили его-то и расстроить вчера; как вы изволили с ним расстаться после обеда – все ему стало делаться дурно.
– Ну, ты там, что хочешь думай, а опохмелиться сегодня надобно. После что будет, а сегодня опохмелиться нужно: голова больно тяжела.
– Воля ваша, как угодно вашей милости! – отвечал Гаврила с каким-то ожесточением.
Дня три хворал серьезно граф, не выходил из своей комнаты и никого не принимал к себе; потом стал поправляться и выходить.
Через неделю после описанного разговора, Алексей Андреевич позвал Шумского к себе.
До этого времени последний не показывался ему на глаза.
– Вот что, Михаил Андреевич, скажу я вам, – начал граф, когда Шумский вошел в его кабинет и остановился перед письменным столом, за которым сидел Аракчеев. – Вам, действительно, здесь трудно найти себе занятие, а без дела жить скучно. В мире для вас все потеряно, но есть еще место, где вы можете быть полезным, если не ближним, то, по крайней мере, самому себе. Ваша жизнь полна горьких заблуждений; пора бы подумать вам о своем спасении и загладить грехи вашей юности молитвою и покаянием.
«Не мешало бы и вам?» – подумал Михаил Андреевич, но промолчал.
– Я бы вам советовал попробовать поискать себе утешение в монашеской жизни; особенно хорошо было бы пожить вам в Юрьевом монастыре. Отец архимандрит Фотий, человек замечательно умный и строгой жизни: под его покровительством вы бы нашли мир душе своей и, может быть, полезное занятие.
– Я не нахожу себя способным к монашеской жизни, – отвечал Шумский.
– Чего не испытаешь, того не знаешь, – продолжал граф, – может, это и есть ваше настоящее призвание. Я вас не неволю, но по моему мнению, гораздо лучше иметь какое-нибудь верное средство к жизни, чем томиться неопределенностью своей участи и не иметь ничего верного для своего существования. Подумайте.
Он легким наклоном головы дал знать, что разговор кончен.
– Плохи делишки! Плохи делишки! – говорил сам себе Михаил Андреевич, выходя от графа.
Думать было нечего – надобно было выбирать одно из двух: или идти в монастырь, или по миру.
Из слов графа Аракчеева ясно было видно, что если Шумский не пойдет в монастырь, то он выгонит его из дома.
А куда ему идти? Надобно было покориться неизбежной участи.
Но прежде чем обдумать, что ему делать, Михаил Андреевич с горя выпил.
Пьяному как-то все вещи представляются в лучшем виде.
«В монахи, так в монахи! – решил он, махнув рукой. – Ведь и в монастырях люди живут. Только дают ли там водку»?
Он никогда не бывал в монастырях, а потому вовсе не знал их порядков.
Вопрос этот смутил его.
– Эй, Гаврила! – крикнул он.
Гаврила явился.
– Бывал ты в монастырях?
– Бывал.
– Пьют ли там водку?
– Не знаю, может быть, и пьют, – ответил Гаврила, удивленно посмотрев на барина.
– Вот что!.. Ну, ступай, куда хочешь; ты мне не нужен.
Гаврила ушел.
XVI
В монастыре
«Значит, и в монастыре выпить можно! – рассуждал сам с собою Шумский. – Только Фотий больно строг!.. Да что же он со мной сделает? Я отставной поручик – розгами не посмеет».
На другой день утром он явился к графу.
– Что хорошенького скажешь, Михаил Андреевич? – спросил он его.
– Я пришел поблагодарить вас за спасительный для меня совет ваш, которому я решился последовать, – сказал смиренно Шумский.
– Хоть одно умное дело сделаете в продолжение всей вашей жизни. Конечно, для вас, с непривычки, тяжелою покажется строгая монастырская жизнь, но чтобы облегчить ее и дать вам возможность хоть на первый раз не испытывать всех лишений, я каждый год буду присылать вам по тысяче рублей.
Михаил Андреевич поблагодарил графа и вышел.
«Э! Да дело-то не совсем дрянь! – думал он. – С тысячью можно и в монастыре жить припеваючи!»
Через три дня был назначен его отъезд в Юрьев монастырь, Шумский дал знать своей матери.
Накануне отъезда она пришла проводить его. Оба они поплакали и выпили вместе на прощание.
Наступил урочный час, подали лошадей. Михаил Андреевич пошел проститься к графу и встретил его в столовой.
– Забудемте, что было между нами, Михаил Андреевич! – сказал Алексей Андреевич, обнимая его.
Он был взволнован.
– Вот письмо: потрудитесь отдать его отцу-архимандриту.
– Прощайте, – сказал он и быстро ушел к себе в кабинет. Не без грусти уехал Шумский.
Он приехал в Новгород и, когда вступил в монастырский двор, им овладело тревожное чувство.
«За этими стенами, – пронеслось в его голове, – мне приходится заживо схоронить себя от света – это моя могила».
И действительно, тишина, царствовавшая в монастыре, застроенном внутри огромными каменными зданиями, с обширным двором, усаженным деревьями и перекрещенным в разных направлениях тротуарами из плит, казалась могильною.
Изредка покажется монах, как привидение, весь в черном, мерно и плавно пройдет мимо и скроется куда-нибудь в коридор здания, но шаги его еще долго раздаются в ушах, вторимые эхом.
Шуйского проводили к архимандриту. Он передал через келейника письмо графа.
Фотий не долго заставил себя ждать в приемной. Быстро отворил келейник двери и перед Михаилом Андреевичем открылась целая анфилада больших, но скромно меблированных комнат.
В перспективе дверей, как в раме, показалась фигура Фотия. Он шел к нему медленно, склонив голову, как будто занятый размышлением.
Архимандрит Фотий был невелик ростом и сухощав; лицо его было бледно и так сухо, что ясно обрисовывались все мускулы.
Шумский подошел к нему принять благословение. С невольным уважением он низко поклонился архимандриту. В лице и осанке последнего было столько важной строгости и достоинства, что невозможно было смотреть на него без чувства какого-то благоговения.
Михаил Андреевич не счел нужным рекомендоваться Фотяю, державшему в левой руке письмо графа Аракчеева. По этому письму он уже знал, кто стоял перед ним.
– Ты, сын мой, – сказал Фотий тихим, приятным голосом, – пришел искать к нам убежища от сует мирской жизни?
– Точно так, ваше высокоблагородие! – по-солдатской привычке ответил Шумский.
Фотий слегка улыбнулся на такой титул и продолжал:
– Ревность по Богу и желание святой иноческой жизни похвальны; только для этого одного желания мало: надобно иметь твердую решимость, чтобы отказаться от всех прелестей суетной мирской жизни и посвятить всего себя строгому воздержанию, смирению и молитве – первым и главным добродетелям инока.
– Я на все готов!
– Искренно ли твое желание? – спросил архимандрит Фотий, окидывая Михаила Андреевича проницательным взглядом.
– Искренно! – ответил тот смущенно.
Он не мог вынести его взора, прожигавшего душу.
– Помоги тебе Господь Бог! – сказал Фотий, подняв взор кверху. – Отец наместник устроит тебя.
Шумский принял благословение и пошел в сопровождении келейника к наместнику.
Подойдя к келье наместника, келейник, провожавший Михаила Андреевича, постучал тихо в дверь и громко произнес:
– Господи Иисусе Христе, Боже наш!
– Аминь! – ответил кто-то звучным басом.
Вслед за ответом послышались шаги, щелкнул крючок и дверь отворилась.
На пороге стоял монах среднего роста, плотный, коренастый, с окладистой бородой, широким лицом, ничего не выражавшим, кроме самодовольства, с бойкими карими глазами.
Он был в подряснике.
Келейник, а вместе с ним и Шумский, приняли от него благословение.
– Отец-архимандрит благословил меня проводить к вашему преподобию Михаила Андреевича Шумского, – сказал келейник.
– Милости прошу в гостиную, – проговорил наместник, развязно взмахнув обеими руками в ту сторону, где была гостиная.
Михаил Андреевич пошел в гостиную, а наместник остался поговорить с келейником архимандрита.
Гостиная представляла из себя довольно обширную, светлую комнату, стены которой были вымазаны клеевой небесно-голубой краской, и на них красовались картины по большей части духовного содержания и портреты духовных лиц, в черных деревянных рамках, три окна были заставлены цветами, среди которых преобладали: плющ, герань и фуксия.
Мягкий диван, со стоящим перед ним большим овальным столом, два кресла и стулья с мягкими сиденьями составляли главную меблировку комнаты. Над диваном висело зеркало в черной раме, а на диване было несколько шитых шерстью подушек. Большой шитый шерстью ковер покрывал большую часть пола. В одном из углов комнаты стояла горка с фарфоровой и хрустальной посудой, а в другом часы в высоком футляре.
В момент входа Михаила Андреевича в комнату они звонко пробили два часа.
Не успел Шумский осмотреть гостиную наместника, как тот уже явился перед ним.
– Прошу покорно, Михаил Андреевич, садиться, – сказал он, указывая ему место на диване. – Я честь имею… наместник здешнего монастыря Кифа, в мире Николай.
С этими словами он крепко пожал руку Шумского. Они уселись рядом на диване.
– Что же вы к нам Богу молиться или совсем хотите украсить свою особу черным клобуком? – спросил наместник.
– Думаю, если Бог поможет мне, остаться совсем у вас.
– Так, совсем приехали к нам; скажите, сделайте милость, где ваши вещи? Я велю их принести сюда. Позвольте мне предложить к услугам вашим мою убогую келью, пока отец-архимандрит не сделает особого распоряжения.
– Не стесню ли я вас?
– Полноте, что за церемонии! Мы бесхитростные иноки; с нами все светские этикеты можно отложить в сторону. Во-первых, позвольте узнать, где оставлены ваши вещи, а во-вторых, позвольте предложить вам скромную монашескую трапезу. Вы, я думаю, еще не обедали, не так как мы уже успели оттрапезовать, несмотря на то, что только первый час в исходе.
– Искренно благодарю вас за внимательность. Если вы так добры, что принимаете на себя труд устроить меня, то делать нечего – я отдаюсь в полное ваше распоряжение! Мои вещи в повозке у монастырских ворот.
– Извините, если я оставлю вас на минуту, – сказал наместник и вышел в другую комнату.
Он вскоре вернулся.
Немного погодя, принесли вещи Шумского.
Затем явился послушник, накрыл на столе тут же в гостиной и подал обед.
Шумский пообедал с отцом-наместником.
«Не дурно, – подумал он, – если каждый день будут так кормить, да еще с такой порцией».
– Не хотите ли отдохнуть после обеда с дороги? – спросил его наместник. – Скажите без церемонии.
– Позвольте! – сказал он.
Сытный обед после дороги невольно клонил его ко сну. Ему на том же диване, где он сидел, положили подушки и он скоро заснул, вполне довольный своим положением.
XVII
Неисправимый
Долго ли спал Михаил Андреевич, он и сам не мог припомнить. Его разбудил густой звук колокола. Он открыл глаза. Перед ним стоял послушник.
– К вечерне не изволите ли?
Шумский пришел в церковь. Служба только что началась. Его поразил необыкновенный напев иноков Юрьева монастыря – они пели тихо, плавно, с особенными модуляциями. Торжественно и плавно неслись звуки по храму и медленно замирали под высокими его сводами. Это был не гром, не вой бури, а какой-то могущественный священный голос, вещающий слово Божие. До глубины души проникал этот голос и потрясал все нервы.
Первый раз в жизни Шумский – он внутренно сознался в этом самому себе – молился Богу как следует.
Новость и неизвестность его положения, огромный храм с иконостасом, украшенный щедро золотом и драгоценными каменьями, на которых играл свет восковых свечей и лампад, поражающее пение, стройный ряд монахов в черной одежде, торжественное спокойствие, с каким они молились Богу – словом, вся святость места ясно говорила за себя и невольно заставляла пасть во прах и молиться усердно. Несмотря на то, что вечерня продолжалась часа три, Михаил Андреевич не почувствовал ни утомления, ни усталости.
После вечерни все монахи, и в том числе и он, благословились от архимандрита. Наместник пошел за Фотием, монахи по своим кельям, а Шумский пошел осмотреть монастырь.
Обойдя кругом главный храм, он пошел было за монастырь посмотреть на Новгород, но ворота монастырские уже были заперты.
Он вернулся назад и, встретившись с отцом Кифой, пошел к нему. Самовар уже кипел на столе, когда они вошли в келью. Вечер прошел скоро, тем более, что легли спать часов в десять.
Ночью во сне Шумский услыхал не ясно, как будто кто-то его будит.
Нехотя он проснулся, открыл глаза и увидел, что перед ним стоит тот же послушник, а монастырский колокол гудит, сзывая монахов на молитву.
– К утрени не угодно ли? – сказал послушник.
– Так рано?..
– Два часа утра.
Не хотелось ему встать, он бы еще с удовольствием поспал, но нечего было делать – надо было привыкать к новой службе.
Обстановка храма, торжественный обряд служения, окружавшая его толпа искренно молившихся монахов снова произвели на Михаила Андреевича сильное впечатление.
Молитвенное настроение заразительно: он поддался ему – в его внутреннем мире совершился как бы духовный перелом, дух победил плоть – свежий и добрый, он отстоял обедню и моментами снова, как и накануне, горячо молился. Но, увы, это были только моменты.
После службы, когда он пришел к наместнику, тот сказал ему, подавая подрясник:
– Надевайте здесь, без церемонии; мне надобно посмотреть, впору ли вам будет новое платье.
Шумский оделся, взглянул на себя в зеркало – и невольная слеза выкатилась из его глаз. Отец Кифа был настолько тактичен, что сделал вид, что не заметил злодейки-слезы, обличавшей малодушие неофита.
Затем наместник проводил его в назначенную келью, состоявшую из одной комнаты, очень бедно меблированной. Объяснив ему, что за чистотой и порядком кельи он должен наблюдать сам, так как ему прислужника дано не будет, и, пожелав мира и спасения, он вышел.
Шумский остался один, один в полном смысле этого слова. С ним не было не только родного и близкого друга, но даже знакомого человека.
Один, сам с собой!
Разумеется, такое положение заставило его обратить внимание на самого себя, заглянуть, так сказать, к себе в душу. Давно не делал он этого, с тех пор, как слово «batard», «подкидыш», заставило его обратить на себя внимание.
Но тогда он еще несколько выше и благороднее представлялся самому себе.
Перед ним рисовались только пустота жизни да грехи юности… А теперь?..
Погибший, вследствие бессмысленной своей жизни…
Погубивший все, что было в нем доброго, постыдною наклонностью к вину, он сделался отвратителен самому себе.
Припоминая свою жизнь, он вздрагивал с тем чувством отвращения к себе, которое ощущается людьми, когда глазам их представляется гнойная рана или ползущая гадина.
Желание исправиться явилось в нем. Оно было искренно, тем более, что в руках его теперь были все средства.
Прошло две недели.
Он прожил их как нельзя лучше – к службе, хотя ему и было тяжело, постепенно привыкал. Стал брать и читал книги духовного содержания, но читал только для того, чтобы убить время и спастись от скуки.
Скоро, впрочем, Михаил Андреевич забыл об искреннем желании исправиться и вкусил запрещенного плода.
Но первый раз он поступил тихо и скромно, сказался больным и все сошло благополучно.
Ему показалось, что он очень ловко обманул бдительность старших.
Во второй раз он был уже менее скромен, но и на этот раз все оказалось шито и крыто.
«Э, – подумал он, – дело пошло лихо, бояться нечего!»
Шумский развернулся во всю, вспомнил походную жизнь и потешал монахов военными шуточками и рассказами о своих петербургских похождениях.
При описании петербургских балетов он начал даже откалывать примерные антраша и, наконец, ободренный смехом молодых послушников, пустился в присядку.
Старшая братия немедленно прекратила «соблазн», о котором и было сообщено по начальству.
На первый раз его арестовали в собственной келье, а поутру потребовали к архимандриту.
Робко вошел он в его апартаменты и с трепетным сердцем предстал пред лицо Фотия. Долго читал он Шумскому наставления, говорил много дельного и с чувством. Это сознавал сам виновный и слезы градом полились из его глаз.
Они послужили на этот раз спасением.
Архимандрит Фотий принял их за плоды чистосердечного раскаяния и отпустил Михаила Андреевича.
Самолюбие последнего было оскорблено – Фотий делал ему наставления в присутствии старшего монастырской братии и далеко с ним не церемонился.
«Как, – думал Шумский, идя от архимандрита, – меня смеют трактовать как какого-нибудь пришельца? Разве не знают они, кто был Шумский в оное и весьма недалекое время. Можно ли так бесцеремонно обращаться с бывшим офицером, флигель-адъютантом… Конечно, теперь я не состою им, но все же бывал, да и теперь все же я отставной поручик, а не кто-нибудь…»
Чтобы заглушить оскорбление, он прибегнул снова к спасительной бутылочке, но пьяному обращение архимандрита с ним показалось еще более унизительным.
Шумский поднял гвалт на весь монастырь. Его хотели без церемонии отправить в карцер и прислали за ним двух отставных солдат, но едва они приблизились к нему, как он крикнул:
– Как вы смеете оскорблять поручика?
И, вероятно, чтобы доказать свои права, дал ближайшему к нему солдату пощечину.
Военная дисциплина, впрочем, не помогла. Шуйского скрутили и посадили в карцер на три дня, на хлеб и на воду.
С тех пор жизнь его в монастыре стала невыносима. Он маялся и жил более в карцере, чем в своей келье. Его ничто не могло исправить – ни наставления, ни строгие меры.
Для монастыря он был человек лишний и даже вредный, но его держали единственно из уважения к графу Алексею Андреевичу Аракчееву.
Архимандрит Фотий подробным письмом сообщил последнему о вторичном описанном нами буйстве Шуйского. Это письмо граф получил накануне того дня, когда сетями грузинских рыболовов была вытащена так поразившая грузинского управляющего Семидалова и самого графа Алексея Андреевича утопленница.