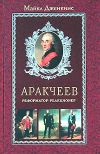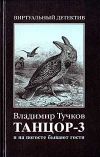Текст книги "Аракчеев"

Автор книги: Николай Гейнце
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 48 страниц)
XVI
Патриархальный уголок
Невдалеке от дома Ольги Николаевны Хвостовой, на том же Сивцевом Вражке, жила издавна известная почти всей Москве того времени одинокая старая дева Ираида Степановна Погорелова, всегда окруженная толпой разношерстных приживалок.
В тот год, когда в доме Хвостовой произошло известное читателям кровавое романическое происшествие, Ираиде Степановне было далеко более шестидесяти лет.
Дом ее был небольшой, старинный, построенный на дубовых подклетьях. Подклетьями назывались деревья в естественном виде, с обрубленными только сучьями и вершинами, но нисколько не тесанные и не отделанные, сложенные на поверхности земли клетками, одно на другое, в вышину от земли на сажень, что заменяло фундамент. Естественно, что таким образом сооруженные дома, имея такое под накатом свободное движение воздуха, переживали столетия.
Дома такого типа и до сих пор, хотя очень редко, как остаток седой старины, встречаются в Белокаменной столице.
К одному из углов переднего фасада дома было пристроено крыльцо с сенями и с лестницей, ступеней в пятнадцать, над которым спускался далеко выдававшийся вперед тесовый навес. Тесовая крыша дома, с большим слуховым окном, круто и высоко поднималась над домиком.
Кругом дома был расположен просторный двор, поросший летом травою и кругом обнесенный службами, то есть амбарами, погребами, кухнею, избами для дворовых и разного рода клетушками. К одной стороне двора примыкал сад.
Весь дом состоял из комнат, очень просторных, деливших его на восемь равных частей. Из сеней входили в переднюю или лакейскую, там зал, далее гостиная. Из гостиной дверь вела в спальню, из спальни в девичью, с выходом на заднее крыльцо, другая дверь из гостиной вела в две боковые комнаты, занятые «благородными», как называла Ираида Степановна своих приживалок. В восьмую комнату дверь была из лакейской и ее занимал Карп Карпович, крепостной человек Погореловой и ее главный управляющий.
В холодные зимы приятным теплом охватывало всякого, кто входил в переднюю, но еще теплее было в спальне Ираиды Степановны, где обыкновенно она сидела по целым дням, одетая почти всегда в ситцевом капоте на вате, с ост-индским клетчатым платком на плечах и таким же платком на голове.
Сидела она на диване, что-то в роде турецкого, но довольно жестком, обитом самым простым полосатым тиком, стоявшем возле лежанки из старинных изразцов, на которой стояли бутылки с закисавшим уксусом домашнего приготовления. Перед старушкой стоял круглый дубовый стол без полировки и лака, на белых кленового дерева ножках самой простой работы. На столе лежала серебряная с чернью табакерка и носовой ост-индский платок такого же качества, как на голове и на плечах. На стене, с одной стороны дивана, висели на гвозде большие карманные серебряные часы-луковица.
Кровать Ираиды Степановны стояла у противоположной лежанке стены; несколько отступя от нее, над кроватью высоко поднимался ситцевый, подбитый крупными узорами пестрый полог, утвержденный на четырех столбах, с подбором в виде широкой оборки наверху. Под всеми четырьмя точеными ножками старинной кровати подставлены были жестяные тарелки с водой. Мера эта была принята от клопов, чтобы они не могли по ножкам вползать на ложе. Другой небольшой столик, старинного красного дерева комод с откидной крышкой, или, лучше сказать, с конторкой и десятка два разной величины образов, в серебряных вызолоченных ризах и без риз, с теплившейся перед ними висячей лампадкой в углу, да несколько кресел, довершали все убранство спальни.
Зала и гостиная меблированы были старинною тяжеловесною мебелью красного дерева, зеркалами в таких же рамах и лампами в углах на высоких подставках.
Ираида Степановна была высокого роста, сухого сложения, лицо ее было продолговато, но не сухощаво, ее небольшие карие глаза выражали природное добродушие.
Жизнь она вела пунктуально регулярную. Вставала рано, часов в семь утра, пила чай и покопошившись в своем комоде или в сундуках, садилась на свой диван.
Карп Карпович, управляющий Ираиды Степановны, был высокого роста, имел большой, довольно красный нос, седые волосы и небольшие серые умные глаза, ходил солидною поступью, говорил плавно и авторитетно, и вообще, вся наружность его была благовидна. Одевался он в сюртук серого сукна, всегда опрятно, и высокие сапоги носил поверх панталон. Обращение его с Ираидой Степановной было почтительное, но с примесью некоторой фамильярности, или, лучше сказать, уверенности, что она без него обойтись не может. Все дворовые и крестьяне чтили его как барина. Впрочем, доверия своей барыни он во зло не употреблял и вел хозяйство исправно, часто отъезжал в принадлежавшую Погореловой тамбовскую вотчину. Крестьянам и дворовым и в вотчине, и в Москве, всем было хорошо, все жили, что называется, как у Христа за пазухой.
В половине двенадцатого часа Ираида Степановна смотрела на часы, кликала девку и приказывала идти к повару сказать, чтобы припускал жаркое. В 12 часов обедали, в 5 часов кушали чай, в 8 часов ужинали.
В полдень Карп Карпович сам приходил не то что доложить, что кушать подано, а просил пожаловать в зал кушать.
В зал выходила Ираида Степановна, собирались все ее «благородные» и садились за стол.
Карп Карпович, продев в петлю борта своего сюртука салфетку, сам подавал кушанье с достоинством, не как официант, или лакей, а как радушный хозяин. Разнеся блюдо и отдав его буфетчику, он становился к окну и прислонившись к стоявшему у стены столу, заложив нога на ногу и сложив руки, разговаривал с Ираидой Степановной о новостях, о соседях, о ближайших видах на урожай в имении, или шутил с «благородными», но всегда в меру и с достоинством.
Карп Карпович был грамотный. С малолетства жил всегда при господах и при отце Погореловой состоял в должности земского. Кроме книг священного писания, он читал много книг и светских, какие, разумеется, попадались под руку. По большей части это были романы иностранных писателей в плохих переводах, которыми тогда была наводнена русская книжная торговля.
Одним словом, Карп Карпович в умственном развитии, в умении держать себя и в обращении с выше и ниже себя поставленными ничуть не отличался от тогдашнего общества дворян средней руки.
Такие личности, как он, могли быть только завещаны нам прошедшим столетием, когда умственное образование для большинства самих дворян заключалось только в грамотности; естественно, что всякий дворовый мальчик, который готовился для домашнего письмоводства, живший постоянно в барском доме, в умственном и нравственном развитии шел в уровень с детьми своих господ. Как для тех, так и для других учителями были, если не старый длиннополый земский, то приходский дьячок.
Каждую зиму из тамбовской вотчины Погореловой приезжал в Москву староста и кроме денежного дохода привозил свинину, откормленную всякую домашнюю птицу, масло, пшено, крупу и все это в большом количестве. Разумеется, все это поедалось Ираидой Степановной с «благородными» и ее московскою дворнею, отчего все окружавшее ее было довольно, весело, счастливо, каталось, как сыр в масле, и, несмотря на то, что по кончине «барыни» они должны были воспользоваться заранее написанными отпускными на волю, молили искренно Бога о продлении ее жизни.
Крестьяне тамбовской вотчины жили зажиточно. Староста Тит был очень умный и богатый мужик, но не без хитрости и плутовства проходил свое служение. Вместе с оброком он привозил приходо-расходные книги для проверки, которые велись подобным же, ему плутом, земским Степаном.
Карп Карпович просматривал книги, и хотя по книгам все, отчеты были верны, исправно подведены итоги и всякие концы; плутней были припрятаны, но всегда находилось что-нибудь, дабы придраться к старосте с тем, чтобы его посечь. Тит, выезжая еще из тамбовской вотчины, знал уже, что его посекут; но ведь на это барская воля. Барская же воля в этом случае основывалась не на уликах в плутовстве, а в убеждении, что староста Тит уже непременно плутует, а потому надобно его поучить на будущее время.
И вот, когда все отчеты сданы, привезенные запасы приняты и старосту надобно отпустить, перед отъездом его Ираида Степановна приказывала принести в лакейскую розог, выходила туда сама и в присутствии своем матерински учила Тита не плутовать.
Получив розог пятнадцать, Тит вставал, приводил в порядок свой костюм, потом подходил к своей старой барыне, низко кланяясь, целовал ей руку на прощание, благодаря при том, что его поучили.
Посекши Тита, Ираида Степановна возвращалась на свой диван у лежанки так же спокойно, ничуть не взволнованная, как пошла, и, посмотрев на часы, добродушно приказывала «припускать жаркое».
Среди благородных приживалок Ириады Степановны особенно выделялась одна дворянка, Зоя Никитишна Белоглазова, девушка лет тридцати с небольшим, но казавшаяся моложе, с великолепными золотистыми волосами и задумчиво печальным взглядом прекрасных глаз, порой блестевших злобным огоньком.
Интересна судьба этой девушки.
Ее привез года за два до времени, к которому относится наш рассказ, староста Тит вместе с живностью из тамбовской вотчины. По его рассказам, он нашел ее полузамерзшую на почтовом тракте, верстах в двадцати от Тамбова, и, усадив на одни из саней обоза, привез прямо к своей «старой барыне».
Этот подвиг человеколюбия не освободил Тита от ежегодного «ученья», но бездомную скиталицу Ираида Степановна приютила у себя и вскоре к ней привязалась, как к родной.
XVII
По наследству
Мы уже заметили, что Ираиду Степановну Погорелову знала вся Москва, дворянская, чиновная и даже купеческая, знала и любила.
Происходило это не потому, что она держала открытым свой дом, любила гостей и сама была отзывчива на приглашения. Напротив, Погорелова жила очень уединенно, была домоседкой и кроме церковных служб по воскресным и праздничным дням, не посещала никого, а между тем, со всех концов Москвы приезжали к ней, но приезжали поодиночке, хотя всегда встречали истинно русское хлебосольство.
«Фриштыки» Ираиды Степановны, как своеобразно называла завтрак Настасья Карповна, памятны чуть ли не до сих пор старожилам первопрестольной столицы.
Они и без гостей, и при гостях происходили в девичьей. Там на большом белом липовом столе, накрытом простою, но ослепительной белизны скатертью, в изобилии подавались: творог с густыми сливками, пироги и ватрушки, яичницы разные, молочные, глазунья и прочее, молочная каша и тому подобное.
Не из-за хлебосольства и завтраков ездили к Ираиде Степановне – к ней ездили за пищей духовной, за утешением в неприятности, в горе, в несчастии.
Никто лучше ее не умел утешить и подкрепить человека даже тогда, когда положение его казалось ему безвыходным. Ее спокойная, плавная речь действовала магически на расшатанные нервы, ее логические доводы были неотразимы, а ее практический ум всегда находил выход из неприятно сложившихся обстоятельств, выход такой простой и возможный, что люди, которым давала свои советы Погорелова, подчас долго ломали себе голову, почему такая простая мысль не появилась ранее у них. Они забывали, что отчаяние, в которое впадают слабые люди, парализует способность мышления.
Подчас Ираида Степановна давала и не одни советы и утешения – некоторые из обращавшихся к ней получали и нечто более существенное, для чего Погорелова открывала свою заветную «конторку».
Происходило это, впрочем, в редких, исключительных случаях. Нельзя было сказать, чтобы Ираида Степановна была скупа, нет, она была только рассудительно бережлива.
У нее был племянник – сын ее покойной любимой сестры, которого она считала своим прямым и единственным наследником, каким он был и по закону, а потому и берегла копейку, считая ее не своей, а «Аркаши», как она звала Аркадия Петровича Савина, оставшегося в детстве сиротой после одного за другим умерших родителей и когда-то воспитывавшегося в московском корпусе, и воскресные и праздничные дни проводившего у Ираиды Степановны, боготворившей мальчика. Рассудительность Погореловой взяла верх даже над этой привязанностью – она сама решила, что Аркаше надо «служить», в полном смысле этого слова, на Кавказе, а не баловаться в московских и петербургских гостиных. Она посылала ему деньги, но далеко не в обильном количестве.
«Умру – все его будет, для него и берегу. В зрелых летах он на деньги и смотреть иначе будет – они и принесут ему пользу, а мальчику много денег – одна погибель», – говаривала старушка.
Повторяем, она не была скупа, но рассудительно бережлива, а потому необходимо было, чтобы обстоятельства пришедших к ней за помощью были таковы, что эта помощь действительно могла принести существенную пользу, поднять пошатнувшегося человека на ноги, а не оказать лишь временную поддержку, отсрочить неизбежный конец.
В первом случае она давала, не стесняясь суммою, во втором она отказывала, порой даже в резкой форме.
– Знаешь, чай, батюшка, меня, – отвечала в тех случаях Ираида Степановна, если разговаривающий был мужчина, или же заменяя слово «батюшка» словом «матушка», если имела дело с собеседницей, – я милостыни не подаю, да ты, чай, и не возьмешь ее; милостыня – один вред, получил человек, истратил, и опять просить надо, а там повадится, попрошайкой сделается, от работы отобьется, лентяя да праздношатая хуже нет. Тебе дать денег, все одно, что в окно швырнуть, а на это у меня их нет, да и деньги не мои – племянника… в них я отчет должна дать Богу.
– Да помогите уж, голубушка, Ираида Степановна, я поправлюсь, уж я знаю… – пробовал было возразить проситель, но Погорелова сурово останавливала его.
– Ничего ты не знаешь, я лучше тебя твои дела знаю… так ты мне зря не болтай, слушай.
За этим следовал какой-нибудь разумный совет.
Замечательно то, что Ираида Степановна никогда на самом деле не ошибалась ни в людях, ни в настоящем положении их дел, и поддержка, оказываемая ею, всегда приносила пользу и деньги возвращались ей с благодарностью, хотя на них не было никакого документа.
– На что мне твое «заемное письмо», с глазу на глаз даю, между нами Бог! – возражала Погорелова на предложение расписки.
И надо сказать, к чести того времени, что не одна Ираида Степановна практиковала такой способ кредита, и эти «божьи долги» никогда не пропадали.
Много дворянских семейств спаслись от разорения, много московских купеческих фирм пошло в гору с легкой руки Погореловой.
Слава об этой легкой руке гремела по Москве.
Близкая соседка Погореловой Ольга Николаевна Хвостова была ее давнишней и задушевной приятельницей. Не раз Ираида Степановна обращалась к ней за более крупными суммами, которых не имела в своем распоряжении, но которые были нужны для поддержки того или другого лица, могущего поправить свои дела при своевременной помощи, и никогда не встречала отказа. Возвращенные деньги Погорелова в тот же час отправляла к Хвостовой.
После несчастия с сыном Ольга Николаевна в доме Погореловой находила тот живительный бальзам утешения, который необходим был ей, гордой и не склонной к откровенной беседе с окружавшими ее домашними, не исключая и Агнии Павловны Хрущевой.
Свою душу открывала она одной Погореловой и раза два в неделю непременно «фриштыкала» у соседки и часа два проводила с ней в интимной беседе с глазу на глаз.
Что говорили они в это время – было тайною, но Ольга Николаевна выходила из дома Ираиды Степановны, как и другие, искавшие там утешения, с легким сердцем и спокойствием на душе.
После второго обрушившегося на Ольгу Николаевну несчастия – бегства ее любимой дочери, осиротевшая мать также нашла утешение в доме Погореловой, но уже у постели больной Ираиды Степановны.
Старушка слегла недели за две до кровавого происшествия в саду Хвостовой, слегла не вследствие какой-нибудь болезни, а вследствие ослабления всего организма.
Никакие доводы о необходимости немедленной помощи не могли убедить старушку послать за врачом, к помощи которого она не прибегала никогда в жизни, лечась только домашними средствами.
– И что, матушка, идти против Божьей воли – умереть определено, так умирать надо! – говорила она в ответ на предложение пригласить доктора.
Почувствовав себя плохо, она пригласила священника, исповедывалась и приобщилась святых тайн, а затем выразила желание видеть Ольгу Николаевну Хвостову.
Домашние тотчас же послали за ней.
Она не замедлила явиться.
– Это вы… – сказала больная слабым голосом. – Я просила вас! Чувствую, что умираю.
– Полноте, что за мысли, еще как поправитесь… – пробовала утешить ее Хвостова.
– Нет, я знаю, поэтому и попросила вас; по завещанию я сделала, простите, без вашего согласия, вас полною распорядительницей моей воли… это так и должно быть, так как есть должники, которые должны не мне, а вам, вы давали деньги.
– Зачем об этом говорить.
– Как не говорить… дело прежде всего. Все оставляю племяннику Аркаше. Остальных тоже не забыла, все будут довольны. Об одном только хотела я переговорить с вами, если вы захотите исполнить волю умирающей.
– Исполню с благоговением, – отвечала Ольга Николаевна, под впечатлением серьезности тона просьбы.
– Есть у меня тут девушка Зоя, хорошая, честная девушка, оставила я ей по завещанию три тысячи рублей, но куда она денется, не знаю, очень меня беспокоит ее судьба. Ежели здесь останется, приедет племянник, человек молодой, а у ней много в глазах… этого… плотского… как я опасаюсь…
Старушка остановилась.
– Чего же вы хотите? – спросила Хвостова.
– Возьмите ее к себе, приютите, любимица она моя, так в воспоминание обо мне сделайте это доброе дело… девушка она хорошая… ласковая… вам будем в утешение, как и мне была.
Ираида Степановна видимо уставала и снова остановилась.
– Что ж, я с удовольствием, я теперь совсем одна, и если она хорошая девушка, то это мне будет, на самом деле, утешением.
– Именно утешением… – проговорила больная. – Зоя такая девушка, с которой и поговорить приятно. Одно не надо, спрашивать ее о прошлом, задумается и замолчит. Видно, тяжело, очень тяжело ее прошлое.
– Я приму это к сведению.
– Значит, вы исполните мою просьбу относительно Зои… тогда я умру спокойно.
– Конечно, но что за мысли… вы поправитесь и еще будете жить долгие годы.
– Нет, не утешайте… я скоро умру… – серьезным тоном возразила Погорелова.
Предчувствие ее сбылось… Через неделю ее не стало.
Ираида Степановна умерла тихо и лежала в гробу с той же добродушною улыбкой на устах, с которой встречала тех, которые нуждались в ее нравственном подкреплении.
Похороны, на которые покойная по завещанию оставила тысячу рублей, приказав из этой суммы оделить и нищих, были совершены с особенною помпою, тем более, что Ольга Николаевна ассигновала оставленную тысячу рублей исключительно на бедных города Москвы, а самые похороны устроила на свой счет, как душеприказчица.
Зоя Никитишна, по воле покойной и в силу любезного приглашения Ольги Николаевны Хвостовой, переехала к ней.
Обе они не знали, что в этом были только слепыми орудиями судьбы.
XVIII
Манифест 1823 года
Летом 1823 года, московский архиепископ, впоследствии митрополит Филарет, находясь в Петербурге для присутствования в синоде, просил временного увольнения в свою епархию.
Министр духовных дел князь Александр Николаевич Голицын объявил ему на это открыто Высочайшее соизволение и в то же время секретно Высочайшую волю исполнить, прежде отъезда, особое поручение государя.
Вслед за тем ему было передано подлинное письмо цесаревича великого князя Константина Павловича 1822 года и повелено написать проект манифеста о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича, с тем, чтобы акт этот, оставаясь в тайне, пока не настанет время привести его в исполнение, хранился в московском Успенском соборе с прочими царственными актами.
Мысль о тайне тотчас же родила в уме архиепископа Филарета вопрос: каким же образом при наступлении эпохи восшествия на престол, естественно имеющего совершиться в Петербурге, сообразить это действие с манифестом, хранящимся в Москве?
Он не скрыл своего недоумения от государя, и последний вследствие того соизволил, чтобы снимки с составленного акта хранились также и в Петербурге: в государственном совете, синоде и сенате, что и было включено в самый проект.
Вручив последний князю Голицыну, архиепископ Филарет, как уже уволенный в Москву, просил позволения откланяться и был допущен пред государем на Каменном острове и вместе с тем получил повеление дождаться возвращения проекта для некоторых в нем поправок.
Филарет, заботясь о вверенной ему тайне, слышал, что продолжение пребывания его в Петербурге, после того, как всем уже было известно, что он уволен, возбуждает вопросы любопытства, просил позволения исполнить высочайшую волю при проезде через Царское село, где мог остановиться под видом посещения князя Голицына.
Так и сделалось.
Филарет нашел у князя возвращенный проект; некоторые слова и выражения были в нем подчеркнуты; стараясь угадывать, почему они не соответствовали мыслям государя, он заменил их другими.
Манифест, вышедший, таким образом, из-под пера архиепископа Филарета, был следующего содержания:
«Божьею милостию мы, Александр Первый, император и самодержец всероссийский и прочее. Объявляем всем нашим верным подданным. С самого вступления нашего на всероссийский престол непрестанно мы чувствуем себя обязанными перед Вседержителем Богом, чтобы не только во дни наши охранять и возвышать благоденствие возлюбленного нами отечества и народа, но желая предуготовить и обеспечить их спокойствие и благосостояние после нас, чрез ясное и точное указание преемника нашего сообразно с правами нашего императорского дома и с пользами империи, мы не могли, подобно предшественникам нашим, рано провозгласить его по имени, оставаясь в ожидании, будет ли благоугодно неведомым судьбам Божьим даровать нам наследника в прямой линии. Но чем далее протекают дни наши, тем более поспешаем мы поставить престол наш в такое положение, чтобы он ни на мгновение не мог остаться праздным.
Между тем, как мы носили в сердце нашем сию священную заботу, возлюбленный брат наш, цесаревич и великий князь Константин Павлович, по собственному внутреннему побуждению, принес нам просьбу, чтобы право на то достоинство, на которое он мог бы некогда быть возведен по рождению своему, передано было тому, кому оное принадлежит после него. Он изъяснил при сем намерение, чтобы таким образом дать новую силу дополнительному акту о наследовании престола, поставленному нами в 1820 году, и им, поколико то до него касается, непринужденно и торжественно признанному.
Глубоко тронуты мы сею жертвою, которую наш возлюбленный брат, с таким забвением своей личности, решился принести для утверждения родовых постановлений нашего императорского дома и для непоколебимого спокойствия Всероссийской империи.
Призвав Бога в помощь, размыслив зрело о предмете, столь близком к нашему сердцу и столь важном для государства, и находя, что существующие постановления о порядке наследования престола, у имеющих на него право, не отъемлют свободы отрешить от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании престола, – с согласия августейшей родительницы нашей, по дошедшему до нас наследственно верховному праву главы императорской фамилии, и по врученной нам от Бога самодержавной власти, мы определили: во-первых – свободному отречению первого брата нашего, цесаревича и великого князя Константина Павловича от права на всероссийский престол быть твердым и неизменным; акт же сего отречения, ради достоверной известности, хранить в московском Большой Успенском соборе и в трех высших правительственных местах Империи нашей: в святейшем синоде, государственном совете и правительствующем сенате; во-вторых – вследствие того, на точном основании акта о наследовании Престола, наследником нашим быть второму брату нашему, великому князю Николаю Павловичу.
После сего мы останемся в спокойном уповании, что в день, когда Царь царствующих, по общему для земнородных закону, воззовет нас от сего временного царствия в вечность, государственные сословия, которым настоящая непреложная воля наша и сие законное постановление наше, в надлежащее время, по распоряжению нашему, должно быть известно, принесут верноподданническую преданность свою назначенному нами наследственному императору единого, нераздельного Престола Всероссийской Империи, Царства Польского и Княжества Финляндского. О нас же просим всех верноподданных наших, да они с тою же любовию, по которой мы, в попечении о их непоколебимом благосостоянии полагали высочайшее на земле благо, принесли сердечные мольбы к Господу Нашему Иисусу Христу о принятии души нашей, по неизреченному Его милосердию, в царствие Его вечное».
В том же году, 25 августа, император Александр Павлович прибыл в Москву и 27-го прислал архиепископу упомянутый манифест, подписанный в Царском Селе 16-м числом того же месяца.
Он был в запечатанном конверте, с собственноручною подписью государя: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого действия».
На следующий день посетил архиепископа граф Алексей Андреевич Аракчеев и, осведомись, получены ли им известные бумаги, спросил, когда они внесутся в собор?
Филарет отвечал, что 29 числа, в повечерии дня тезоименитства государя, он будет лично совершать всенощное бдение в Успенском соборе и при вступлении в алтарь по чину службы, прежде ее начатия, воспользуется этим временем, чтобы положить запечатанный конверт в ковчег к прочим актам, не открывая, впрочем, никому, что это значит.
Мысль его была, чтобы, по крайней мере, те немногие, которые будут в алтаре, заметили, что к государственным актам приобщено что-то неизвестное и чтобы от этого остались, в случае кончины государя, некоторые догадки и побуждение вспомнить о ковчеге и обратиться к вопросу: нет ли в нем чего на этот случай?
Граф Алексей Андреевич ничего не ответил и вышел, но вскоре опять возвратился с отзывом, что государю не угодна ни малейшая огласка.
29 августа, когда в соборе были только протопресвитер, сакелларий и прокурор синодальной конторы с печатью, архиепископ вошел в алтарь, показал им печать, но не надпись принесенного конверта, положил его в ковчег, запер, запечатал и объявил всем трем свидетелям, к строгому исполнению, высочайшую волю, чтобы о совершившемся никому не было открываемо.
Он не сомневался, что существование манифеста, по крайней мере, известно князю Дмитрию Владимировичу Голицыну, которому, в качестве московского военного генерал-губернатора, надписью на конверте поручалось вскрыть его в свое время, но не решился объясниться с князем по этому предмету, не имев на то полномочий.
Позже оказалось, что генерал-губернатору ничего не было сообщено и что о новом акте, положенном к прочим актам в Успенском соборе, он узнал только уже после кончины императора Александра Павловича от самого Филарета.
По подписании манифеста и положении подлинника в Успенском соборе, списки, с него написанные, как и подлинник рукою князя А. Н. Голицына, были посланы и оставлены в означенные в нем места, с собственноручными надписями государя, подобными той, которая была на конверте с подлинником.
Рассылка этих конвертов при переходах по канцеляриям не могла остаться без огласки, но одержание конвертов, где, по красноречивому выражению архиепископа Филарета, «как бы в гробе хранилась погребенная царская тайна, скрывавшая государственную жизнь», было известно только трем избранникам.
Публика, даже высшие сановники, ничего не знали, терялись в соображениях, в догадках, но не могли остановиться ни на чем верном.
Долго думали и говорили о загадочных конвертах; наконец, весть о них, покружась в городе, была постигнута общею участью: ею перестали заниматься.
Не знал о манифесте и тот, чья судьба им решалась. Тайна была сохранена в целости.