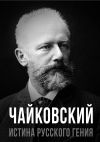Текст книги "Воспоминания о П. И. Чайковском"

Автор книги: Николай Кашкин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Вторым лицом в консерваторском кружке можно назвать умершего в июне 1893 г. К. К. Альбрехта, очень близкого П.И. Чайковскому человека. Он был сыном бывшего капельмейстера русской оперы в Петербурге, которому выпала честь постановки в 1842 году на сцену Руслана и Людмилы. Выучив сына основным началам музыки, а также игре на смычковых инструментах, капельмейстер, живший на пенсии в Гатчине, отправил его в Москву, где пятнадцатилетний музыкант поступил на службу в оркестр Большого театра и должен был начать вести самостоятельную жизнь. К. К. Альбрехт был в двухлетнем возрасте привезен в Россию, прошел четыре класса русской гимназии, но русским языком владел довольно плохо до конца жизни, то есть, говорил он бегло, но делал нередко ошибки, свойственные иностранцам: путал виды глагола, склонения спряжения и т. д. В Большом театре он играл на виолончели; в то время в оркестре был превосходный виолончелист Шмидт, бывший учителем К. Ю. Давидова, одновременно с которым брал уроки и Альбрехт, но при всей музыкальной талантливости, неудобный склад руки заставил его отказаться от виртуозной карьеры и ограничиться скромной ролью члена оркестра. Увлекаясь музыкой Шумана, камерные сочинения которого он хорошо знал еще в Гатчине, в доме отца, Альбрехт перенес свое увлечение и на журнальные статьи Шумана о музыке, изданные тогда уже в отдельных четырех томиках, а оттуда и на основанную им музыкальную газету Neue Zeitschrift fur Musik, давно перешедшую в другие руки и в это время, под редакцией Бренделя, ставшую органом передовой музыкальной партии в Германии, во главе которой стояли Вагнер и Лист. Влияние Шумана отразилось и на литературных вкусах молодого музыканта, зачитывавшегося, подобно ему, Жан Полем Рихтером и между поэтами едва ли не более всех любившего Рюккерта за изящество формы. В Москве Вагнера тогда совсем не знали, хотя А. Н. Серов уже напечатал ряд восторженных статей о нем, но русских музыкантов тогда было мало, да и те ничего почти не читали, а немцы, если и читали, то разве такие строго-консервативные статейки, в которых и Бетховен одобрялся только до последнего периода его творчества. Под влиянием своей газеты Альбрехт сделался сторонником самой крайней передовой музыкальной партии в Германии. Особенность взглядов, подкрепленная значительной начитанностью, знанием музыкальной литературы и далеко незаурядной талантливостью, доставила Альбрехту авторитетное положение в среде сотоварищей по оркестру, большинство которых не имело никакого образования и понимало только написанное нотными знаками. Те же качества Альбрехта обратили на него внимание Рубинштейна, который подружился с ним, а с открытием деятельности музыкального Общества предложил ему быть его помощником, на что Альбрехт изъявил полнейшую готовность и с того времени до конца жизни Рубинштейна был его лучшим и ближайшим сотрудником по всем делам общества и консерватории, принося в жертву свои личные дела, и интересы. Бесконечно скромный по натуре, он не только не старался выдвинуть напоказ свою неустанную и многостороннюю работу, напротив, старался сколь возможно тщательно скрыть ее от постороннего глаза, так что вполне знать и ценить его могли только близкие люди, но зато такие близкие люди и сохранили к нему неизменную дружбу до конца жизни. Н. Г. Рубинштейн, уезжая в 1881 г. больной за границу, откуда привезли только его тело, на случай смерти своей, взял с дирекции музыкального общества, согласие, облеченное в форму официального постановления, назначить Альбрехту, в случае выхода его из консерватории пенсию, переходящую по смерти его в половинном размере семье. Н. Г. заботился именно об Альбрехте не только в силу его заслуг, но и потому, что знал его за неизлечимого мечтателя, который без него не сумеет себе создать прочного положения; так и случилось на самом деле. Альбрехт подкупал Чайковского своим тонким музыкальным вкусом и способностью критического анализа, потом Чайковский очень высоко ценил задатки композиторского таланта у Альбрехта, хотя они и выражались почти исключительно в неоконченных, или даже едва начатых сочинениях ему совсем недоставало композиторской техники и в то же время мешало стремление к гармоническим экстравагантностям, свойственным последователям Вагнеро-Листовской школы. Наконец, Альбрехт был очень интересным собеседником со своими оригинальными суждениями, немного вычурным, навеянным чтением Ж. П. Рихтера, языком, причем эта вычурность часто очень комично осложнялась ошибками в русском языке, дававшими бесконечный материал для шутливых насмешек Чайковского и других близких друзей Альбрехта; Чайковский был к нему очень искренне привязан.
Между иностранцами-профессорами Чайковский не был тогда ни с кем особенно близок. От восторгался несравненной игрой Ф. Лауба, но сблизиться с ним не мог, во-первых потому, что Лауб кроме музыки и ружейной охоты ничем не интересовался, а во-вторых – помехой был язык: Лауб говорил только по-немецки и едва начинал объясняться по-русски, а Чайковский несколько понимал немецкий язык, но не говорил на нем. Больше точек, соприкосновения было у него с виолончелистом Б. Косманом, превосходным виртуозом, отличным музыкантом, образованным человеком вообще, к тому же прекрасно владевшим французским языком. Косман, поселившись в меблированных комнатах, вел совершенно затворническую жизнь, мало с кем знакомился и никогда не приглашал в себе никого. Ко мне он очень изредка приходил по приглашению и тогда обыкновенно бывал и Чайковский, причем устраивалась партия в ералаш; Косман играл очень хорошо и был игроком строгим, одним из тех, от которых Чайковскому доставалось за рассеянность. После игры садились за ужин, Косман оставался, хотя никогда не ужинал, но охотно принимал участие в беседах, длившихся иногда за полночь. Чайковский сохранил о Космане хорошее воспоминание и навестил его года два назад во Франкфурте, где он состоит профессором консерватории. Косман покинул московскую консерваторию после трехлетнего пребывания в ней; оставаясь совершенно чуждым Москве и России, он страшно скучал и томился здесь, тем более, что семья его проживала в Германии, где он имел собственный дом в Баден-Бадене. С Иосифом Венявским знакомство Чайковского было кратковременно, ибо, как уже выше сказано, он после первого полугодия вышел из консерватории и позже им с Чайковским почти не приходилось встречаться. Иногда мы собирались по вечерам у А. И. Дюбюка, очень радушного и хлебосольного хозяина. Петр Ильич восхищался его действительно замечательной игрой на фортепьяно; в исполнении сочинений Фильда и вообще композиций той эпохи ему решительно не было равного. Кроме того, А. И. Дюбюк всегда был веселым, чрезвычайно остроумным рассказчиком и собеседником. К числу прочих талантов он присоединял еще талант повара и готовил тут же при нас превкусные ужины, во время которых веселые беседы не умолкали. Остальных лиц из консерватории, имевших близкое отношение к Петру Ильичу, мы коснемся впоследствии.
* * *
В то время учительский персонал консерватории делился на профессоров и преподавателей; Чайковского и в этом отношении не баловали: он был зачислен преподавателем и не принимал участия в совете, состоявшем из профессоров; только спустя некоторое время совет, по моему предложению, переименовал его в профессора и таким образом он начал принимать участие в делах, что, впрочем, его не особенно интересовало. Членами совета в то время наполовину состояли иностранцы, почти не понимавшие по-русски и потому все обсуждение вопросов велось по-французски или по-немецки, даже протоколы совета, за первое полугодие составлялись Венявским по-французски, только со второго полугодия, когда секретарем сделался Г. А. Ларош, они начали редижироваться по-русски. Преобладание иностранных языков в заседаниях совета длилось много лет, но потом стало уменьшаться и наконец, в последние годы, уже не слышно почти иного языка кроме русского. Чаще всего прения в совете велись по-немецки и мы с Чайковским не только выучились понимать этот язык, но понемногу приобрели навык и говорить на нем.
Зимою 1866-67 г., композиторская деятельность Чайковского была посвящена опере Воевода, да переделке симфонии. Кроме того к весне 1867 года Петр Ильич по просьбе Рубинштейна написал фортепианную пьесу Scherzo a la russe, исполненную последним с большим успехом. Эта пьеса, вместе с другой – Impromptu, напечатана была тогда под ор.1. Вторая пьеса для печати не предназначалась, она была написана значительно раньше и лежала у Петра Ильича среди других его петербургских работ, но в этой тетради было несколько пустых листов бумаги, на которых и было написано новое сочинение, которое впрочем, по словам Г. А. Лароша, также было переделкой части струнного квартета, написанного еще в Петербурге. Когда П.И. Юргенсон захотел напечатать Scherzo a la russe, то Рубинштейн передал ему находившуюся у него тетрадку, а П. И. Юргенсон, не получив никаких указаний, велел награвировать все в ней находящееся, так что Чайковский увидел уже свои обе пьесы в корректуре; сначала он был неприятно поражен тем, что Impromptu также награвировано, а потом решился примириться с совершившимся фактом. Во всяком случае, этот ор. 1 был первым сочинением Чайковского, появившимся в печати, если только не была уже напечатана первая половина его сборника 50 русских народных песен, аранжированных для фортепьяно в 4 руки. В эти зимние месяцы Петр Ильич уже занимался очень усердно сочинением оперы Воевода, так что А. Н. Островский не успевал ему доставлять либретто, которым он занимался только в свободное от других работ время. Композиция эта очень занимала Петра Ильича и он говорил, что не испытывал раньше такого наслаждения, как при этой работе, которая, впрочем, была окончена еще не скоро. На лето Петр Ильич уехал, если не ошибаюсь, на балтийское прибережье и жил преимущественно в Гапсале; там написаны три фортепианные пьесы Souvenir de Hapsal, op. 2. Первая из них навеяна видом старинных развалин замка в Гапсале; наибольшею популярностью из этих пьес пользуется № 3 – Chant sans paroles.
Осенью Петр Ильич привез уже значительную часть оперы Воевода оконченной; в том числе был большой оркестровый номер Танцы сенных девушек, который были исполнен в декабре того же года и очень понравился, так что исполнялся потом несколько раз в различных концертах. Между прочим, в конце сезона 1867-68 г. был в Большом театре большой концерт в пользу голодающих финляндцев. Н. Г. Рубинштейн, для придания большего интереса концерту, предложил Петру Ильичу самому продирижировать своими Танцами; после некоторого колебания он согласился и так как оркестр уже хорошо знал это сочинение, то никаких затруднений на репетиции не было. Зная застенчивость Петра Ильича, я очень опасался за него, но сам он храбрился. В концерте я отправился за кулисы, где был дирижер-дебютант, и подошел к нему; он сказал мне, что к собственному своему изумлению не чувствует никакого страха. Мы поговорили немного, потом перед его номером я ушел на свое место в партер. Вскоре вслед затем вышел Петр Ильич и я с первого взгляда увидел, что он совершенно растерялся: он шел между местами оркестра, помещавшегося на сцене, как-то пригибаясь, точно старался спрятаться и когда наконец дошел до капельмейстерского места, то имел вид человека, находящегося в отчаянном положении. Он совершенно забыл свое сочинение, ничего не видел в партитуре и подавал знаки вступления инструментам не там, где это было действительно нужно, к счастью оркестр так хорошо знал пьесу, что музыканты не обращали внимания на неверные указания и сыграли Танцы совершенно благополучно, только посмеивались глядя на композитора. Петр Ильич после говорил мне, что от боязни ему казалось будто голова у него не держится прямо, а все гнется на бок и все время он делал только усилия удержать ее. Лет около 20 после того Петр Ильич не брал в руки дирижерской палки и, быть может, не взял бы я никогда, если бы особенное обстоятельство не заставило его это сделать. Особым обстоятельством была предполагавшаяся постановка в Москве оперы Чайковского Черевички, задержанная продолжительной болезнью г. Альтани. Петру Ильичу перед этим Петербургское Филармоническое Общество предложило продирижировать одним из его концертов; чтобы испробовать свои силы для Черевичек, он согласился попытаться еще однажды выступить на капельмейстерское поприще, но на этот раз, восторженный прием со стороны музыкантов и публики так ободрили его, что все прошло вполне благополучно. После этого опыта Петр Ильич сам решился дирижировать исполнением своих Черевичек в Москве и вообще сделался весьма известным дирижером, путешествовавшим со своими сочинениями и дирижерским жезлом по различным концам Европы, но вполне свыкнуться с выходом перед публикой он не мог до конца жизни и всякий концерт, которым ему приходилось дирижировать, стоил ему даже физических страданий; меня всегда поэтому удивляла готовность, с которой он принимал приглашения на участие в различных концертах, то в России, то за границей, преимущественно за границей.
В декабре 1867 года в Москву приехал Гектор Берлиоз, удрученный годами, болезнями и несчастьями разного рода. Вид гениального артиста внушал невольное сожаление: беспомощная, согнувшаяся фигура, полузакрытые глаза, болезненное выражение лица производили впечатление очень тяжелое. Только становясь перед оркестром, Берлиоз постепенно оживал, глаза загорались и во всех движениях и облике его проявлялась некоторая энергия; но уходя с капельмейстерского места, он почти тотчас же опять получал вид больного, близкого к смерти. В честь Берлиоза в зале консерватории был устроен обед, в которому кроме профессоров консерватории приняли участие некоторые дамы. За обедом, в ответ на тост, Берлиоз произнес довольно длинную речь, растрогавшую всех; он говорил о тогдашнем печальном состояний музыки во Франции, или даже, как он выразился, об отсутствии ее, вскользь упомянул о своем положении – его тогда во Франции совсем не признавали и скорее ценили как остроумного фельетониста Journal des Debats, нежели как композитора, – и закончил прославлением успеха музыки в России, который он нашел через 20 слишком лет после своего первого посещения нашего отечества. Многие потом говорили речи, в том числе и Петр Ильич сказал прекрасную речь по-французски, в которой со свойственным ему энтузиазмом сделал оценку высоких заслуг нашего парижского гостя. Берлиоз очень оживился за этим обедом, по окончании которого его окружили дамы и он провел еще несколько часов в оживленных разговорах, пленяя собеседников изяществом речи и тонким остроумием. Посещение Берлиозом Петербурга и Москвы в сезон 1867-68 гг. принесло ему последние жизненные радости, дальше ему остались только труд и болезнь по выражению псалмопевца. Особенно сильное впечатление произвел концерт в экзерциргаузе, на котором слушателей было около 12 000, и вся эта толпа восторженными криками, сливавшимися с тушем оркестра, приветствовала старца, стоявшего перед ней на высокой концертной эстраде. В письме к одному из парижских друзей Берлиоз говорит, что никогда в жизни он не испытал впечатления столь сильного, как в этот раз; письмо это потом было напечатано. Гром успехов Берлиоза не окончился с пребыванием его в России, отголоски их были последним артистическим напутствием его в иной мир; на следующий год, раннею весной в Петербурге, под управлением М. А. Балакирева, был исполнен его Те Deum, а в Москве, под управлением Н.Г. Рубинштейна, оркестром и хором, всего около 500 человек, был исполнен при огромном стечении публики его колоссальный Requiem. Телеграммы из Петербурга и Москвы, извещающие об этих исполнениях были получены Берлиозом уже на смертном одре, вскоре за тем он угас навеки. Парижане могут быть благодарны России, оказавшей величайшему из французских композиторов те предсмертные почести, в которых отказала ему наполеоновская Франция, преданная культу Оффенбаха.
После торжества Берлиоза, в март 1868 г. наступил черед первого действительно большого успеха Чайковского; его симфония Зимние грезы, забракованная в Петербурге, была исполнена в Москве и встретила в публике такой горячий прием, который превзошел даже наши (т. е. друзей Чайковского) ожидания. После концерта несколько человек, в том числе Рубинштейн, отправились ужинать в прежний двухэтажный Московский трактир Гурина, на месте которого теперь находится здание большой Московской гостиницы. Чайковский был очень взволнован и возбужден, крупный успех такого серьезного сочинения, как его G-moll’ная симфония, подействовал на него очень сильно, и это возбуждение выразилось довольно оригинально: когда Н.Г. Рубинштейн после короткого спича предложил тост за здоровье автора новой симфонии, то Чайковский со всеми перецеловался и потом разбил все бокалы, «чтобы», говорил он, «никто уже не мог пить из этой посуды после только что провозглашенного тоста». Первая часть симфонии потом еще раз подвергалась переделке, и партитура симфонии была напечатана лишь несколько лет спустя. Симфонию эту в Москве играли еще дважды: один раз под управлением Эрдмансдёрфера, и в присутствии Чайковского, которому публика сделала овацию, а другой раз под управлением В. И. Сафонова, и оба раза симфония имела весьма большой успех, который не был следовательно случайностью на первый раз.
В этом же году Чайковский, если не ошибаюсь, составит свой учебник гармонии, выдержавший потом много изданий. В составлении книжки ему, впрочем, значительно помогла одна из его тогдашних учениц, которая так хорошо составила записки по его лекциям, что Петру Ильичу оставалось только дополнить их кое-где, прибавить еще несколько задач и учебник был готов; в нем были значительные пробелы, но достоинства его заключались в простоте, ясности изложения и практичности подбора задач. Сочинение оперы значительно подвинулось вперед и она была почти окончена. В опере Воевода было взято несколько мелодий народных песен, в том числе одну Петр Ильич сам записал, в сборниках песен раньше этой мелодий не было. Я говорю о песне Соловушко, которую композитор перенес потом без изменения в свою оперу Опричник. Мелодия этой песни была записана в деревне Мазиловой, близ Кунцева, под Москвой, где ее пела крестьянка, у которой Петр Ильич вместе с Г. А. Ларошем пили чай однажды на прогулке; подлинный текст песни начинался словами Коса ль моя, косынька; в опере к народной мелодии приделана вторая часть, составляющая как бы ее дополнение, далеко уступающая первой в значительности и красоте.
В этом году весной в Москве был короткий сезон итальянской оперы, в составе которой была примадонна Д. Арто, одна из талантливейших и умнейших певиц, каких мне удалось слышать когда-либо. На Чайковского она тоже произвела большое впечатление, а так как он в это время занимал уже очень видное положение в московском музыкальном мире, вращался также в кругу театрального начальства, то ему пришлось познакомиться со всеми членами итальянской труппы, в том числе и с г-жей Арто, которая обратила на него особенное внимание и часто приглашала к себе. Ближайшим результатом этого знакомства было сочинение Romance sans paroles, op. 5, f-moll для фортепиано; пьеса эта посвящена знаменитой артистке и приобрела большую популярность. Итальянская опера хотя и не особенно щеголяла ансамблем исполнения, но в ней было несколько артистов и артисток, нравившихся публике; кроме Арто, наибольший успех имел красавец-тенор Станьо, в настоящее время пользующийся гораздо большей известностью, нежели тогда. Вообще итальянская опера пользовалась весной 1868 г. весьма большим успехом, и антрепренер, г. Мерелли, нажил хороший деньги.
Глава Ill
С осени 1868 года Н. Г. Рубинштейн переменил квартиру и переехал на Знаменку, в дом, кажется, Макарова, а его бывшая квартира, для увеличения помещения консерватории была отдана инспектору К. К. Альбрехту. Оставить прежнюю квартиру, Рубинштейна заставила также ее близость и непосредственное сообщение с консерваторией, вследствие чего в квартиру слишком часто заходили различные профессора и преподаватели, часто с делами весьма неважными; в иные дни визиты эти бывали так часты и многолюдны, что квартира едва не переставала принадлежать хозяину, ибо одни посетители сменяли других, не считая не консерваторских, входивших с улицы. Когда Рубинштейн бывал дома, то прислуга все время должна была держать горячий самовар, потому что Н. Г. любил от времени до времени выпить стакан чаю и мог это с промежутками делать весь день, даже до глубокой ночи; это чайное угощение предлагалось и гостям, так что некоторые из имевших много часов занятий в консерватории приходили даже просто затем лишь, чтобы напиться чаю. У Рубинштейна не хватало духа сказать, что это его стесняет нередко, и он предпочел переменить квартиру, а вместе с ним переехал и Петр Ильич, поместившийся очень удобно на новом месте этажом выше самого хозяина квартиры, с внутренней лестницей для сообщения. Квартира Рубинштейна отделялась от соседней, очень тонкой, вероятно не капитальной стеной и это было едва ли не самым крупным неудобством квартиры, потому что за стеной стояло фортепьяно, очень часто играли разные танцы и, в особенности, с неуклонным постоянством польку-мазурку Штрауса Stadt und Land, крепко засевшую в памяти у всех нас; иногда эта музыка бывала очень надоедлива, особенно, если собирались также заниматься музыкой у Рубинштейна, или же мы с Петром Ильичем, как бывало нередко, проигрывали какие-нибудь новые сочинения в четыре руки. Петр Ильич хорошо читал ноты, когда приехал в Москву в 1866 году, но потом он делал в этом постоянные успехи и в последние годы своей жизни он сделался настоящим Notenfresser’ом., насколько может им быть человек, не владеющий настоящей первоклассной фортепианной техникой. Также было и с чтением партитур; в начале он читал их, за фортепьяно, порядочно, не более, сколько помнится, но потом и в этом сделал огромные успехи, потому что навык здесь играет большую роль. Иногда вечера наши бывали вокальные; Петр Ильич набирал большую груду романсов из неизвестных и малоизвестных нам, сам он в таких случаях был певцом, а Г. А. Ларош или я были аккомпаниаторами. Подобное чтение музыки делалось без Н. Г. Рубинштейна, продолжавшего не бывать по вечерам дома. У Петра Ильича в молодости был очень небольшой, но приятный голос с оттенком баритонового тембра; среди композиторских голосов, какие мне приходилось слышать, голос его был одним из лучших, но никто не пел с таким мастерством в оттенках и в музыкальной декламации; в этом отношений я отдавал ему преимущество даже перед Даргомыжским. Сам Петр Ильич при своей застенчивости, от которой он не освободился до конца дней, позволял себе свои вокальные упражнения только при нас с Ларошем, да может быть еще при нашем общем друге И. А. Клименко, о котором я поговорю сейчас; даже присутствие Н.Г. Рубинштейна его стесняло, и едва ли он когда-нибудь при нем пел; впрочем, все пение Петра Ильича ограничивалось чтением неизвестных ему романсов, своих же собственных сочинений он не пел никогда, разве только случалось играть какой-нибудь отрывок из новой оперы, тогда он вполголоса пел, насколько мог, вокальные партии. Относительно своих сочинений Петр Ильич был чрезвычайно щепетилен и никогда сам не заводил о них разговора, хотя в сущности, всегда жаждал услышать о них какой-либо отзыв, но совсем не придавал значения голым похвалам, если не был убежден в их полной искренности; зато, если он замечал, что какое-нибудь новое сочинение его производило действительно глубокое впечатление на кружок близких ему людей, то, насколько я его знал, он должен был испытывать ощущение блаженства, хотя тщательно старался скрывать это. Да впрочем, мы все как-то боялись лишней экспансивности в выражений чувств и, горячих похвальных речей Петру Ильичу от нас слышать почти не приходилось, он должен был скорее догадываться, не столько по смыслу слов, сколько по интонации, по выражению лиц о том, что ему могло быть сказано. У всех нас было какое-то общее чувство стыдливости в этом отношении, мы точно боялись, чтобы очень громкое выражение чувства не дало повод заподозрить его искренность и щеголяли своей сдержанностью, вероятно доходившей иногда до неестественной натянутости; впрочем, короткость наших отношений позволяла нам легко понимать друг друга с полуслова. Вообще, отношения Петра Ильича и ближайших к нему по консерватории людей заходили за пределы простой, обыкновенной дружбы; общность интересов в занятиях, наполнявших их жизнь, и взаимное доверие порождали такую тесную связь, какую можно сравнить разве с ближайшей родственной, и едва ли эта связь не была главною причиной, почему Петр Ильич считал Москву как бы своей родиной, своим естественным убежищем, куда он всегда возвращался как домой, после своих странствований по различным местам Европы и России. Связь эта с годами едва ли слабела, но нити ее порывались одна за другой в силу того неумолимого закона, который уносит одного за другим туда, откуда нет возврата, членов дружеской семьи, и Петру Ильичу до своей собственной кончины не раз пришлось испытать тяжкое горе прощания с дорогими ему людьми. Хотя кружок редел с годами, но старое чувство привязанности к месту, где он жил, не слабело в том, кого нам, немногим оставшимся, пришлось также проводить на место вечного покоя; теперь кружка этого нет, его несчастные обломки не могут быть названы этим именем.
Если память меня не обманывает, зимой 1867-68 гг. в Москву приехал архитектор Иван Александрович Клименко, вероятно бывший знакомым с Чайковским по Петербургу; по крайней мере я, будучи в Петербурге, кажется летом 1865 года, встретил И. А. Клименко у Лароша, вероятно встречался с ним и Петр Ильич. И. А. Клименко, состоящий в настоящее время городским архитектором в Таганроге, наделен отличными музыкальными способностями, которые, впрочем, ему не пришлось развить в полной мере – склад обстоятельств жизни помешал этому, но у него замечательно тонкий музыкальный слух и несокрушимо твердая память. Он всегда был страстным любителем музыки, любителем очень образованным и тонким, умевшим ценить и любить музыку не по смутным, безотчетным впечатлениям заурядного аматёра, а с полным сознанием того, что и почему ему нравилось; словом он судил как настоящий музыкант, значительно начитанный в литературе своего искусства. Музыка была естественным пунктом сближения между вновь приезжим и консерваторским кружком, а вскоре сближение перешло в дружеские отношения, И. А. Клименко сделался постоянным членом наших собраний, где бы они ни происходили, тем более что он был очень интересным собеседником, отличным рассказчиком, хорошим диалектиком в спорах, нередко затевавшихся в нашей среде, и т. д. Наш новый друг, восторженный поклонник музыки вообще, сделался восторженным же поклонником таланта Петра Ильича. В то время таких поклонников еще почти не существовало, в публике талант молодого композитора признавали немногие, да и то с большими оговорками; положим московские музыканты все относились к нему с большим уважением, но музыканты публики не делают. В И. А. Клименко дорого было не только его горячее одушевление, с которым он высказывал свои суждения о музыке, еще дороже было то, что он умел их высказывать дельно и с толком, так что иногда он был в этом отношении очень интересен и для музыкантов вообще, указывая им какую-нибудь деталь, упущенную ими из вида или давая какое-нибудь новое освещение внутреннего характера и содержания композиции, которое другим не приходило в голову. Петр Ильич почувствовал к И. А. Клименко большое расположение, потом превратившееся в такое чувство привязанности, какое можно назвать почти влюбленностью; он слишком умел ценить отзывчивость и симпатии к нему, тем более человека, мнением которого он дорожил. Вместе со своим новым другом Петр Ильич посещал общих знакомых в том числе А. Д. Кочетову (Александрову) и С. А. Рачинского, художественным и литературным вкусам которого они оба очень симпатизировали. А. Д. Александрова была тогда примадонной русской оперы и обладала между прочим редким, особенно тогда, среди вокальных артистов качеством – хорошим музыкальным образованием, соединявшимся с природным дарованием; она читает с листа всякую вокальную музыку без запинки, так что к ней можно привести любую новую оперу и пройти, если угодно, всю, что для музыканта представляет интерес не малый.
Опера Воевода была, если не ошибаюсь, вполне окончена автором 1868 г. или, быть может, некоторые части ее доинструментовывались осенью, но едва ли; во всяком случае этой осенью уже зашла речь о ее постановке. Либретто оперы, как я уже говорил, делал А. Н. Островский, взявший на себя этот труд совершенно бескорыстно, просто из чувства симпатии к молодому талантливому музыканту. Петр Ильич был в довольно хороших отношениях с лицами, стоявшими во главе театрального управления в Москве, что, конечно, способствовало скорейшему разрешению вопроса о постановке оперы в благоприятную сторону, но много также значили хлопоты и настояния Н. Г. Рубинштейна, пользовавшегося в московском обществе такими связями и влиянием, что это ему дозволяло иногда произвести некоторое давление на московских театральных заправил, хотя очень его не любивших, но немного побаивавшихся. Не можем не вспомнить по этому случаю, как отчаянно защищалось театральное управление против энергичных покушений Н.Г. Рубинштейна проникнуть в Большой театр и занять там место хотя бы помощника капельмейстера. Зная стремления к экономии стоявшего тогда во главе театрального управления барона Кистера, Рубинштейн предлагал исполнять обязанности помощника капельмейстера бесплатно и эта выдумка чуть было не удалась, но москвичи отхлопотали и Рубинштейну все-таки отказали. Он попытался просить продирижировать несколькими пробными спектаклями, но и в этом было отказано. Вероятно в петербургском архиве дирекции сохранились бумаги, относящиеся к этим ходатайствам. Судьба не захотела хоть однажды дать Большому театру талантливого, знающего дело артистического руководителя.
В тогдашней оперной труппе Большого театра были некоторые хорошие силы; оркестр, далеко не такой многочисленный, как теперь, состоял большей частью из хороших артистов, но хоры были довольно слабы и не особенно тверды. В общем средства сцены были довольно порядочные, недоставало только умения и желания пользоваться ими, как следует. Дело в том, что русская опера была тогда в загоне и даже появление талантливых артисток и артистов в составе ее труппы в гораздо меньшей степени, нежели возможно было, способствовало поднятию уровня сцены. Высшее московское общество интересовалось почти исключительно итальянской оперой и балетом, а к русской относилось с высокомерным презрением, того же взгляда держалось и театральное управление, если не в балет, то в опере преследовавшее едва ли не коммерческие цели главным образом и стремившееся делать на оперу по возможности меньше затрат. Антрепренер итальянской оперы Мерелли заключил с театральной дирекцией контракт такого рода, что Большой театр фактически попал ему в арендное содержание, и на четыре вечера в неделю, а иногда и на пять, Мерелли был полным хозяином сцены. Для главных партий в итальянской опере он приглашал заграничных артистов и артисток, а в случае недостатка обращался за содействием к труппе русской оперы, поставлявшей также исполнителей для второстепенных партий. Оперный оркестр находился в исключительном распоряжений итальянцев, а спектакли русской оперы давались с балетным, далеко уступавшим первому в количественном, да и в качественном отношении; даже репетиции русской оперы нужно было приноравливать так, чтобы они не мешали фактическим хозяевам сцены. Такое угнетенное положение русской оперы отражалось на ней, деморализуя ее и расшатывая все основы художественной дисциплины. Старшим капельмейстером был г. Шрамек, музыкант опытный, но лишенный энергии и таланта; притом нисколько не интересовавшийся русской музыкой. Небрежное отношение театрального начальства, к русской опере перешло и к подчиненным, капельмейстер перестал почти пользоваться каким-нибудь авторитетом в подчиненном ему оркестре, чему причиной отчасти впрочем было чрезвычайное добродушие г. Шрамека, заставляющее его терпеливо сносить выходки, иногда бывшие далеко не особенно деликатными; случалось, например так, что в оперном спектакле один из смычковых пультов перевертывал свои ноты вверх ногами и двое за ним сидевших играли так, как при этом получалось, то есть, совершенный вздор. Около того времени в театр взяли второго дирижера оперы Э. Мертена, талантливого композитора романсов и пианиста, но бывшего в капельмейстерском деле совершенно неопытным; притом, если старший капельмейстер не пользовался авторитетом, то младшему и совсем трудно было добиться, чтобы его слушали и исполняли его требования. Петру Ильичу предоставлена была, как обыкновенно делается с композиторами, раздача партий персоналу труппы по его усмотрению и, нужно сказать, он воспользовался этим правом, как человек очень малоопытный, слишком руководившийся своими несколько исключительными взглядами в области вокального искусства. Впрочем, взгляды эти были результатом увлечения Петра Ильича итальянской оперой в Петербурге в дни его юности, когда эта опера была первой во всей Европе. Он был тогда очень большим итальяноманом и в особенности питал симпатии к операм Беллини и Доницетти, из Россини обожая главным образом Севильского цирюльника. Хотя с годами юности ушло увлечение итальянскими композиторами, но манера пения прежних итальянцев осталась для него навсегда пленительным воспоминанием и образцом вокального искусства. Нужно прибавить, что позднейших итальянских певцов, как например Мазини, даже Котоньи – он просто терпеть не мог, а Таманьо и т. д. он едва ли даже поинтересовался послушать. Среди певиц он выше всего ставил Бозио и А. Патти; хотя в это самое время, то есть, в 1868-69 гг., он восхищался г-жей Арто, но едва ли не более ее артистической натурой и сценическим талантом, нежели ее вокальным искусством, впрочем, и не относящимся к итальянской школе, а скорее к французской. В среде тогдашней труппы русской оперы Петр Ильич преимущественно выбирал таких исполнителей, которые напоминали бы этих прежних итальянцев хотя отдаленно манерой пения, постановкой звука и т. д. Таким образом для партий Воеводы в своей опере Петр Ильич избрал исполнителем г. Финокки, опытного, но совсем не выдающегося итальянского певца, которого во времена его сравнительного блеска, в самом начале 50-х годов, я слышал в провинциальной итальянской опере в Воронеже. Потом он был принят в русскую оперу в Москве едва ли не потому, главным образом, что мог при случае быть удобной подмогой для итальянской сцены. Г. Финокки произносил по-русски очень плохо, и русские оперные тексты давались ему с большим трудом, как и русская музыка вообще. Тогда на русской сцене был высокий бас, г. Радонежский, певец с превосходным голосом, но очень неумелый и маломузыкальный, хотя и владевший хорошим слухом. Диапазон голоса певца был настолько обширен, что он мог петь и баритоновые партии, и партии баса profondo, но он все, что ни пел, затягивал безмерно и совершенно лишен был сценического таланта. При этих обстоятельствах выбор для Воеводы певца, не знающего русского языка, пожалуй, оправдывался необходимостью избрать из зол меньшее. Главная партия сопрано (Марья Власьевна) была отдана г-же Меньшиковой, певице, наделенной голосом удивительной красоты и талантливой, но слишком мало дисциплинированной в музыкальном отношении. Теноровую партию Бастрюкова-сына пел г. Раппорт, певец с голосом несколько сухим по тембру, но по крайней мере, добросовестный исполнитель. Как были замещены остальные партии, я теперь не припомню. Из двух капельмейстеров Петр Ильич избрал младшего, г. Мертена, как более талантливого и энергичного. Начались спевки, репетиции, а вместе с ними и жестокие страдания композитора. Во-первых, во время разучивания оперы он сам заметил недостатки своего произведения, которые исправлять было уже поздно, а во-вторых, натолкнулся на совершенно неожиданные затруднения со стороны исполнителей. Нужно впрочем сказать, что в старании с их стороны недостатка не было, но, к сожалению, им иногда не хватало самых элементарных музыкальных познаний, вследствие чего вещи сравнительно простые обращались для них в непреоборимые трудности. Знавшие Петра Ильича в позднейшее время знают, насколько он был скромен в своих требованиях к исполнителям его сочинений, как он легко удовлетворялся и как ему трудно было сделать какое-нибудь замечание певцу или певице, хотя бы те сами просили его об этом. Застенчивость Петра Ильича в этом отношении вообще не знала пределов, ему все было как-то совестно утруждать артистов исполнением его сочинений, да при этом еще оставаться не всем довольным, а при постановке первой оперы он совсем не мог делать каких-либо серьезных замечаний, предъявлять какая-либо требования, он просто страдал и только жаждал конца своих мучений. Г. Мертен со своей стороны прилагал все старания, но, как я уже говорил, эти старания в значительной степени разбивались о господствовавшее тогда равнодушие к русской опере вообще и к Воеводе Чайковского в частности. Сами корифеи труппы относились хотя и благосклонно, но немного высокомерно к автору, излишнюю скромность которого едва ли не принимали за сознание недостатков своей композиции. Н.Г. Рубинштейн пользовался правом входа в Большой театр на репетиции и был раза два на репетициях Воеводы в надежде быть полезным чем-нибудь, но потом бросил, выведенный из терпения терпеливостью композитора, бывшей лишь выражением его отчаянной покорности судьбе и сознания невозможности что-нибудь сладить. Для примера того, как шло дело, можно привести один факт. Последним номером первого акта была сцена, в которой Воевода видит случайно выбежавшую из кустов Марью Власьевну; он приходит в восторг от ее красоты, и назначает себе в невесты вместо старшей сестры. Сцена эта оканчивалась квартетом, сколько помнится в Es-dur, который в музыкальном отношении должен был составлять венец первого акта, служить как бы целью, куда стремилось все предшествующее движение. Сам композитор считал этот номер если не лучшим, то по крайней мере едва ли не самым эффектным в опере. На беду свою он поместил в нем, между прочим, такое движение, где против односвязных триолей в одном голосе приходились простые односвязные в другом, то есть, получилось деление двух на три; такая трудность оказалась непреодолимой и после многих опытов не нашли лучшего средства, как просто выбросить этот квартет, заменив его коротким заключением, и таким способом весь первый акт был капитально изуродован. Не могу припомнить, какие урезки делались в других местах, но они без сомнения были. Постановка оперы была до невероятности скудная, все было сделано из сборных декораций и кое-каких костюмов; Чайковскому после случалось бывать нередко у начальствующих лиц московского театрального управления и однажды пришлось увидеть какое-то отчеты, в которых, между прочим, значилось, что на постановку оперы Воевода отпущено было несколько сот рублей; теперь я не могу припомнить с уверенностью сколько именно, только во всяком случай не более 600 р., а мне даже кажется, что всего только 300; во всяком случае можно сказать, что в настоящее время о таких постановках понятия не имеют, или, быть может, имеют на самых маленьких и бедных частных сценах.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?