Читать книгу "Восстание. Документальный роман"
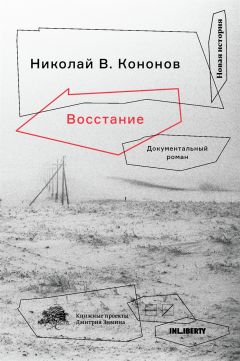
Автор книги: Николай Кононов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Через сто метров я попал примерно на линию огня, но все-таки чуть ближе к своим. Выражение «свист пули» воплотилось наяву, только пули не свистели, а взвизгивали. Мне замахали рукой, и я пополз между редкими деревьями в сторону машущего. Тут же его накрыли миной. Я вновь оглох, но все-таки уловил крики на родном языке – от тех, уходивших с позиции. Поспешив доковылять до края леса, я свалился в густой ельник, где скрывался тот, кто меня звал. А потом я увидел его прямо рядом с собой.
Части лица этого человека двигались отдельно друг от друга, бровь и щека дергались вниз, рот прыгал, словно умирающий причитал, левый глаз выпал и покачивался на скользкой мышце, а правый уставился на меня как дуло. Он поднял уцелевшую руку и занес надо лбом, чуть выше виска, и еще раз, и еще, пока я не понял и не вытащил без раздумий наган и не приставил к его затылку. Что-то меня заставило вдруг отдернуть руку, и наган чуть не вылетел из замерзшей кисти. Мне стало до слез жаль его: а вдруг он сможет жить, пусть и одноглазый, вдруг живот зашьют, – и я не хотел быть убийцей. Рядом застучала очередь, и я упал рядом с раненым, уже не думая об убийстве, а бешено перебирая варианты, что делать, если сейчас подойдут, прикидываться трупом, и если пронесет, то как выбираться и куда. Опять застучал автомат, правда, в стороне. Бой уходил дальше от перелеска, но я еще долго лежал, боясь вздохнуть. Наконец я взглянул на раненого. Он не дышал.
Я встал и, шатаясь, сделал несколько шагов, не сразу заметив не привыкшими к ночи глазами несколько тел, и своих, и чужих. Над ветвями висели холодные яркие звезды. Вернувшись к телу, я сел рядом на корточки и рассмотрел размозженную голову, застывшую кровь, переплетения вывалившейся утробы, черные грубые руки, похожие на корни пальцы. Внутри меня все замерло, заморозилось, и я ощутил легкость и поднялся, зашагал, проваливаясь и не обращая внимания на хаос, по подсеченной неподалеку лыжне домой. Я думал, что меня пристрелят очень быстро, но, видимо, согбенное существо, бредущее, спотыкаясь, и не смотрящее по сторонам, оставляло впечатление безнадежно раненного – иначе я не могу объяснить, почему остался жив. Мимо меня даже проносились, пригнувшись и меняя позиции, пулеметчик с расчетом и, кажется, кто-то со снайперской винтовкой, свой ли, немец, я смотрел перед собой и не реагировал на тукающие выстрелы. Однако я ошибался, думая, что выпотрошил все чувства и теперь смогу вынести что угодно.
На одной из полян, когда огонь со всех сторон прекратился, я понял, что набрел на проселок, хотя и засыпанный снегом, оказавшимся по бедра. Свернув на него, я заковылял; вскоре за спиной раздались храп, топот, барахтанье, и на краю поляны возник тыловой воз на полозьях, на который залезло несколько легкораненых. «Живой? – крикнул возница. – Полезай скорее». Я взгромоздился, неловко задев раненного в руку. В ответ он двинул меня здоровым локтем. Над головой понеслись сахарные ветви. Ехавшие сидели, плотно прижавшись друг к другу, оружия не было почти ни у кого. Рядом со мной покачивался тот немец, став как бы моим проводником: ты думаешь, что умер я, а на самом деле вопрос, кто из нас на каком свете, и этот снег, хвоя и шершавые веточки, втоптанные в него, колосья сухих трав, торчащие из наста, да и сам лес – не пограничье ли это между миром живых и мертвых, но ты иди, иди, я буду с тобой, я тебя не брошу.
Выскочив на широкий дор, а затем еще на одну поляну, возница сначала притормозил, а потом резко дал вперед. Я свесился, насколько мог, и увидел впереди барахтавшиеся по пояс в снегу фигуры в хищных касках. Тут же прогремели выстрелы, я спрятался и выглянул опять – фигуры бросили оружие и пытались уйти с нашей траектории, спотыкались, вязли, а возница гнал, все ближе, ближе, и послышался крик, сначала просто страшный, а потом короткий, такой, что не забывается. Лошади подмяли человека, и я увидел на мгновение между постромками искаженное лицо уже задавленного, но еще живого – а потом он скользнул под полозья со сводящим с ума звуком разрезаемой плоти. Я откинулся, как будто железо разрезало меня, и завизжал. Второй беглец все понял и попытался отпрыгнуть, но снег той зимой был глубок, и все повторилось: глухие удары лошадиных копыт и неизрекаемый в своем ужасе звук, от которого хотелось выкричать все внутренности.
Никто не обернулся, и поезд мчался дальше. Добравшись до землянки, я свернулся, как собака, у остывшей печки и заснул, не скидывая шинели. Бои продолжались несколько дней. Близнецы, проплутав всю ночь, явились обратно под утро, и мы даже обнялись как друзья. Они рвались искать и откапывать брошенные инструменты, но я запретил. Нас словно забыли, потому что властвовала неразбериха. Я лежал, отчаявшись если не стереть, то попробовать закрыть хоть чем-нибудь дыру в голове, зиявшую и кровоточившую после увиденного.
Шатры лазарета переполнились, и резервисты клали раненых в блиндажи. Проселок до Поддорья теперь простреливался, эвакуация раненых была затруднена. Везде, где оперировали, ампутировали и перевязывали, стояла вонь. Позиции удавалось держать, но ценой новых и новых тел, которые ползли как по конвейеру. Очнувшись и встав, я чувствовал себя так, будто меня окунули в яму с дерьмом и держали там, пока я не начал задыхаться. Потом я смог заставить себя выйти на свет и там обнаружил, что мир задеревенел. Я ходил и выполнял действия как сломанный, заторможенный механизм. Когда с передовой приехал целый караван подвод, нас позвали их разгружать, и теперь вереница увечных с культями на месте оторванных ног, умирающих и верещащих «убей» и «укол», проплывала перед нами как нескончаемый поезд. Нам с Полуектом достался обморочный, бледный лет пятидесяти, которого мы положили на указанное медбратом место. Полуект осмотрелся и задержал взгляд на углу шатра. Я пробрался к выходу через тазы с бордовыми тампонами и бинтами, раздвинул ветви елочной маскировки и увидел переплетенные, смерзшиеся руки и ноги, сползшие рты, гримасы убитых, сложенных как суковатые бревна в поленницу. Розовощекий, младше меня лейтенант улыбался, глядя на заиндевевший окровавленный нос соседа. Я рассматривал его с такой же любовью, а потом поленница расползлась, шатер, деревья, небо, все окунулось в лунную ночь и поперек лица мелькнул возница, свистнули полозья, и я услышал тот режущий звук и скорчился, обхватив голову руками. Полуект выбежал и схватил меня за рукав, но поднять не смог, пока видение не исчезло.
С передовой доносился гром, лагерь готовили к эвакуации. Хаос продолжался несколько дней, и в этой круговерти мы продолжали жевать корки и уже не обращали внимания на тупой голод, высасывающий внутренности, и на полчища вшей. Единственным, что нас волновало и чего мы искали, было тепло. Мы часами шатались туда-сюда в поисках дров – интенданты не давали пилы, а сами обеспечивать весь полк не успевали. И едва мы уверились, что это не кончится никогда, как кончилось все.
Немцы встали и, судя по тому, что доносила разведка, начали окапываться, рассчитывая на долгую паузу. Или, может быть, изображая ее. Так или иначе это означало передышку. Еще несколько дней мы просыпались, ожидая звуков боя, но их все не было и не было. Инструменты нашлись там, где мы их оставили. По лагерю бродили тени штабных, остальные лежали в своих подземных жилищах, отсыпались, составляли списки выбывших и раненых, писали письма вдовам и переформировывали роты. Круглов ждал подкрепления, оружия и еды, но поскольку еще больше дороги оказалось за линией черных, то обозы пришлось бросить среди леса и перетаскивать, что можно, ночами силами лыжников. Спустя неделю они вытоптали такую тропу, что по ней два человека, впрягшись, могли тащить минометы и сопровождать лошадей, вязнувших в снегу. Из-за неразберихи топографическую бригаду решили держать при полку, и на одной из таких подвод нас отправили с ротой снимать урочище под названием Рог, очертаниями действительно напоминавшее толстый рог с завитком – рядом с тем Рдейским болотом, которое упоминал разведчик.
Завернувшись в непросохший ватник, я колыхался на подводе, которую перла пара лошадей сквозь ледяную кашу. Интенданты запрягли с битюгом орловскую, крепкую, не похожую на тонконогих выгибающих шеи с отцовских фотокарточек, но все равно беспомощную на переходах по брюхо в шуге. Спустя километр непролазной тропы пришлось слезть и вытаскивать, отчего одежда вымокла окончательно. Рота ушла вперед, изредка присылая кого-то на подмогу. У них убило полсостава, включая политрука, а командир лежал в лазарете с осколком под левым ребром и старался не шевелиться, чтобы свинец не коснулся сердца. Командовать поручили старшине по фамилии Еремин, лет сорока от роду, но безусому как подросток. Присланная им смена велела нам оставить инструмент, и добираться вперед подводы, и греться у костра. Мы отряхнулись, выжали рукавицы и поковыляли.
К вечеру мы добрались до позиций. За соснами белело пятно болота, огромное, берега даже не угадывалось. Пришедшие задолго до нас развели костер и, замерзнув, сидели вокруг так плотно, что пахло паленым, у некоторых на спинах маскхалатов зияли прожженные дыры. Согревшиеся обустраивали ночлег и ставили палатку для кухни. Через час добралась и наша подвода, застряв метрах в тридцати от костра. Орловскую выпрягли. Она упала и лежала, дергаясь и вперившись влажным, похожим на человечий глазом в замкомандира Резуна, бессмысленно оравшего на нее. Еремин и некоторые неохотно встали и пошли к подводе. Они что-то забухтели, и вскоре бухтение переросло в спор. Рота разделилась: одни жаловались, что не видели мяса третью неделю, а другие стояли за то, что лошадь «кормилица, на чем обратно поволочемся». Громче других высказывался Еремин, настаивая, что лошадь издохнет и никто ее не хватится, поэтому надо, пока еще свет, пристрелить, разделать и поужинать ею. Уходить от костра не хотелось, и я прикрыл глаза, вполуха слушая спорщиков. «А если весна? На чем минометы поволокем?» – «Да какая весна, фронт весной вообще встанет с такой-то распутицей. Бросили нас к херам! Живи тут как хочешь!» – «Верно говорит, вспомнят про нас теперь к лету, а немец не полезет сюда. Зачем ему этот гнилой угол». – «Как по радио передают, забыл? Бои местного значения! Сдохнешь тут, и не найдут среди болот». – «Как политрука убили, так смелый стал, заговорил!» – «Она просто уставшая». – «Какая уставшая, у нее пена идет!» – «Может, она больная». – «Один хуй помрем».
Слова рассыпались на междометия, и взвод едва не передрался, но все-таки Еремин был командиром, и покорившись ему, они стали обсуждать, как пристрелить за раз, чтобы не тратить лишние патроны. Наконец кто-то сходил к костру за винтовкой и вернулся. Еремин взял винтовку и подошел к лошади. Сначала ему пришлось отпрыгнуть, потому что она попыталась встать, провалилась сквозь наст, попробовала еще раз и тонко заржала. Затем положила голову на снег и стала смотреть на меня так, будто знала обо мне всё. Еремин подкрался к лошади, долго целился, выстрелил в черный глаз и промахнулся, угодив пулей в височную кость. Лошадь вскинулась и упала набок, забившись, все пытаясь подняться на передние ноги. Еремин прицелился и выстрелил еще, но орловская захрипела и метнулась, и пуля попала в лоб. Стрелок подобрался ближе, посмотрел на жертву, распаляясь руганью, и вновь поднял винтовку. Опять не попал в глаз, и начал стрелять вновь и вновь, уже не целясь, и орал.
Показалось, что у него сдали нервы, но, присмотревшись, я увидел, что безусое его лицо перекосилось не от отвращения и ярости, а еще от чего-то. Лошадь агонизировала. «Хорош!» – крикнул Резун между выстрелами. Еремин обернулся, и я увидел, что ткань его брюк около бедер взбугрилась и была натянута. «Вот мудак, – неловко сказал кто-то, – даже пристрелить не может». Остальные отвернулись. «Скотоебина», – сплюнул Костя. Агония продолжалась несколько минут, после чего к туше приблизились, осторожно взяли за копыта и гриву и потащили к кухне разделывать штыками. Когда лошадь варили, мясо источало почти такой же запах, как плоть в санчасти. Все сидели с лицами мучеников. Еремин куда-то делся, а потом пришел к кухне. По мискам разложили куски мяса, схожего с резиной, и оно оказалось терпким, с привкусом сладкой полевой травы. Правда, оно было еще и жестким, и все, кто неделями недоедал, набросились на него и глотали, не разжевав, а потом свирепо мучились животом, матерились и испражнялись под березами, сплевывая набегавшую под язык водянистую слюну.
Вновь степлело. Снег потяжелел, задул южный ветер. За несколько дней мы сняли урочище и паковали инструменты, когда пришла радиограмма. Разведка сообщала, что не менее недели немцы будут заняты перегруппировкой сил, поэтому, раз уже март и скоро болото начнет таять, надо срочно отправляться на острова Высокий, Доманец и Межник и корректировать карту, пока дозволяет погода. Интендант под ненавидящими взглядами роты выдал нам несколько банок шпрот, мешок пшенки, буханку черного на каждого, и мы отправились. Только выйдя на край болота, мы поняли, насколько оно огромно: острова, лежавшие, казалось бы, в нескольких километрах от берега, были неразличимы. Будто и не было долгих месяцев мороза – болото дышало сквозь снег, и вокруг черного льда заводей желтела трава с налипшей прозрачной коркой. На привале я увидел островок рогоза в окружении кочек и, решив, как в детстве, срезать себе из него трубу и подудеть в нее, скинул лыжи и сделал несколько шагов, как вдруг кочка беззвучно провалилась, и трава вокруг стала черной. Вода подо льдом, качнувшись и растянув пузыри воздуха, успокоилась, но больше мы лыжи не снимали. Иногда я видел, как подо льдом шевелятся, распускаясь и схлестываясь, косы аира. Уже в нескольких километрах от берега мы обернулись и увидели кирпичную церковь, высокую, разбитую снарядами, с горестно склоненным набок, но еще не упавшим куполом. В бинокль были видны внутренние стены, выложенные чем-то белым, видимо, мрамором, резные каменные столбы царских врат и уцелевшие фрески: лики, куски бороды, ноги в тупоносых сандалиях, кисти и плечи святых.
Справа возник первый остров, конусовидный. Сначала он сливался с лесом, а потом как бы выступил из него. Приблизившись, я понял, насколько был прав разведчик, велев снимать болото сейчас. К Домше и к другим островам невозможно было подступиться иначе как зимой – их окружали пронницы, гиблые места со смертельным сапропелем. На последнем привале, чтобы охолодить лицо, я взял горсть снега. Он пах сосновой пыльцой и немного горчил. Сам остров мы обошли за полчаса, найдя часовню с картонной иконой святого Николая. За часовней обнаружился и домик, старый и пустынный, будто выметенный изнутри. Мы затащили в сени инструмент, нашли под соснами кое-какие сорванные ветром ветви и растопили буржуйку. Видимо, здесь жили летом, но кто, бог весть. Два дня мы снимали Домшу, и вечерами, приткнувшись к печи, я исправлял карту. Со всех сторон болота висело молчание, и лишь редко в небе мелькали немецкие самолеты, летящие на юг к окруженному Холму. Однажды самолет протащил за собой планер, почти таких же размеров, как он сам, явно с грузом, а может, и с солдатами, а спустя час вернулся без него.
Едва мы закончили съемку, как начался снегопад. Заводи и протоки засыпало белое. Наутро шорох снегопада стих и над островом повис клочьями туман. Когда мы уходили, из часовни недоуменно глянул святой. За круглой заводью я выбрался на кочку повыше, взял свою трубу из рогоза и осторожно подул. Звук был уныл и скучен. Над болотом продолжил растекаться туман. Идти было трудно, потому что снег налипал на лыжи и хотелось пить. Доманец оказался мал и пустынен. Мы потратили на него день, развели костер, расстелили плащ-палатку и заснули будто с пьяных глаз. А вот Межник назавтра отыскался с трудом в обволакивавшем нас молоке. Он был огромнее, чем на карте, почти безлесен и скошен в сторону юга. Из тумана выступили углы срубов и крыши и где-то в стороне прошелестело невидимое животное, возможно, кошка. Близнецы осторожно покатили вперед по улице. Дом, где жили люди, явился скоро – он был облеплен снегом, из-под которого с суровостью, поджав губы, глядели окна. Над колодцем стоял, потупившись, журавль.
Человека мы обнаружили рядом, в риге, он сидел, обутый в валенки, и рассматривал исчерканную бумагу. Рига была совершенно пуста, по ней мел снег. Его руки мелко бегали в рваном мешке, вздрагивая и ощупывая его изнутри. Затем он стал вынимать из мешка свертки, кульки, не обращая на нас внимания. Развертывал, перекладывал, удивлялся, уходил в дом, не спешил возвращаться. Вытряхнув все, что было, руки успокоились, и он посмотрел на нас белесыми глазами и указал рукой на крыльцо. Мы поднялись, прошли сквозь сумеречные сени с лестницей в подклеть, заглянули в комнату и увидели, что человек уже возвышается за столом. Он взял с отдельной полки деревянные ложки и тарелки, ровные, нецарапанные, и разложил перед нами. В углу темнело что-то знакомое, я пригляделся и увидел толстые, с расслоившимися корешками книги и доски.
«Здесь-то всегда беглые жили, сто лет жили, не меньше. Сначала кто в солдаты не хотел пришли сюда с семьями и дома построили. Рыбы – вот так, лес рядом, остров большой, даже рожь сеяли. Вокруг-то все знали, что болото гиблое, ничего тут не вырастишь, никому оно не нужно и соваться сюда не след. Один сунулся землемер, межевал землю вокруг Холма, туда, сюда ходил, допытывался, где чье. Дак на него смотрели весь день, пока работал, а потом стукнули топором и в подземную речку бросили. Есть тут речки, в которые шагнул и под торфяники провалился, а там поток течет быстрый, коли попадешь в такой, то навек под землей заснешь. А землю-то все равно разделили. Как-то так вот, поперек острова, одна половина пскопская, другая новгородская, потому и назвали остров Межником. Отец мой сюда с другими жиловыми пришел, бежали они с-под Ярославля. Беглые их не тронули, мы тоже ведь так назывались – бегуны. А то, что раскольники… Кто к свободной жизни привык, того такой же вольный брат не испугает. „Жиловые“ значило, что отец вот держал комнату дальнюю не для нас, а для странников. Странноприимцы мы. Приходил кто из единоверцев, бегунов, туда и селили его. Прятаться на болоте не от кого, а кто в городах из жиловых оставался, те, бывало, подземный ход копали на случай, коли придут раскольников арестовывать. Так и жили. Кузнец меж нас был, рудознатец, он соляную яму раскопал, и ели мы с тех пор с солью. Церковь-то вон на берегу, да мы не ходили туда никогда, священников у нас не было, всех-то пожгли еще при Петре. А что цари кончились, узнали, когда с колхоза зимой пришли. Тогда переписать всех хотели и пугали, что солдатов с ружьями пошлют, и тогда все, кто жил, да и отец-то с матерью моею и братьями, бежать решили и возвращаться по лету, а я, старший, остался за домом смотреть. Живешь тут, день и день, месяц и месяц, все проходит, как будто сны вишь. А во сне и свет тот же, и ты тот же – а всё не так. Тот же да не тот. Всё как у нас, да не наше-то. Ты как кусочек, вишь, да не ты. Всех знашь, а они-то не они. Как в речке это: отражашся ты, а ведь не ты же. И сон мне один приходит, бутто попали мы с младшим братом на остров, если посмотреть так сверху, на желудь похожий. Там лес стал цепляться, и все руки исцарапал. Выходим на тропу, а по ней кто-то шел, трава разгибается. Бежим и нагоняем людей, а потом видим их сверху, точно нас на сосну посадили. Впереди идут двое такие вот: он как будто витязь с саблей, в длинной такой вот шубе, и лик у него незримый, а она с платком, и на нем птицы вышитые. За ними другие, много, и у всех глаза-то закрыты. Мы за ними. Лес кончился уже, и они выходят в поле. Она отпускает платок с птицами, и птицы его уносят, они с незримым заходят в небо, а те, что с глазами запахнутыми шли, полегли. Витязь оборачивается, он высокий, вполнеба, на голове-то высока шапка, а на ней филин, и крылья его длиннющие, и летит он с шапки и накрывает землю крылами, а витязь смотрит на нас. Пред войной последний раз сон этот видел и как проснулся, так понял, что хоть отцы сны ересью считать велели, а все равно ж людей поубивают тыщчи и непохороненных будет полболота. Коли сон мне такой снился, так не буду ему следовать и верить не буду, но мертвых, полегших закапывать стану. Хоть бы и без домовины, а рядышком положу, и посмертье им выйдет и тем успокоятся».
Ночью за тусклым окном колыхались сосны как хор бессонных. Впервые за несколько месяцев я спал не на земле и оттого задремал не сразу. Утром мы поднялись, с тоской взяли мешки и тихо открыли дверь. За изгородью было зябко и серо, под бормотанье хозяина пред досками мы извлекли инструменты из ящиков. Больше он не сказал ни слова. Когда мы уходили, болото вновь присыпал снег, и вновь из часовни на Доманце недоуменно глянул святой. Лыжи летели. Я ехал с тоской и счастьем, впившимся под сердце иглой. Подо льдом спали рыбы, над болотом спало небо, и я не мог его поймать, оно вылетало за взгляд, то вверх, то вбок. Что может быть недолговечнее карт? Ступишь на остров, а он исчезнет, как кочка, – одни круги по черной воде. Мы свернули к разрушенной церкви, и в спину ударил ветер, толкнул, погнал и потащил, не давая оборачиваться. Облака просели, стали ниже, болото уходило от нас. Начинался бой.
Соседняя рота окопалась у церковного мыса, и то ли немцы вновь прорывались к Холму, то ли это был отвлекающий маневр, но роту принялись обстреливать из пушек. Один из снарядов попал в склоненную маковку, и ее каркас с остатком кладки грянулся об землю в клубах рыжей пыли. Близнецы мгновенно упали в снег и достали из мешков каски. Помедлив, я сделал то же самое. Перед глазами маячил человек, сидевший к нам спиной в полузаметенной риге. До берега оставалось совсем немного. Обстрел прекратился, около церкви заливались пулеметы. Костя, пригибаясь, подбежал ко мне, упал рядом и сказал, что надо ползти, потому что пули летят долго, с километр. «Ладно», – ответил я ему, встал и побрел в сторону от церкви. «Стой!» – заорали близнецы так истошно, что я обернулся и, услышав удар, не почувствовал боли.
В глаза брызнул яркий свет, словно разом вспыхнули десятки солнц. Меня раскачивало на теплых волнах, уносивших куда-то, все быстрее и быстрее. Мир был заполнен кричаще-красным, будто я сидел в нашей гостиной и смотрел через стекла в сад, ослепленный закатом. Этот свет вовсе не ранил и не жег, а раскачивал меня, точно в колыбели. «Неужели это будет так», – успел подумать я. Захотелось плакать от того, как радостно моя душа расставалась с израненным телом. Но близнецы не дали мне спокойно умереть, возникнув и утвердившись перед глазами двумя расплывчатыми великанами. Они тормошили меня, и я в конце концов почувствовал свои руки и ощупал ими каску – она была пробита, спереди расползалась длинная и широкая трещина. Кто-то из них снял каску, провел ладонью по лицу и показал мне ее – вся она была чем-то вымазана. Я понял, что изо рта и носа хлещет кровь, а во рту творится вообще черт знает что. Звук опять выключился – бледные оруженосцы ощупывали меня, доставали бинты и о чем-то спорили. Затем я очнулся, звуки вернулись, и, смахнув кровь с глаз, я попробовал привстать, но небо завертелось и заплясало, и Костя уронил меня в снег. Я ощутил сильную усталость и не мог шевельнуться. Ползком, изредка оглядываясь, оруженосцы поволокли меня как куклу к берегу, побросав лыжи, мешок и ящики. Глаза я прикрыл, потому что иначе меня бы вырвало. К тому же с закрытыми глазами на меня накатывали волны тепла, пусть и более слабые, чем тогда, когда вспыхнули солнца.
На санях, где близнецы выклянчили мне место с другими тяжелоранеными, меня начало жутко рвать, и, свесившись через их борт, я чуть не выблевал внутренности. Где-то по дороге, раскисшей и полузатопленной, я вновь очистил глаза от кровяной корки и разлепил веки. Сквозь ветви, ломая верхушки и нависая над всея Рдеей, несся витязь, а потом он спикировал, как хищная птица, и влетел внутрь меня, и обнялся там с немцем, тем самым, первым, и оба глядели на меня изнутри.
Солнца вспыхнули еще раз, и зрение вернулось, теперь я, наоборот, видел все так отчетливо, как не видел никогда. Наша телега переезжала глиняную реку, вода в ней была плотной и тяжелой и стремительно оборачивалась вокруг колес. Сверкая железными перьями, по реке шли вверх остромордые рыбы, они двигались косяками, небыстрыми, но неуклонными клиньями, беззвучно взрывая воду. Я видел, как блестели их круглые глаза, похожие на пуговицы. Река наполнялась ими, и даже кишела, и наконец вскипела, и вышла из берегов. Телега, однако, успела вынестись на сушу, и я потерял рыб из виду. Теперь мы двигались как бы по окружности, вдоль необъятного поля, возникшего среди рощи. Снежный покров уже сошел, и я видел землю. Вероятно, недавно здесь был жестокий бой, потому что земля пропиталась кровью и каждый комок чернозема был влажен и сочился чем-то густым. Вдалеке показались фигуры и быстро приблизились – это были женщины неопознаваемого рода, в набедренных повязках или, может быть, разорванных платьях. Они лежали в схватках и молча, будто с зашитым ртом, рожали тучных младенцев такого же цвета, как земля. Младенцы выходили из утробы не с черными сгустками, а обмазанные светлой артериальной кровью, и оставались лежать на земле, не крича и не двигаясь, но дыша. Матери же обращались в землю, и земля эта, все поле, шевелилась. И лес, и небо набухли, и даже облака отсвечивали чем-то красным. Взгляд мой сузился, будто я наблюдал за происходящим сквозь прорезь шлема и мог видеть только происходящее перед собой. Тускло засверкало оружие – полуголые воины бились на щербатых мечах: одна пара, вторая, третья, но поединки эти были странны и больше напоминали разделку тел – сильный воин расправлялся со слабым и раскраивал его плоть как портной холстину. Почва более не была насыщена кровью, под ногами у сражавшихся оказалась жидкая глина. Руки с напряженными мускулами, ноги с вздувшимися жилами падали в грязь как кегли, которые выбрасывал вверх жонглер и забывал ловить.
Все эти картины двигались передо мной, и я понял, что устаю. Мне стало трудно и жарко лежать, я попытался ворочаться, но из-за боли застыл, боясь двинуться. Мышцы ныли все сильнее, горячка подступала, и наконец мне стало ясно, что я приглашен для отчета перед кем-то самым важным, причем этот отчет будет односторонним, я должен признать вину по всем своим поступкам и желаниям, которые скрывал. Воины давно исчезли, и, покружившись в некоем вязком веществе, похожем на смолу, я вынырнул на свободу и оказался в пустынном храме. Камень его стен казался настолько древним, что я подумал, что провалился сквозь время. Я летел – нет, не из-под купола, потому что храм его не имел, он был очень высок, – я просто опускался на глубокое его дно очень медленно. В узкие оконные проемы заглядывало солнце, но его лучи не проникали вниз, где расползался сумрак. Мимо плыли сухие, шершавые и холодные стены, стыки гранитных глыб, из которых они были выложены, но, как я ни силился, не смог увидеть ни икон, ни подсвечников, ни утвари. Храм был совершенно пустынен. Неясно было также, чьего он бога, и более того, ощущалось как непререкаемое, очевидное знание, что бога здесь нет, но отчитываться перед некоей силой все равно придется. Я рассказывал, кажется, часами о своих ошибках, однако сколько стены храма ни плыли вниз, не достигали пола. Не знаю, сколько времени я провел в храме, потому что он существовал в некоем отдаленном месте, где всегда закат и безветрие, но несколько раз меня выбрасывало из него, и я вновь созерцал багровую землю, и растворяющихся в черноземе матерей, и молчащих младенцев с болтающимися пуповинами – но потом всегда возвращался и скользил вниз вдоль отвесов.
Спустя три недели я попробовал сесть. Перед глазами опять неслись воины, размахивающие мечами. Один гнался за другим и не мог догнать. У одного было лицо Полуекта, а второго я не разглядел. Лазарет кружился и вертелся каруселью, пока я не откинулся обратно на койку и не закрыл глаза. В следующий раз он кружился чуть тише, потом еще тише, потом кровавые спутники исчезли и я встал. Все повторилось: потолок вращался, и с ним вращалась моя голова, я упал на лежанку и зажмурился. Так дальше и дальше, через три недели я ходил и приседал и вскоре вернулся в землянку к оруженосцам. С момента моей контузии фронт не двигался, все тревожно зализывали раны. В уме моем установилась неслыханная доселе тишина. Я мог стоять перед елью и смотреть, симметрично ли разместился снег на ее ветках, есть ли логика в этом узоре и что значит такое взаиморасположение комьев. Гуканье сов вызывало необъяснимый восторг, я опускался в снег, сидел и думал: как хорошо быть живым. Все, что я видел и слышал, даже убийство и звук полозьев, режущих тело, оттенилось, успокоилось где-то вне моего сознания. Но в душе моей при этом не осталось почти ничего, я был пуст и готов к приему чего-то нового и, конечно, беспокоился, что это новое окажется чем-то еще более ужасным, еще худшим. Впрочем, даже это худшее меня не так пугало, потому что я приготовился к смерти – встретился с ней и понял, что она может быть не страшна, и, по крайней мере, ничего такого, ради чего стремглав, с позором бежать, в ней нет. Страшны могли быть увечья, но после отчета в каменном храме мне стало все равно, что случится дальше. Родители, сестры и Толя теперь существовали для меня как бы в безопасном сияющем пузыре, и моя уверенность берегла их. Незамысловатая легкость, конечно, обманывала меня, и я разгадал обман, но все равно поддавался этому состоянию, иначе мой вакуум обернулся бы бестелесным газом и воспламенился, и я сгорел бы в пламени того ада, в котором нам пришлось проводить долгие месяцы. Опустев, я ждал новых событий, желая пойти на них твердо, не сгибаясь, не таясь и воодушевляя близнецов делать нашу работу разумно.
В первую ночь мая мы отступали, стоял крик, не хватало регулировщиков. Пехота часами ждала по колено в воде, так как проселок был запружен телегами, грузовиками и влекомыми ими пушками. Над лесом низко, едва не задевая деревья, летали самолеты – не транспортные, а бомбардировщики и истребители, которые строчили, наполняя лес визгом пуль. Накануне немцы подошли вплотную к окопам на линии фронта и с наступлением ночи атаковали. Круглов бросил полк в контратаку, оставив в резерве лишь один батальон. Интенданты и медики сворачивали лагерь и начали отступать к Поддорью, но увязли в глиняных лужах. Нам приказали продвинуться как можно дальше к соседнему батальону, выяснить обстановку и отправить назад кого-нибудь одного, чтобы доложить о ситуации. Комполка опасался, что еще одна лесная дорога, шедшая параллельно нашей в нескольких километрах южнее, уже захвачена.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































