Текст книги "Поэмы"
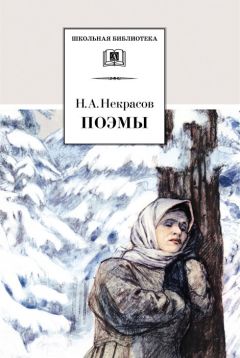
Автор книги: Николай Некрасов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Много ли верст до Гогулина?
– Да обходами три, а прямо-то шесть.
Крестьянская шутка
VI
Хорошо было детинушке
Сыпать ласковы слова,
Да трудненько Катеринушке
Парня ждать до Покрова.
Часто в ночку одинокую
Девка часу не спала,
А как жала рожь высокую,
Слезы в три ручья лила!
Извелась бы неутешная,
Кабы время горевать,
Да пора страдная, спешная —
Надо десять дел кончать.
Как ни часто приходилося
Молодице невтерпеж,
Под косой трава валилася,
Под серпом горела рожь.
Изо всей-то силы-моченьки
Молотила по утрам,
Лен стлала до темной ноченьки
По росистым по лугам.
Стелет лен, а неотвязная
Дума нá сердце лежит:
«Как другая девка красная
Молодца приворожит?
Как изменит? как засватает
На чужой на стороне?»
И у девки сердце падает:
«Ты женись, женись на мне!
Ни тебе, ни свекру-батюшке
Николи не согрублю,
От свекрови, твоей матушки,
Слово всякое стерплю.
Не дворянка, не купчиха я,
Да и нравом-то смирна,
Буду я невестка тихая,
Работящая жена.
Ты не нудь себя работою,
Силы мне не занимать,
Я за милого с охотою
Буду пашенку пахать.
Ты живи себе гуляючи
За работницей женой,
По базарам разъезжаючи,
Веселися, песни пой!
А вернешься с торгу пьяненькой —
Накормлю и уложу!
„Спи, пригожий, спи, румяненькой!“ —
Больше слова не скажу.
Видит Бог, не осердилась бы!
Обрядила бы коня,
Да к тебе и подвалилась бы:
«Поцалуй, дружок, меня!..»
Думы девичьи заветные,
Где вас все-то угадать?
Легче камни самоцветные
На дне моря сосчитать.
Уж овечка опушается,
Чуя близость холодов,
Катя пуще разгорается…
Вот и праздничек Покров!
«Ой! пуста, пуста коробушка,
Полон денег кошелек.
Жди-пожди, душа-зазнобушка,
Не обманет мил-дружок!»
Весел Ванька. Припеваючи,
Прямиком домой идет.
Старый Тихоныч, зеваючи,
То и дело крестит рот.
В эту ночку не уснулося
Ни минуточки ему.
Как мошна-то пораздулася,
Так Бог знает почему
Всё такие мысли страшные
Забираются в башку.
Прощелыги ли кабашные
Подзывают к кабаку,
Попадутся ли солдатики —
Коробейник сам не свой:
«Проходите с Богом, братики!» —
И ударится рысцой.
Словно пятки-то иголками
Понатыканы – бежит.
В Кострому идут проселками,
По болоту путь лежит,
То кочажником, то бродами[39]39
То кочажником, то бродами… – Кочажник – кочки на моховом болоте. Броды – высокие места в топях, по которым идут болотные тропины.
[Закрыть].
– Эх! пословица-то есть:
Коли три версты обходами,
Прямиками будет шесть[40]40
Коли три версты обходами, Прямиками будет шесть! – Ср. народную пословицу: «Меряла старуха клюкой, да махнула рукой» – о проселочной петляющей дороге.
[Закрыть]!
Да в Трубе, в селе, мошейники
Сбили с толку, мужики:
«Вы подите, коробейники,
В Кострому-то напрямки:
Верных сорок с половиною
По нагорной стороне,
А болотной-то тропиною
Двадцать восемь». Вот оне!
Черт попутал – мы поверили,
А кто версты тут считал? —
«Бабы их клюкою меряли, —
Ванька с важностью сказал. —
Не ругайся! Сам я слыхивал,
Тут дорога попрямей».
– Дьявол, что ли, понапихивал
Этих кочек да корней?
Доведись пора вечерняя,
Не дойдешь – сойдешь с ума!
Хороша наша губерния,
Славен город Кострома,
Да леса, леса дремучие,
Да болота к ней ведут,
Да пески, пески сыпучие… —
«Стой-ка, дядя, чу, идут!»
Только молодец и жив бывал.
Старинная былина
Песня убогого странника
Не тростник высок колышется,
Не дубровушки шумят,
Молодецкий посвист слышится,
Под ногой сучки трещат.
Показался пес в ошейничке.
Вот и добрый молодец:
«Путь-дорога, коробейнички!»
– Путь-дороженька, стрелец! —
«Что ты смотришь?» – Не прохаживал
Ты, как давеча в Трубе
Про дорогу я расспрашивал? —
«Нет, почудилось тебе.
Трои сутки не был дома я,
Жить ли дома леснику?»
«А кажись, лицо знакомое», —
Шепчет Ванька старику.
«Что вы шепчетесь?» – Да каемся,
Лучше б нам горой идти.
Так ли, малый, пробираемся
В Кострому? – «Нам по пути,
Я из Шуньи[41]41
Я из Шуньи… – Имеется в виду село Шунга (по-народному – Шунья) в окрестностях костромских охот Некрасова.
[Закрыть]». – А далёко ли
До деревни до твоей? —
«Верст двенадцать. А по многу ли
Поделили барышей?»
– Коли знать всю правду хочется,
Весь товар несем назад. —
Лесничок как расхохочется!
«Ты, я вижу, прокурат[42]42
Ты, я вижу, прокурат! – Прокурат – шутник, обманщик, притворщик.
[Закрыть]!
Кабы весь, небось не скоро бы
Шел ты, старый воробей!»
И лесник приподнял коробы
На плечах у торгашей.
«Ой! легохоньки коробушки,
Всё повыпродали, знать?
Наклевалися воробушки,
Полетели отдыхать!»
– Что, дойдем в село до ноченьки? —
«Надо, парень, добрести,
Сам устал я, нету моченьки —
Тяжело ружье нести.
Наше дело подневольное,
День и ночь броди в лесу».
И с плеча ружье двуствольное
Снял – и держит на весу.
«Эх вы, стволики-голубчики!
Больно вы уж тяжелы».
Покосились наши купчики
На тяжелые стволы:
Сколько ниток понамотано!
В палец щели у замков.
– Неужели, парень, бьет оно? —
«Бьет на семьдесят шагов».
Деревенский, видно, плотничек
Строил ложу – тяп да ляп[43]43
Деревенский, видно, плотничек Строил ложу – тяп да ляп! – Сын Гаврилы Яковлевича рассказывал: «Был у нас мужичонка такой, хитрый, негодный, Давыд Петров, из Сухорукова, вот он и убил коробейников, ограбил, с них и разжился, кабак имел, под конец Господь его покарал: ослеп под старость. Тятенька и ружье-то, из которого Давыд застрелил коробейников, делал».
[Закрыть]!
Да и сам христов охотничек
Ростом мал и с виду слаб.
Выше пояса замочена
Одежонка лесника,
Борода густая склочена,
Лычко вместо пояска.
А туда же, пес в ошейнике,
По прозванию Упырь.
Посмеялись коробейники:
«Эх ты, горе-богатырь!..»
Час идут, другой. – Далёко ли? —
«Близко». – Что ты? – «У реки
Куропаточки закокали».
И детина взвел курки.
«Ай курóчки! важно щелкнули,
Хоть медведя уложу!
Что вы, други, приумолкнули?
Запоем для куражу!»
Коробейникам не пелося:
Уж темнели небеса,
Над болотом засинелася,
Понависнула роса.
– День-деньской и так умелешься,
Сам бы лучше ты запел…
Что ты?… эй! в кого ты целишься? —
«Так, я пробую прицел…»
Дождик, что ли, собирается,
Ходят пó небу бычки[44]44
Бычки – небольшие отрывочные тучки (Яросл. губ.).
[Закрыть],
Вечер пуще надвигается,
Прытче и́дут мужички.
Пес бежит сторонкой, нюхает,
Поминутно слышит дичь.
Чу! как ухалица[45]45
Ухалица – филин-пугач (grand-duc).
[Закрыть] ухает,
Чу! ребенком стонет сыч.
Поглядел старик украдкою:
Парня словно дрожь берет.
– Аль спознался с лихорадкою? —
«Да уж три недели бьет —
Полечи!» – А сам прищурился,
Словно в Ваньку норовит.
Старый Тихоныч нахмурился:
– Что за шутки! – говорит. —
Чем шутить такие шуточки,
Лучше песни петь и впрямь.
Погодите полминуточки —
Затяну лихую вам!
Знал я старца еле зрячего,
Он весь век с сумой ходил
И про странника бродячего
Песню длинную сложил.
Ней от старости, ней с голоду
Он в канавке кончил век,
А живал богато смолоду,
Был хороший человек,
Вспоминают обыватели.
Да его попутал Бог:
По ошибке заседатели
Упекли его в острог:
Нужно было из Спиридова
Вызвать Тита Кузьмича,
Описались – из Давыдова
Взяли Титушку-ткача!
Ждет сердечный: «Завтра, нонче ли
Ворочусь на вольный свет?»
Наконец и дело кончили,
А ему решенья нет.
«Эй, хозяйка! нету моченьки,
Ты иди к судьям опять!
Изойдут слезами оченьки,
Как полотна буду ткать?»
Да не то у Степанидушки
Завелося на уме:
С той поры ее у Титушки
Не видали уж в тюрьме.
Захворала ли, покинула —
Тит не ведал ничего.
Лет двенадцать этак минуло —
Призывают в суд его
Пред зерцалом, в облачении[46]46
Пред зерцалом, в облачении… – Зерцало – эмблема правосудия, устанавливавшаяся в дореволюционной России в присутственных местах, в виде увенчанной двуглавым орлом трехгранной призмы с наклеенными на гранях указами Петра Великого о соблюдении законности.
[Закрыть]
Молодой судья сидел.
Прочитал ему решение,
Расписаться повелел
И на все четыре стороны
Отпустил – ступай к жене!
«А за что вы, черны вороны,
Очи выклевали мне?»
Тут и сам судья покаялся:
– Ты прости, прости любя!
Вправду ты задаром маялся,
Позабыли про тебя!
Тит – домой. Поля не óраны,
Дом растаскан на клочки,
Продала косули, бороны,
И одёжу, и станки,
С баринком слюбилась женушка,
Убежала в Кострому.
Тут родимая сторонушка
Опостылела ему.
Плюнул! Долго не разгадывал,
Без дороги в путь пошел.
Шел – да песню эту складывал,
Сам с собою речи вел.
И говаривал старинушка:
«Вся-то песня – два словца.
А запой ее, детинушка,
Не дотянешь до конца!
Эту песенку мудреную
Тот до слова допоет,
Кто всю землю, Русь крещеную,
Из конца в конец пройдет».
Сам ее Христов угодничек
Не допел – спит вечным сном.
Ну! подтягивай, охотничек!
Да иди ты передом!
Я лугами иду – ветер свищет в лугах:
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименькой, холодно!
Я лесами иду – звери воют в лесах:
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименькой, голодно!
Я хлебами иду: что вы тощи, хлеба?
С холоду, странничек, с холоду,
С холоду, родименькой, с холоду!
Я стадами иду: что скотинка слаба?
С голоду, странничек, с голоду,
С голоду, родименькой, с голоду!
Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименькой, холодно!
Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь?
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименькой, голодно!
Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь?
С холоду, странничек, с холоду,
С холоду, родименькой, с холоду!
Я в четверту: мужик! что в кабак ты идешь?
С голоду, странничек, с голоду,
С голоду, родименькой, с голоду!
Я опять во луга – ветер свищет в лугах:
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименькой, холодно!
Я опять во леса – звери воют в лесах:
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименькой, голодно!
Я опять во хлеба, —
Я опять во стада, —
и т. д.
Пел старик, а сам поглядывал:
Поминутно лесничок
То к плечу ружье прикладывал,
То потрогивал курок.
На беду, ни с кем не встретишься!
– Полно петь… Эй, молодец!
Что отстал?… В кого ты метишься?
Что ты делаешь, подлец! —
«Трусы, трусы вы великие!» —
И лесник захохотал
(А глаза такие дикие!).
– Стыдно! – Тихоныч сказал. —
Как не грех тебе захожего
Человека так пугать?
А еще хотел я дешево
Миткалю тебе продать! —
Молодец не унимается,
Штуки делает ружьем,
Воем, лаем отзывается
Хохот глупого кругом.
– Эй! уймись! Чего дурачишься? —
Молвил Ванька. – Я молчу,
А заеду, так наплачешься,
Разом скулы сворочу!
Коли ты уж с нами встретился,
Должен честью проводить. —
А лесник опять наметился.
– Не шути! – «Чаво шутить!»
Коробейники отпрянули,
Бог помилуй – смерть пришла!
Почитай-что разом грянули
Два ружейные ствола.
Без словечка Ванька валится,
С криком падает старик…
В кабаке бурлит, бахвалится
Тем же вечером лесник:
«Пейте, пейте, православные!
Я, ребятушки, богат;
Два бекаса нынче славные
Мне попали под заряд!
Много серебра и золотца,
Много всякого добра
Бог послал!» Глядят, у молодца
Точно – куча серебра.
Подзадорили детинушку —
Он почти всю правду бух!
На беду его – скотинушку
Тем болотом гнал пастух:
Слышал выстрелы ружейные,
Слышал крики… «Стой! винись!..»
И мирские и питейные
Тотчас власти собрались.
Молодцу скрутили рученьки:
«Ты вяжи меня, вяжи,
Да не тронь мои онученьки!»
– Их-то нам и покажи! —
Поглядели: под онучами
Денег с тысячу рублей —
Серебро, бумажки кучами.
Утром пóзвали судей,
Судьи тотчас всё доведали
(Только денег не нашли!),
Погребенью мертвых предали,
Лесника в острог свезли…
Рыцарь на час[47]47
Впервые: Современник. 1863. № 1–2.
Покаянные настроения, которыми пронизана поэма «Рыцарь на час», сопровождали Некрасова на протяжении всего жизненного и творческого пути. Они часто проявлялись как в поэтических произведениях, так и в письмах. На одно из таких писем Добролюбов отвечал Некрасову 24 августа 81 года: «То-то, Николай Алексеевич, много Вы на себя напускаете лишнего! Что это за отчаяние в себе, что за жалобы на свою неспособность появились у Вас? Вы считаете себя отжившим, погибшим! Да помилуйте, на что это похоже? ‹…›Я сидел за чаем и читал в газете о подвигах Гарибальди. ‹…› В это время принесли мне письмо Ваше; я, разумеется, газету бросил и стал читать. И подумал я: вот человек – темперамент у него горячий, храбрости довольно, воля твердая, умом не обижен, здоровье от природы богатырское, и всю жизнь томится желанием какого-то дела, честного, хорошего дела… Только бы и быть ему Гарибальди в своем месте». В полемике с Некрасовым Добролюбов утверждает далее: «… Никто не в состоянии помешать делу таланта и мысли. А мысль у нас должна же прийти к делу, и нет ни малейшего сомнения, что, несмотря ни на что, мы увидим, как она придет».
Но Добролюбов этого не увидел: его не стало осенью 1861 года. Потом отправился в Сибирь М. Л. Михайлов и оказался под следствием в Петропавловской крепости Чернышевский. Настроения «Рыцаря на час» оказались созвучными многим поколениям русской интеллигенции, наделенной жгучей совестливостью, жаждущей деятельности, но не находящей ни в себе, ни вокруг себя прочной опоры для нее.
Н. К. Михайловский, считавший «Рыцаря на час» «блещущей беспощадной искренностью поэтической жемчужиной», рассказывал: «Мне вспоминается один вечер или ночь зимой 1884 или 1885 года. Я жил в Любани, ко мне приехали из Петербурга гости, большею частью уже немолодые люди, в том числе Г. И. Успенский. Поговорили о петербургских новостях, о том о сем; потом кто-то предложил по очереди читать. Г. И. Успенский выбрал для себя „Рыцарь на час“. И вот: комната в маленьком деревянном доме; на улице, занесенной снегом, мертвая тишина и непроглядная тьма; в комнате около стола, освещенного лампой, сидит несколько человек… Глеб Иванович читает, мы все слушаем с напряженным вниманием, хотя наизусть знаем стихотворение. Но вот голос чтеца слабеет, слабеет и обрывается: слезы не дали кончить… По всей России ведь рассыпаны эти маленькие деревянные домики на безмолвных и темных улицах; по всей России есть эти комнаты, где читают (или читали?) „Рыцаря на час“ и льются (или лились?) эти слезы». (Русское богатство. 1897. № 2. С. 133–134.)
[Закрыть]

Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует,
Над душой воцаряется мгла,
Ум, бездействуя, вяло тоскует.
Только сном и возможно помочь,
Но, к несчастью, не всякому спится…
Слава Богу! морозная ночь —
Я сегодня не буду томиться.
По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко,
Разбудил я гусей на пруду,
Я со стога спугнул ястребенка,
Как он вздрогнул! как крылья развил!
Как взмахнул ими сильно и плавно!
Долго, долго за ним я следил,
Я невольно сказал ему: славно!
Чу! стучит проезжающий воз,
Деготьком потянуло с дороги…
Обоняние тонко в мороз,
Мысли свежи, выносливы ноги.
Отдаешься невольно во власть
Окружающей бодрой природы;
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняют ожившую грудь;
Жаждой дела душа закипает,
Вспоминается пройденный путь,
Совесть песню свою запевает…
Я советую гнать ее прочь —
Будет время еще сосчитаться!
В эту тихую, лунную ночь
Созерцанию должно предаться.
Даль глубоко прозрачна, чиста,
Месяц полный плывет над дубровой,
И господствуют в небе цвета
Голубой, беловатый, лиловый.
Воды ярко блестят средь полей,
А земля прихотливо одета
В волны белого лунного света
И узорчатых, странных теней.
От больших очертаний картины
До тончайших сетей паутины,
Что по воздуху тихо плывут, —
Всё отчетливо видно: далече
Протянулися полосы гречи,
Красной лентой по скату бегут;
Замыкающий сонные нивы,
Лес сквозит, весь усыпан листвой;
Чудны красок его переливы
Под играющей, ясной луной;
Дуб ли пасмурный, клен ли веселый
В нем легко отличишь издали;
Грудью к северу, ворон тяжелый —
Видишь – дремлет на старой ели!
Все, чем может порадовать сына
Поздней осенью родина-мать:
Зеленеющей озими гладь,
Подо льном – золотая долина,
Посреди освещенных лугов
Величавое войско стогов,
Все доступно довольному взору…
Не сожмется мучительно грудь,
Если б даже пришлось в эту пору
На родную деревню взглянуть:
Не видна ее бедность нагая!
Запаслася скирдами, родная,
Окружилася ими она
И стоит, словно полная чаша.
Пожелай ей покойного сна —
Утомилась, кормилица наша!..
Спи, кто может, – я спать не могу,
Я стою потихоньку, без шуму,
На покрытом стогами лугу
И невольную думаю думу.
Не умел я с тобой совладать,
Не осилил я думы жестокой…
В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далекой,
Где лежит моя бедная мать…
В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне[48]48
Церковь старая чудится мне. – Имеется в виду церковь Благовещения с приделом в честь Петра и Павла в селе Абакумцеве, у алтаря которой похоронена мать поэта.
[Закрыть],
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий.
Да! я вижу тебя, Божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом[49]49
И апостола Павла с мечом… – Павел – один из самых ревностных проповедников христианского учения – изображается на иконах с мечом, символизирующим «меч духовный» – слово Божие. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, перепоясавши чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Послание к Ефесянам, гл. 6, 11–17).
[Закрыть],
Облаченного в светлую ризу.
Поднимается сторож-старик
На свою колокольню-руину,
На тени он громадно велик:
Пополам пересек всю равнину.
Поднимись! – и медлительно бей,
Чтобы слышалось долго гуденье!
В тишине деревенских ночей
Этих звуков властительно пенье:
Если есть в околотке больной,
Он при них встрепенется душой
И, считая внимательно звуки,
Позабудет на миг свои муки;
Одинокий ли путник ночной
Их заслышит – бодрее шагает;
Их заботливый пахарь считает
И, крестом осенясь в полусне,
Просит Бога о ведренном дне.
Звук за звуком гудя прокатился,
Насчитал я двенадцать часов.
С колокольни старик возвратился,
Слышу шум его звонких шагов,
Вижу тень его; сел на ступени,
Дремлет, голову свесив в колени.
Он в мохнатую шапку одет,
В балахоне убогом и темном…
Все, чего не видал столько лет,
От чего я пространством огромным
Отделен, – все живет предо мной,
Все так ярко рисуется взору,
Что не верится мне в эту пору,
Чтоб не мог увидать я и той,
Чья душа здесь незримо витает,
Кто под этим крестом почивает…
Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты, – грудью своей
Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилася!
Ты, не дрогнув, удар приняла,
За врагов, умирая, молилася,
На детей милость Бога звала.
Неужели за годы страдания
Тот, кто столько тобою был чтим,
Не пошлет тебе радость свидания
С погибающим сыном твоим?…
Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О, прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну – и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый поставила путь…
Треволненья мирского далекая,
С неземным выраженьем в очах,
Русокудрая, голубоокая,
С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой величаво-безгласная —
Молода умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мне
При волшебно светящей луне.
Да! я вижу тебя, бледнолицую,
И на суд твой себя отдаю.
Не робеть перед правдой-царицею
Научила ты Музу мою:
Мне не страшны друзей сожаления,
Не обидно врагов торжество,
Изреки только слово прощения,
Ты, чистейшей любви божество!
Что враги? пусть клевещут язвительней,
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!
Что друзья? Наши силы неровные,
Я ни в чем середины не знал,
Что обходят они, хладнокровные,
Я на все безрассудно дерзал,
Я не думал, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдет —
И влекла меня жажда безумная,
Жажда жизни – вперед и вперед!
Увлекаем бесславною битвою,
Сколько раз я над бездной стоял,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падал – и вовсе упал!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Тот, чья жизнь бесполезно разбилася,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце неробкое билося,
Что умел он любить…
(Утром, в постели)
О мечты! о волшебная власть
Возвышающей душу природы!
Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы —
Все в душе угнетенной моей
Пробудилось… но где же ты, сила?
Я проснулся ребенка слабей.
Знаю: день проваляюсь уныло,
Ночью буду микстуру глотать,
И пугать меня будет могила,
Где лежит моя бедная мать.
Все, что в сердце кипело, боролось,
Все луч бледного утра спугнул,
И насмешливый внутренний голос
Злую песню свою затянул:
«Покорись, о ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе,
Захватило вас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано…»
Мороз, Красный нос[50]50
Впервые: первоначальная редакция – Время. 1863. № 1, под заглавием «Смерть Прокла»; окончательная редакция – Современник. 1864. № 1, под заглавием «Мороз, Красный нос».
В первоначальной редакции, завершенной в декабре 1862 года, сюжет поэмы исчерпывался рассказом о смерти Прокла, то есть содержанием первой главы. Осенью 1862 года Некрасов жил в Карабихе, навещая в Ярославле больного отца, затем некоторое время провел в Новгородской губернии. Впечатления от зимней деревни, от посещения могилы матери в Абакумцеве, грустные думы о скоротечности человеческого бытия в связи со смертью отца способствовали возникновению замысла этой поэмы. Некрасов продолжал работу над нею в течение всего 1863 года. К августу возник второй вариант с «Эпилогом» и новым названием – «Смерть крестьянина». Затем Некрасов исключил эпилог, в котором давалось оптимистическое разрешение судьбы Дарьи, ввел в текст первой главы стихи о «величавой славянке» и развернул вторую главу, обогатив ее снами Дарьи, усилив мотивы мужества и духовной красоты русской женщины из народа и дав поэме новое, окончательное заглавие – «Мороз, Красный нос».
18 февраля 1864 года поэт читал свое произведение на вечере Литературного фонда. Он предварил чтение сообщением, что «его новое произведение не имеет никакой тенденции», и просил слушателей не подозревать в нем «никакого служения направлению». «Мне хотелось, – сказал поэт, – написать несколько картинок русской сельской жизни; я попытался изобразить судьбу нашей русской женщины; я прошу внимания слушателей, ибо если они не найдут в моей поэме того, что я задумал, они ничего в ней не найдут». Под тенденцией в то время понималось чрезмерно сгущенное изображение темных сторон народной жизни, в чем славянофильская и консервативная публика упрекала писателей-демократов. Некрасов пытался в поэме отступить от такой тенденции и воссоздать объективную картину крестьянского бытия, ничего в нем умышленно не заостряя. В поэме, несмотря на ее трагический финал, торжествует вера Некрасова в духовную стойкость, красоту и мощь русского народного характера, особенно ярко проявляющуюся в кризисных ситуациях, в драматических испытаниях.
Сын декабриста С. Г. Волконского М. С. Волконский, дружески относившийся к Некрасову, писал ему: «Сейчас я прочел Ваш „Мороз“. Он пробрал меня до костей, и не холодом – а до глубины души тем теплым чувством, которым пропитано это прекрасное произведение. Ничто, до сих пор мною читанное, не потрясло меня так сильно и глубоко, как Ваш рассказ, в котором нет ни одного слова лишнего; каждое так и бьет вас по сердцу. Все это как нельзя более знакомо мне, до 25-летнего возраста то и дело переезжавшему из деревни в деревню, от одного мужика к другому. Художественность же, с которой изложен Ваш рассказ, а главное теплота чувства, которым он дышит, – просто перевернули меня. Дайте мне возможность поделиться им с моим отцом, доказавшим на деле, как он любит русского мужика».
Поэт широко использовал в этом произведении народные причитания, совершая литературную обработку их текстов по известным ему фольклорным записям. В 1853 году в Моложском уезде Ярославской губернии было записано художественно переработанное Некрасовым причитание по покойнику:
О сударь ты наш, сердечной друг!С кем ты евту думушку одумал:Одумал с матушкой сырой землей,Сорядился ты на жицьё вековешнее,Оставляешь ты нас, сирот горькиев…Уж воскинь-кё, восплесни рукам милыем,Возгляни-кё оцам-це ясныем,Роспецатай-кё свое уста сахарные…Уж умываемся мы не свежой водой,Уж умываемся мы горюцыем слезам…Посадили бы за дубовой стол,Роскинули бы скацерци браные,Уж наставили бы мы для цея яства сахарного,Уж не могли бы на цея наглядецися… Поэт снял диалектизмы (убрал характерное для Моложского уезда «цоканье»), освободил текст причитания от фольклорной условности (вместо «роспечатай» – «раствори уста», вместо «ясные очи» – «соколий глазок»), а также ввел в текст собственные стихи, созданные в духе фольклорного мироощущения: «Тряхни шелковыми кудрями», «Покушай, желанный, родной». Некрасов включил в поэму бытовавшие тогда в деревне приметы, обычаи, суеверия, заклинания, приемы «народной медицины». Образ Мороза он воссоздал с опорой на сказочную традицию (ср. народную сказку «Морозко»), а также на пословицы, поговорки и загадки: «Не велик мороз, да краснеет нос», «Мороз скачет по ельничкам, по березничкам, по сырым борам, по веретейкам», «Кто мост мостил, золотой настил, без ножа, без топора, без клиньев, без подклинков?».
Современная Некрасову критика отметила художественные достоинства поэмы. В. Р. Зотов отнес ее «к числу лучших произведений русской поэзии, которыми она всегда будет гордиться». (Северное сияние. 1865. Вып. 2. Т. 4. С. 36.) Однако славянофильский критик Н. М. Павлов усмотрел в произведении Некрасова тенденцию – нарочитое нагнетание мрачных, безотрадных картин: «В целой нашей литературе нельзя бы привести образчиков еще более беспощадной иронии, еще злейшего отрицания, как те, какими наполнены заключительные строфы поэмы». На этом основании критик отказывал Некрасову в народности: «Не есть ли это буквальное, положительнейшее nihil („ничего“ – лат. Отсюда слово „нигилист“ – человек, зараженный духом всеобщего, пустого, зряшного отрицания. – Ю. Л.) самого отчаянного скептицизма. Нет, как бы господин Некрасов ни прикидывался народным поэтом, но свежей струи русской народности прежде всего и не слыхать в его поэзии, именно народных-то струн и недостает его лире». (День. 1864. № 43. 24 окт.)
Оригинальным «защитником» Некрасова от таких нападок явился соратник Д. И. Писарева, критик «Русского слова» В. А. Зайцев. Он подметил в стихах Некрасова жизнеутверждающие, светлые начала, но отнес их в разряд народных мечтаний, идеалов, которым будто бы не было места в реальной действительности. Процитировав предсмертный сон Дарьи, критик сказал, что эта «картина есть самый полный идеал счастья, какой только могла создать фантазия крестьянки… Но кто не причастен к филистерству и пошлости кружков, тот, прочитав предсмертный сон Дарьи, поймет, что, насколько силен протест, настолько же высок и идеал, помещенный рядом с протестом, или, лучше, в нем же самом». Идеал этот, по Зайцеву, бесконечно далек от будней крестьянской жизни: «Если бы в минуту смерти крестьянке грезилось ее действительное прошлое, то она увидела бы побои мужа, не радостный труд, не чистую бедность, а смрадную нищету. Только в розовом чаду опиума или смерти от замерзания могли предстать перед нею эти чудные, но никогда не бывалые картины». (Русское слово. 1864. № 10. С. 84–85.)
В полемику с Зайцевым вступил почвеннический журнал Ф. М. Достоевского «Эпоха». Н. Н. Страхов, друг Достоевского и Толстого, ведущий критик этого журнала, писал: «Некрасов изобразил живущую в полном ладу чету мужа и жены. „Как можно! – восклицает критик. – Ваш Прокл непременно бил свою жену“. Господин Некрасов представил картину радостного труда, чистой бедности. „Как можно! – возражает критик. – Все это одна мечта, я знаю твердо, что они жили в смрадной нищете“. Господин Некрасов изобразил счастливые минуты крестьянского семейства, полного взаимной любви. „Как можно! – восклицает критик. – Я ведь знаю, что ни любви, ни счастливых минут у них вовсе нет“. „Очень может быть, – подводит итог Н. Н. Страхов, – что критику кажется одной фантазией, одним идеалом даже то, как Савраска „в мягкие добрые губы Гришухино ухо берет“. Вот если бы Савраска откусил ухо Гришухи, тогда это было бы ближе к действительности и не противоречило бы некрасовской манере ее изображать“». (Эпоха. 1864. № 11. С. 4–5.)
[Закрыть]
Посвящаю моей сестре Анне Алексеевне

Часть первая
Ты опять упрекнула меня,
Что я с Музой моей раздружился,
Что заботам текущего дня
И забавам его подчинился.
Для житейских расчетов и чар
Не расстался б я с Музой моею,
Но бог весть, не погас ли тот дар,
Что, бывало, дружил меня с нею?
Но не брат еще людям поэт,
И тернист его путь, и непрочен,
Я умел не бояться клевет,
Не был ими я сам озабочен;
Но я знал, чье во мраке ночном
Надрывалося сердце с печали,
И на чью они грудь упадали свинцом,
И кому они жизнь отравляли.
И пускай они мимо прошли,
Надо мною ходившие грозы,
Знаю я, чьи молитвы и слезы
Роковую стрелу отвели…
Да и время ушло, – я устал…
Пусть я не был бойцом без упрека,
Но я силы в себе сознавал,
Я во многое верил глубоко,
А теперь – мне пора умирать…
Не затем же пускаться в дорогу,
Чтобы в любящем сердце опять
Пробудить роковую тревогу…
Присмиревшую Музу мою
Я и сам неохотно ласкаю…
Я последнюю песню пою
Для тебя – и тебе посвящаю.
Но не будет она веселей,
Будет много печальнее прежней,
Потому что на сердце темней
И в грядущем еще безнадежней…
Буря воет в саду, буря ломится в дом,
Я боюсь, чтоб она не сломила
Старый дуб, что посажен отцом,
И ту иву, что мать посадила[51]51
Буря воет в саду ‹…› И ту иву, что мать посадила… – «В фольклорной, да и в обиходной практике народа с дубом связывают представление о корне жизни, ее крепости, устойчивости, а ива несет в себе символический образ печали, смерти, ее постоянный эпитет – „плакучая“. И наконец, образами разбушевавшейся стихии (ливневыми дождями, сильными снегопадами, ураганным ветром, бурей) народ издревле обозначал смятенное душевное состояние, приближение беды, нарушение гармонии в привычном порядке вещей. В качестве примера приведем начало свадебной песни, широко бытовавшей в Костромской и Ярославской губерниях в конце прошлого столетия: „Ой, и што соводни да погодушка По чисту полю разгулялася. Буйны вихори расходилися, Гром-молния приударила, Громова стрела в конек вдарила, Нова горница всколебалася, Все домашние обудилися“. Песня исполнялась в утро свадебного дня в доме невесты перед приездом свадебного поезда». (Торопова А. В. Фольклорные истоки поэтической символики Некрасова в поэме «Мороз, Красный нос» // Н. А. Некрасов и русская литература второй половины XIX – начала XX в. Ярославль, 1980. С. 267.)
[Закрыть],
Эту иву, которую ты
С нашей участью странно связала[52]52
Эту иву, которую ты С нашей участью странно связала… – «Странность эта – в суеверном убеждении народном, что неожиданно поблекшие, засохшие цветы, листья любимого растения, дерева предвещают человеку смерть». (Торопова А. В. Указ. соч. С. 26.)
[Закрыть],
На которой поблекли листы
В ночь, как бедная мать умирала…
И дрожит и пестреет окно…
Чу! как крупные градины скачут!
Милый друг, поняла ты давно —
Здесь одни только камни не плачут…
Смерть крестьянина
I
Савраска увяз в половине сугроба —
Две пары промерзлых лаптей[53]53
Две пары промерзлых лаптей. – По обычаю, покойника обували в новые лапти, а другую пару лаптей клали в гроб «про запас», в расчете на долгое странствование усопшего по загробному миру.
[Закрыть]
Да угол рогожей покрытого гроба
Торчат из убогих дровней.
Старуха в больших рукавицах
Савраску сошла понукать.
Сосульки у ней на ресницах,
С морозу – должно полагать.
II
Привычная дума поэта
Вперед забежать ей спешит:
Как саваном, снегом одета,
Избушка в деревне стоит,
В избушке – теленок в подклети,
Мертвец на скамье у окна;
Шумят его глупые дети,
Тихонько рыдает жена.
Сшивая проворной иголкой
На саван куски полотна,
Как дождь, зарядивший надолго,
Негромко рыдает она.
III
Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая – быть матерью сына раба,
А третья – до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли.
Века протекали – все к счастью стремилось,
Всё в мире по нескольку раз изменилось,
Одну только Бог изменить забывал
Суровую долю крестьянки.
И все мы согласны, что тип измельчал
Красивой и мощной славянки.
Случайная жертва судьбы!
Ты глухо, незримо страдала,
Ты свету кровавой борьбы
И жалоб своих не вверяла, —
Но мне ты их скажешь, мой друг!
Ты с детства со мною знакома.
Ты вся – воплощенный испуг,
Ты вся – вековая истома!
Тот сердца в груди не носил,
Кто слез над тобою не лил!
IV
Однако же речь о крестьянке
Затеяли мы, чтоб сказать,
Что тип величавой славянки
Возможно и ныне сыскать.
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет – словно солнце осветит!
Посмотрит – рублем подарит!»
Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идет,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветет
Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
И голод и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна…
Я видывал, как она косит:
Что взмах – то готова копна!
Платок у ней на ухо сбился,
Того гляди косы падут.
Какой-то парнек изловчился
И кверху подбросил их, шут!
Тяжелые русые косы
Упали на смуглую грудь,
Покрыли ей ноженьки босы,
Мешают крестьянке взглянуть.
Она отвела их руками,
На парня сердито глядит.
Лицо величаво, как в раме,
Смущеньем и гневом горит…
По будням не любит безделья.
Зато вам ее не узнать,
Как сгонит улыбка веселья
С лица трудовую печать.
Такого сердечного смеха
И песни и пляски такой
За деньги не купишь. «Утеха!» —
Твердят мужики меж собой.
В игре ее конный не словит,
В беде – не сробеет, – спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
Красивые, ровные зубы
Что крупные перлы у ней,
Но строго румяные губы
Хранят их красу от людей —
Она улыбается редко…
Ей некогда лясы точить,
У ней не решится соседка
Ухвата, горшка попросить;
Не жалок ей нищий убогий —
Вольно ж без работы гулять!
Лежит на ней дельности строгой
И внутренней силы печать.
В ней ясно и крепко сознанье,
Что все их спасенье в труде,
И труд ей несет воздаянье:
Семейство не бьется в нужде,
Всегда у них теплая хата,
Хлеб выпечен, вкусен квасок,
Здоровы и сыты ребята,
На праздник есть лишний кусок.
Идет эта баба к обедне
Пред всею семьей впереди:
Сидит, как на стуле, двухлетний
Ребенок у ней на груди,
Рядком шестилетнего сына
Нарядная матка ведет…
И по сердцу эта картина
Всем любящим русский народ!
V
И ты красотою дивила,
Была и ловка, и сильна,
Но горе тебя иссушило,
Уснувшего Прокла жена!
Горда ты – ты плакать не хочешь,
Крепишься, но холст гробовой
Слезами невольно ты мочишь,
Сшивая проворной иглой.
Слеза за слезой упадает
На быстрые руки твои.
Так колос беззвучно роняет
Созревшие зерна свои[54]54
Так колос беззвучно роняет Созревшие зерна свои. – Здесь: «первое обозначение трагического надлома душевных сил героини, ибо осыпание колоса, зерна – символа жизни ‹…›всегда переосмысливалось в народной поэтике как увядание, истечение жизненной энергии». (Торопова А. В. Указ. соч. С. 27–28.)
[Закрыть]…
VI
В селе, за четыре версты,
У церкви, где ветер шатает
Подбитые бурей кресты,
Местечко старик выбирает;
Устал он, работа трудна,
Тут тоже сноровка нужна —
Чтоб крест было видно с дороги,
Чтоб солнце играло кругом.
В снегу до колен его ноги,
В руках его заступ и лом,
Вся в инее шапка большая,
Усы, борода в серебре.
Недвижно стоит, размышляя,
Старик на высоком бугре.
Решился. Крестом обозначил,
Где будет могилу копать,
Крестом осенился и начал
Лопатою снег разгребать.
Иные приемы тут были,
Кладбище не то, что поля:
Из снегу кресты выходили,
Крестами ложилась земля.
Согнув свою старую спину,
Он долго, прилежно копал,
И желтую мерзлую глину
Тотчас же снежок застилал.
Ворона к нему подлетела,
Потыкала носом, прошлась:
Земля, как железо, звенела —
Ворона ни с чем убралась…
Могила на славу готова, —
«Не мне б эту яму копать!
(У старого вырвалось слово):
Не Проклу бы в ней почивать,
Не Проклу!..» Старик оступился,
Из рук его выскользнул лом
И в белую яму скатился,
Старик его вынул с трудом.
Пошел… по дороге шагает…
Нет солнца, луна не взошла…
Как будто весь мир умирает:
Затишье, снежок, полумгла…
VII
В овраге, у речки Желтухи,
Старик свою бабу нагнал
И тихо спросил у старухи:
«Хорош ли гробок-то попал?»
Уста ее чуть прошептали
В ответ старику: – Ничего. —
Потом они оба молчали,
И дровни так тихо бежали,
Как будто боялись чего…
Деревня еще не открылась,
А близко – мелькает огонь.
Старуха крестом осенилась,
Шарахнулся в сторону конь —
Без шапки, с ногами босыми,
С большим заостренным колом,
Внезапно предстал перед ними
Старинный знакомец Пахом.
Прикрыты рубахою женской,
Звенели вериги на нем;
Постукал дурак деревенский
В морозную землю колом,
Потом помычал сердобольно,
Вздохнул и сказал: «Не беда!
На вас он работал довольно,
И ваша пришла череда!
Мать сыну-то гроб покупала,
Отец ему яму копал,
Жена ему саван сшивала —
Всем разом работу вам дал!..»
Опять помычал – и без цели
В пространство дурак побежал.
Вериги уныло звенели,
И голые икры блестели,
И посох по снегу черкал.
VIII
У дома оставили крышу,
К соседке свели ночевать
Зазябнувших Машу и Гришу
И стали сынка обряжать.
Медлительно, важно, сурово
Печальное дело велось:
Не сказано лишнего слова,
Наружу не выдано слез.
Уснул, потрудившийся в поте!
Уснул, поработав земле!
Лежит, непричастный заботе,
На белом сосновом столе,
Лежит неподвижный, суровый,
С горящей свечой в головах,
В широкой рубахе холщовой
И в липовых новых лаптях.
Большие, с мозолями руки,
Подъявшие много труда,
Красивое, чуждое муки
Лицо – и до рук борода…
IX
Пока мертвеца обряжали,
Не выдали словом тоски
И только глядеть избегали
Друг другу в глаза бедняки,
Но вот уже кончено дело,
Нет нужды бороться с тоской,
И что на душе накипело,
Из уст полилося рекой.
Не ветер гудит по ковыли,
Не свадебный поезд гремит, —
Родные по Прокле завыли,
По Прокле семья голосит:
«Голубчик ты наш сизокрылый!
Куда ты от нас улетел?
Пригожеством, ростом и силой
Ты ровни в селе не имел,
Родителям был ты советник,
Работничек в поле ты был,
Гостям хлебосол и приветник,
Жену и детей ты любил…
Что ж мало гулял ты по свету?
За что нас покинул, родной?
Одумал ты думушку эту,
Одумал с сырою землей —
Одумал – а нам оставаться
Велел во миру, сиротам,
Не свежей водой умываться,
Слезами горючими нам!
Старуха помрет со кручины,
Не жить и отцу твоему,
Береза в лесу без вершины —
Хозяйка без мужа в дому[55]55
Береза в лесу без вершины – Хозяйка без мужа в дому… – «Поэт переосмысливает широко известный в народе символ: заламывание вершины березы или другого дерева сулит замужество девушке, то есть потерю своей воли, вступление под власть и покровительство главы дома – мужа». У Некрасова «как бы удваивается величина утраты: сначала Дарья лишилась девичьей воли, а теперь и того, кому ее доверила». (Торопова А. В. Указ. соч. С. 29.)
[Закрыть].
Ее не жалеешь ты, бедной,
Детей не жалеешь… Вставай!
С полоски своей заповедной
По лету сберешь урожай!
Сплесни, ненаглядный, руками,
Сокольим глазком посмотри,
Тряхни шелковыми кудрями,
Сахарны уста раствори!
На радости мы бы сварили
И меду, и браги хмельной,
За стол бы тебя посадили:
«Покушай, желанный, родной!»
А сами напротив бы стали —
Кормилец, надёжа семьи!
Очей бы с тебя не спускали,
Ловили бы речи твои…»
X
На эти рыданья и стоны
Соседи валили гурьбой:
Свечу положив у иконы,
Творили земные поклоны
И шли молчаливо домой.
На смену входили другие.
Но вот уж толпа разбрелась,
Поужинать сели родные —
Капуста да с хлебушком квас.
Старик бесполезной кручине
Собой овладеть не давал:
Подладившись ближе к лучине,
Он лапоть худой ковырял.
Протяжно и громко вздыхая,
Старуха на печку легла,
А Дарья, вдова молодая,
Проведать ребяток пошла.
Всю ноченьку, стоя у свечки,
Читал над усопшим дьячок,
И вторил ему из-за печки
Пронзительным свистом сверчок.
XI
Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.
Савраска, запряженный в сани,
Понуро стоял у ворот;
Без лишних речей, без рыданий
Покойника вынес народ.
Ну, трогай, саврасушка! трогай!
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!..
В торговом селе Чистополье
Купил он тебя сосунком,
Взрастил он тебя на приволье,
И вышел ты добрым конем.
С хозяином дружно старался,
На зимушку хлеб запасал,
Во стаде ребенку давался,
Травой да мякиной питался,
А тело изрядно держал.
Когда же работы кончались
И сковывал землю мороз,
С хозяином вы отправлялись
С домашнего корма в извоз.
Немало и тут доставалось —
Возил ты тяжелую кладь,
В жестокую бурю случалось,
Измучась, дорогу терять.
Видна на боках твоих впалых
Кнута не одна полоса,
Зато на дворах постоялых
Покушал ты вволю овса.
Слыхал ты в январские ночи
Метели пронзительный вой
И волчьи горящие очи
Видал на опушке лесной,
Продрогнешь, натерпишься страху,
А там – и опять ничего!
Да, видно, хозяин дал маху —
Зима доконала его!..
XII
Случилось в глубоком сугробе
Полсуток ему простоять,
Потом то в жару, то в ознобе
Три дня за подводой шагать:
Покойник на срок торопился
До места доставить товар.
Доставил, домой воротился —
Нет голосу, в теле пожар!
Старуха его окатила
Водой с девяти веретен[56]56
Водой с девяти веретен… – Веретеном назывался колодезный ворот, на который наматывалась цепь с бадьей. Больного обливали водой, добытой из девяти колодцев, или осыпали золой, собранной из семи печей.
[Закрыть]
И в жаркую баню сводила,
Да нет – не поправился он!
Тогда ворожеек созвали —
И поят, и шепчут, и трут —
Всё худо! Его продевали
Три раза сквозь потный хомут,
Спускали родимого в пролубь,
Под куричий клали насест…
Всему покорялся, как голубь, —
А плохо – не пьет и не ест!
Еще положить под медведя,
Чтоб тот ему кости размял,
Ходебщик[57]57
Ходебщик – вожак с дрессированным медведем, ходивший по селам и деревням для увеселения крестьянской публики в праздничные дни.
[Закрыть] сергачевский Федя —
Случившийся тут – предлагал.
Но Дарья, хозяйка больного,
Прогнала советчика прочь:
Испробовать средства иного
Задумала баба: и в ночь
Пошла в монастырь отдаленный
(Верстах в тридцати от села),
Где в некой иконе явленной
Целебная сила была.
Пошла, воротилась с иконой —
Больной уж безгласен лежал,
Одетый как в гроб, причащенный,
Увидел жену, простонал
И умер…
XIII
… Саврасушка, трогай.
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!
Чу! два похоронных удара!
Попы ожидают – иди!..
Убитая, скорбная пара,
Шли мать и отец впереди.
Ребята с покойником оба
Сидели, не смея рыдать,
И, правя савраской, у гроба
С вожжами их бедная мать
Шагала… Глаза ее впали,
И был не белей ее щек
Надетый на ней в знак печали
Из белой холстины платок[58]58
Из белой холстины платок. – В крестьянстве (особенно у старообрядцев) существовал обычай в скорбные, траурные дни покрывать голову не черным, а белым платком.
[Закрыть].
За Дарьей – соседей, соседок
Плелась негустая толпа,
Толкуя, что Прокловых деток
Теперь незавидна судьба,
Что Дарье работы прибудет,
Что ждут ее черные дни.
«Жалеть ее некому будет», —
Согласно решили они…
XIV
Как водится, в яму спустили,
Засыпали Прокла землей;
Поплакали, громко повыли,
Семью пожалели, почтили
Покойника щедрой хвалой.
Сам староста, Сидор Иваныч,
Вполголоса бабам подвыл
И «Мир тебе, Прокл Севастьяныч! —
Сказал. – Благодушен ты был,
Жил честно, а главное: в сроки,
Уж как тебя Бог выручал,
Платил господину оброки
И подать царю представлял!»
Истратив запас красноречья,
Почтенный мужик покряхтел:
«Да, вот она, жизнь человечья!» —
Прибавил – и шапку надел.
«Свалился… а то-то был в силе!..
Свалимся… не минуть и нам!..»
Еще покрестились могиле
И с Богом пошли по домам.
Высокий, седой, сухопарый,
Без шапки, недвижно-немой,
Как памятник, дедушка старый
Стоял на могиле родной!
Потом старина бородатый
Задвигался тихо по ней,
Ровняя землицу лопатой,
Под вопли старухи своей.
Когда же, оставивши сына,
Он с бабой в деревню входил:
«Как пьяных, шатает кручина!
Гляди-тко!..» – народ говорил.
XV
А Дарья домой воротилась —
Прибраться, детей накормить.
Ай-ай! как изба настудилась!
Торопится печь затопить,
Ан глядь – ни полена дровишек!
Задумалась бедная мать:
Покинуть ей жаль ребятишек,
Хотелось бы их приласкать.
Да времени нету на ласки.
К соседке свела их вдова
И тотчас, на том же савраске,
Поехала в лес, по дрова…









































