Текст книги "Капитан Михалис"
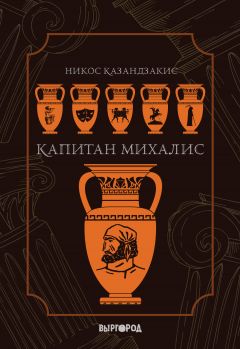
Автор книги: Никос Казандзакис
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Сад в твоем сне, – начал митрополит, собравшись с мыслями, – это сердце доброго человека, твое сердце. И бродишь ты в этом цветущем саду спокойно, мирно, как у себя на родине… Однако судьба забросила тебя далеко от родных мест…
– Истинная правда, владыко. Ты будто в самую душу мне глядишь. Ну а дальше что?
– А увешанная оружием олива – это, конечно, Крит. Ты оказался под сожженным молнией деревом – здесь судьба становится жестокой к тебе… Очень жаль, что ты не досмотрел свой сон. Быть может, провидение возлагает на тебя всю тяжесть выбора, потому и заставило тебя пробудиться.
– Эх, кабы так! Клянусь Аллахом, христиане и турки жили бы в мире и согласии, как братья, будь моя воля. Греки бы работали, а турки вкушали плоды их трудов, и никто бы в обиде не остался.
– На то и власть тебе дана, – сказал митрополит, довольный, что все же сумел навести пашу на размышления. – В твоей власти сделать так, чтобы на острове царили мир и любовь. Одним словом, твой сон – это послание тебе.
– Объясни-ка получше, я что-то не понимаю.
– Ты небось слышал, что христиане и турки в Мегалокастро озлобились друг против друга, потому что один из наших пьяным въехал на коне в турецкую кофейню.
– А по-твоему, это пустяк? Этот гяур опозорил Турцию! – повысил голос паша, глаза его сверкнули недобрым блеском.
– Так просто Турцию не опозоришь! Это ведь целый султанат, паша-эфенди! – примирительно отозвался митрополит. – Да Бог с ним, с этим пьяницей. Ты ведь про сон меня спросил, вот мне и кажется, что я с Божьей помощью могу тебе все растолковать. Но если не хочешь…
– Хочу, клянусь Аллахом! – Паша положил руку на плечо митрополиту. – Говори, заклинаю тебя!
– Тебя, паша-эфенди, во сне осенило знамение, указав тебе путь…
– Какой путь?
– Вернее, два пути: один зеленый, другой красный. Я отчетливо вижу, как они простерлись у твоих ног. Ты можешь выбрать любой.
– Не любой, – возразил паша, – а тот, который определил мне Аллах!
– Но ведь я уже сказал тебе, что Господь порой предоставляет человеку выбор. Пойдешь по красному пути – станешь резать, вешать и жечь. А зеленый путь сулит Криту мир и согласие: турки и греки опять станут друзьями, и все будут благословлять твое имя… Так выбирай же! – С этими словами гость достал из кармана серебряную табакерку и, не давая паше опомниться, продолжал. – Я знаю, паша-эфенди, ты любишь дорогие вещи и понимаешь в них толк. Эту табакерку сделали янинские мастера. Посмотри, какая тонкая работа. С одной стороны вырезан двуглавый орел, с другой – полумесяц. Сии узоры словно воплощают твои чаяния, чтобы мусульмане и христиане жили как братья. Я давно собирался подарить ее тебе, и вот пришло время – бери на счастье! – И вложил табакерку в руку паше.
– Клянусь Аллахом, вы, греки, в самом деле, удивительный народ! – восхитился паша, поглаживая подарок толстыми пальцами. – Добром или злом – всегда добиваетесь своего.
– Эх, если б ты знал, владыко, какие сладкие воспоминания будит в моей душе эта вещица! Ведь моя первая жена – да будет пухом земля ей! – была такая же красавица, как кира Фросини[45]45
Племянница янинского митрополита. Своей необыкновенной красотой она очаровала Мухтар-пашу, сына янинского Али-паши. В 1801 году, воспользовавшись отсутствием своего сына, Али-паша приказал схватить его жену и вместе с шестнадцатью другими христианками утопить в озере.
[Закрыть], и тоже родом из Янины… Тот, кто не ведает, что такое страсть, никогда до конца не оценит красоту этого мира!
Оба замолчали. Митрополит долго перебирал четки, глядя в окно на старый платан, протянувший ветви в лазурное небо, и на зеленеющие вдали поля.
– Добрая будет пшеница, паша-эфенди!
– Не только пшеница, но и ячмень, – отозвался паша, с трудом стряхнув прах воспоминаний.
Они разом поднялись, пожали друг другу руки.
– Спасибо тебе, владыко! Мы с тобой одно дело делаем, хорошо ли, плохо. Так будем же и дальше пасти своих овец. Ты за христианами присматривай, а я буду держать в узде турок! – Он замялся, кашлянул, почесал в затылке и, наконец, решился высказать то, что вертелось на языке. – Да, и вот еще что: если услышишь на днях об убийстве, сделай вид, будто тебя это не касается.
– О каком убийстве, паша-эфенди? – Митрополит обеспокоенно посмотрел на старого анатолийца. – Что это ты затеял, говори, ради всего святого!
– Да ничего я не затевал! Мало ли какой турок прирежет по пьяному делу одного из ваших забияк! Люди глупы, всякое может случиться. Так что ты, митрополит, прикинься глухим, понимаешь? Ведь мы же прикинулись слепыми, закрыли глаза на свой позор, когда тот грек въехал верхом в турецкую кофейню!
Митрополит прикусил губу, поняв, что лучше не спорить.
– Бог всемогущ. Он правит султанами и пашами.
– И митрополитами, дорогой владыко, – проблеял старый анатолиец, хитро улыбаясь.
На том две самые важные шишки Мегалокастро расстались, довольные друг другом: на сей раз до открытого раздора не дошло.
Текли дни, была середина апреля. Одни деревья еще не отцвели, на других уже появилась завязь. Город бурлил под весенним солнцем, разделенный на два враждебных лагеря. Ни ласковое море, ни чистое, голубое небо, ни ночные светила не могли изничтожить эту вражду в людских душах.
Капитан Михалис вернулся в лавку молчаливый и мрачный. Впервые разудалая попойка не утешила его. На сердце стало еще тяжелее. Ему теперь кусок не лез в горло и сон не шел к нему по ночам. Сидя на постели, окутанный табачным дымом, Михалис боялся смежить веки: а вдруг опять подступит все тот же бес, пахнущий мускусом! Неужели нет с ним никакого сладу?
Только кровь… кровь… кровь… – думал капитан Михалис, глядя во тьму сквозь узенькое окошко.
Нури-бею тоже не спалось. Мало того, что душа была неспокойна из-за неотомщенного отца, так еще прибавилось хлопот с женой! С тех пор как капитан Михалис побывал у них в гостях, Эмине близко не подпускала к себе Нури-бея.
– Он опозорил тебя, – говорила она, упрямо топая ножкой. – А черкешенка не станет жить с опозоренным мужем!
Чтобы разогнать тяжелые мысли, Нури-бей затеял ремонт на хуторе. Скоро лето, Аллах милостив, может, Эмине, как всегда, согласится пожить здесь, среди зелени и журчащих родников. Как знать, возможно, от такой красоты сердце ее смягчится, и они опять будут жить в любви и согласии. Он нанял мастеров красить двери и окна, возводить в саду беседки, заказал канареек из Измира и попугайчиков из Александрии на радость своей обожаемой ханум.
А Эмине целые дни проводила, развалясь среди мягких подушек, на небольшом зарешеченном балконе, пила шербет, жевала мастику и разглядывала прохожих на улице.
– По мне, Мария, – говорила она своей кормилице, – все равно, турок ли, грек, еврей или еще кто… Был бы с бородой, да лучше не с седой, а с черной!
Каждый день после захода солнца под балконом появлялся грек в сдвинутой набекрень феске и щегольских сапогах; во взорах, которые он бросал на частую решетку, была жгучая страсть.
– Где-то я его видела, Мария, – обратилась Эмине к арапке. – Во сне, что ли?
– Он привел тебя в чувство, моя госпожа, помнишь, когда было землетрясение?.. Его зовут капитан Поликсингис.
– А что, красивый мужчина, видать, знатный любовник, ты только послушай, как сапоги у него скрипят! А вздыхает-то, вздыхает, ну точно теленок!
Эмине весело смеялась, а сама в глубине души сгорала от желания. Воистину женщина может сделать с мужчиной все что хочет, думала она, опуская длинные ресницы. Захочу – одарю его счастьем, а не захочу – так и будет бродить по ночам, словно бездомный пес.
Однажды капитан Поликсингис простоял под балконом до полуночи. Вокруг не было ни души, все мерцало в лунном сиянии, в ночи разливались ароматы жимолости и жасмина, где-то в глубине сада надрывался влюбленный соловей. Из порта доносился мерный глухой шум: это море билось грудью о дамбу.
Эмине никак не могла заснуть. От духоты она сняла рубашку и, выглянув в окошко, увидела в лунном свете у забора знакомый мужской силуэт. Женщина рассмеялась и разбудила свернувшуюся в углу арапку.
– Погляди-ка на этого горемыку! Так до сих пор и стоит. Может, он сознание потерял? Надо бы пойти проверить – ведь он мне в тот раз помог… Тем более Нури все равно дома нет!
Мария вытаращила глаза.
– Что ты, Эмине, это же великий грех!
– Для тебя грех, – возразила черкешенка, – а у меня другой Бог и грехи другие. Ты вот ешь свинину, и в этом для тебя нет греха, а любить мужчин – грех. У нас же все наоборот: свинина – грех, а мужики… Одним словом, пойди, позови его сюда!
– Боже всемилостивый! – в отчаянии вскрикнула арапка.
– Сперва погляди, спит ли арап у калитки.
– Спит, – вздохнула Мария. – Так храпит, что отсюда слышно.
– А собака привязана?.. Ну чего дрожишь, куриная твоя голова? Пойми, для этого Аллах и создал мужчин и женщин… А какая сегодня луна, какой теплый ветерок, жасмин расцвел, соловей с ума сводит… Иди, иди скорей!.. Знаешь, я что думаю: зимой женщина еще может быть благочестивой, но весной… Ты что, язык проглотила? Собака, я спрашиваю, привязана?
– Привязана, госпожа, – ответила арапка и залилась слезами.
Эмине взглянула вниз. Поликсингис все еще стоял там и смотрел на залитый лунным светом балкон. Нури опротивел, Михалиса ей не видать как своих ушей, так что ж, пускай будет хоть этот. Она схватила зеркальце и гребешок, наскоро причесалась, побрызгала мускусом под мышками и подтолкнула кормилицу к двери.
– Иди, кому говорят!
Арапка, дрожа всем телом, заковыляла вниз по лестнице.
Эмине вылила на себя остатки мускуса, встала, вынесла лампу за дверь.
– Другой, конечно, лучше, – прошептала она, – только уж больно нелюдим, поди замани такого. Ну и ладно, этот тоже сойдет.
Скрипнула калитка, тихо взвизгнула собака, но тотчас смолкла, послышались шаги во дворе, затем на мужской половине, на лестнице… Эмине приподнялась на ложе из подушек, хотела надеть рубашку, но передумала: смуглое обнаженное тело, упругая грудь так прекрасны в лунном свете… Стук сапог все ближе; раздувая ноздри, Эмине явственно ощутила волнующий мужской запах. Кончиком языка несколько раз, как змея, облизала губы и снова откинулась на подушки, опустив веки.
Капитан Поликсингис застыл на пороге: сердце готово было выскочить из груди. Черкешенка поглядела на него из-под длинных ресниц, и он, ослепленный, прикрыл глаза рукой, будто от яркого света. Эмине повела плечами, потянулась. И по этому долгожданному знаку капитан Поликсингис мигом подскочил к лампе и потушил ее…
Близилась Страстная неделя. Пожалуй, во всем мире нет народа, который бы так же остро и глубоко, как критяне, переживал муки Христовы, ведь в сердце критянина Христос и Крит слились воедино и Страсти у них одни и те же, только Христа распяли евреи, а Крит – турки. Вот почему особенно на Страстной неделе гнев ослепляет людей, и душа их рвется на части. Злобно смотрят они на турок и на евреев – жестянщиков и менял, – а те вечерами стараются не выходить из дома и покрепче запирают двери. В этом году воздух в Мегалокастро накалился до предела. Турки никак не могли успокоиться после оскорбления, которое им нанес капитан Михалис. Проходя мимо церкви Святого Мины в час, когда христиане оплакивали Иисуса, они ругались сквозь зубы или нарочно затягивали амане. Женщины со дня на день ожидали беды, чувствуя, как она подкрадывается все ближе.
Миновали Великий понедельник, вторник, среда. Во всех садах распустились фиалки – оттого, наверно, вечера и ночи окрасились в нежно-сиреневый цвет. Послезавтра Великая пятница, девушки оборвут цветы и понесут их в дар распятому Христу. А пока, едва садится солнце, христиане закрывают лавки, спешат домой, торопливо съедают постный ужин – бобы, зеленый салат, сырые артишоки, маслины, кунжутную похлебку – и прислушиваются к печальному звону колоколов, что плывет от церкви Святого Мины в ласковых сумерках. На этот звон, согбенные, молчаливые, идут верующие со всех концов города взглянуть на терзания Господни.
В чистый четверг, когда читают двенадцать Евангелий и митрополит, или священник Манолис, или диакон заунывным голосом повествует о том, как Иуда предал Христа и как агаряне избивали его, с криками волокли по земле, вся церковь оглашается рыданиями женщин, а мужчины в пышных шароварах, кажется, готовы немедля взять в руки меч и покарать разом Анну[46]46
Анна – первосвященник, принимавший участие в суде над Христом.
[Закрыть], Каифу, Пилата, Омера Вриониса[47]47
Врионис, Омер (Ахмет) – турецкий военачальник албанского происхождения. Участвовал в захвате Эпира и подавлении греческого национально-освободительного восстания 1821–1829 гг.
[Закрыть], Мустафу-пашу[48]48
Мустафа-паша – великий визирь Турции, предпринявший в 1570–1571 гг. захватнический поход на Кипр.
[Закрыть] и султана.
При чтении первых шести Евангелий отдельные верующие, не в силах сдержаться, выбегали на церковный двор, где стояло размалеванное чучело Иуды. Набрасывались на него кто с ножом, кто с зажженной свечой, резали, жгли, а дети устраивали вокруг неистовую пляску. Немного отведя душу, христиане входили обратно в церковь, чтобы дослушать оставшиеся тексты…
Трасаки вместе с другими ребятами прыгал и кричал вокруг предателя, пока тот не догорел, а потом помчался с дружками в еврейский квартал. План они разработали заранее: у каждого была бутылка украденного из дома керосина и комок тряпья. Трасаки бежал впереди, за ним его одноклассник Левис, еврей, который так прилип к мальчишкам-грекам, что обижался, когда его называли Абрамчиком и нехристем. Всякий раз, когда затевалась пакость против евреев, он был заводилой.
Мальчишки бежали по темным пустым улицам, окутанные парами горючей жидкости (у некоторых на бегу выпали затычки из бутылок, и керосин проливался). Вблизи грохотало море, волны яростно накатывались на скалы, будто хотели разрушить венецианскую дамбу. Трасаки вдруг поднял руку. Остальные (их было шестеро) сгрудились вокруг него. Трасаки разделил на всех спички и дал приятелям последние указания: трое заходят справа, трое – слева, тряпки надо подсовывать под дверь, а если где открыто окно – поджигать и бросать внутрь. Мальчишки достали тряпки, смочили их.
– Вперед, а я к ихнему попу – раввину… Жаль его, хороший человек, с моим отцом дружит.
Хижины в еврейском квартале низенькие, глинобитные, только некоторые крыты жестью. Жилище раввина чуть попросторнее, с небольшой деревянной верандой.
Раввин был добродушный старичок, рыжебородый, с пейсами на висках, бледный и сутуловатый; он всегда носил круглую ермолку из фиолетового бархата. Жил он один: жена, уроженка Салоник, давно умерла, дети разлетелись в разные стороны, собака издохла, а недавно канарейка – последнее утешение – выпорхнула в окно, потому что он по рассеянности оставил приоткрытой дверцу в клетке. Старик забрался на крышу, пытаясь ее поймать, но его опередил соседский кот. Так что теперь у раввина был только один спутник и собеседник – Иегова. Вот и нынче ночью засиделся старик над Святой книгой – знал, что все равно не заснет. Думы одолевали его. Ах, сколько страданий перенес его народ, ведомый по пустыне Богом в виде огненного столпа! Как суровы были посланные с неба великие пророки! Будь проклят тот день, когда явился последний из них, сын Марии, и взошел на Голгофу – и был распят! Уж сколько веков в эти весенние дни ежегодно во всех церквях Его распинают, и вновь оживает в сердцах ненависть к еврейскому народу! Раввин оторвал уставшие глаза от книги и выглянул в ночную темень. Сейчас во дворе церкви Святого Мины сжигают Иуду… Ему показалось, будто слышит он детские крики и топот, но он не придал этому значения: голова была занята божественным.
Мальчишки шныряли среди лачуг, торопливо подсовывали под двери тряпки, поджигали их и уносились прочь, довольные своим делом. Но огонь быстро затухал, оставляя только удушливый запах керосина в воздухе.
Трасаки, увидев один дым, выругался:
– Пропади вы все пропадом, дураки! Даже поджечь не могут. Вот, смотрите, как это делается!
Вся ватага столпилась вокруг него перед домом раввина.
– У кого остался керосин? Давай сюда! – распорядился Трасаки.
Манольос, сын Мастрапаса, и Андрикос, сын Красойоргиса, протянули ему ополовиненные бутылки. Трасаки подсунул в дверную щель две смоченные керосином тряпки и саму дверь хорошенько полил, затем достал из кармана спички и поджег. В тот же миг красно-голубые языки пламени взметнулись и мягко лизнули источенные жучком створки. Трасаки намочил еще одну тряпку, запалил и бросил в открытое окно.
– Бежим! – крикнул Левис. – Скорей к роднику, обмоемся, а то от нас керосином разит, дома сразу догадаются!
Мальчишки, хохоча, бросились наутек.
Но Трасаки с полдороги вернулся: ему хотелось посмотреть, хорошо ли горит огонь, который должен сжечь дотла еврейский дом. «Какой толк делать чучело Иуды и потом устраивать из него костер? – думал он. – Чтобы получить благословение Божье, надо поджигать живых евреев!» Он подкрался поближе к дому, чтобы вылить на занявшуюся дверь остатки керосина, но вдруг застыл на месте: из окна донесся отчаянный крик, а секунду спустя старый раввин выскочил на веранду, размахивая руками.
– Пожар! Пожар! Спасите! – Тут он увидел пылающую дверь, стал рвать на себе бороду и завопил еще громче. – Помогите! Спасите!
Но никто не откликнулся: соседи крепко спали. Раввин метнулся к выходу и, прорвавшись сквозь огонь, выбежал наружу. На большее его не хватило: вместо того чтобы стучаться в окна к соседям, он, точно очумев, смотрел на пожиравшее его дом пламя.
Трасаки стало жаль старика. Он выскочил из засады и начал стучать во все окна соседних лачуг.
– Пожар! Пожар! – Затем подошел к раввину. – Дедушка, я возвращался из церкви и услышал крики. Ты успокойся, сейчас придут люди.
И в самом деле, двери открывались, на порогах, освещенные лунным светом, показывались сонные перепуганные евреи в нижнем белье и ермолках. Увидев, что горит жилище раввина, хватали ведра, набирали воды из колодца, заливали огонь. Раввин, словно очнувшись, вбежал обратно в дом и вскоре снова появился на улице, прижимая к груди Священную книгу. Трасаки суетился вместе со всеми, таскал воду, тушил пожар. Он выбился из сил и обливался потом, но вид у него был довольный. Когда пламя загасили, и люди опять попрятались по домам, Трасаки взял раввина за руку.
– Спокойной ночи, дедушка! Спи спокойно!
Раввин погладил мальчика по голове.
– Ты спас меня, спасибо тебе и твоим родителям за такого сына! Чем же мне тебя отблагодарить? Нет у меня ничего, я беден! – Он задумался. – А ну-ка погоди…
Во дворе цвел розовый куст, и на нем выделялась огромная белоснежная роза. Раввин сорвал ее и протянул Трасаки.
– Возьми эту розу, мальчик мой, в память о поступке, который ты совершил сегодня. Он столь же прекрасен, как эта роза!
В Страстную пятницу звон колоколов сделался еще печальнее. Христос покоился среди церкви на плащанице; в распахнутую дверь непрерывно входили люди с молитвами. Несколько женщин, став на колени, не отрывали глаз от тела, убранного фиалками, розами и цветами лимонного дерева. По щекам у них струились слезы, а сердце сжимала боль. Критянки оплакивали Иисуса как опору Мегалокастро, как родного сына, убитого турками.
Пришел помолиться и Барбаяннис. Наклонился, поцеловал окровавленные ноги, взял пучок святых трав, чтобы обкуривать себя, ежели какая хвороба пристанет. Потом пробормотал, качая головой:
– Будьте прокляты, палачи турецкие!
Во дворе Барбаяннис увидел Димитроса Пицоколоса, Каямбиса, Вендузоса и Параскеваса, цирюльника. Все они внимательно слушали бледного, обессиленного постом и бессонницей Мурдзуфлоса, а тот едва слышно им рассказывал, как вчера паша прислал митрополиту зайца в подарок, чем несказанно его рассердил. «Как, – говорит, – могу я принимать такие подарки, когда у нас Великий пост!» И отправил посыльного обратно.
– Зря он подарок возвратил, – сказал Параскевас. – Паше это обида!
– А зачем посылал? – возразил Каямбис. – Или не знает, собака, что у нас Страстная неделя? Разве владыке не обида его подарок?
– Да, плохи дела! – вздохнул Димитрос. – Как бы до драки не дошло. Против паши идти – все равно, что бить яйцом о камень.
Вендузос открыл было рот, чтобы высказать свое суждение, но тут к ним подлетел Барбаяннис.
– Слыхали, братцы, печальную весть? – голосил он. – Капитана Манолиса убили!
Все вздрогнули.
– Какого Манолиса?
– Да Христа, Христа турки убили! – ответил Барбаяннис и разразился слезами.
Вендузос и Каямбис растерянно переглянулись. А ведь и правда, Христос тоже капитаном был, как Коракас, или Эляс, или Даскалояннис[49]49
Даскалояннис (Влахос), Иоаннис – критский военачальник, в 1768 г. присоединился к повстанцам материковой Греции.
[Закрыть]. Он тоже боролся за свободу и носил сапоги, широкие шаровары и черный критский платок на голове.
В это мгновение собеседники увидели митрополита. Сгорбившись, словно неся на спине тяжелый крест, он медленно спускался по лестнице своей резиденции.
Все расступились перед ним. Бледное лицо застыло как маска, и только белоснежная борода развевалась на ветру.
– Что это с ним? – шепотом спросил Параскевас. – Ведь он всегда такой приветливый. А губы-то, губы… точно он яду напился!
– Где тебе понять? – отозвался Вендузос. – Ты же нездешний… На Голгофу идет, ясно?
Митрополит в траурном облачении медленно вступил в церковь. Душа его и впрямь ожесточилась за эти дни: обычно спокойные глаза горели ненавистью, которая с новой силой вспыхивала в нем каждый год и, видно, никогда не иссякнет. И как только сердце его до сих пор не разорвалось при виде Крита, вечно распятого, в вечном терновом венце!
Возглавляя Крестный ход, митрополит в который раз думал: доколе же это будет продолжаться? Доколе низами, эти сытые свиньи, будут с оружием следовать за плащаницей? Неужто никогда не настанет и для Крита Светлое воскресение?..
Певчие и хор мальчиков затянули надгробное песнопение; женщины плакали, мужчины молча несли зажженные свечи, а митрополит все думал, постукивая посохом по брусчатке: Христос – Бог, поэтому и воскресает, а Крит – всего лишь земля и люди…
Крестный ход остановился на площади. Митрополит поднял правую руку, осеняя благословением ворота крепости с четырех сторон света. Следующая остановка была у Трех арок, откуда открывался вид на сверкающее в лунном свете море.
В Мескинье прокаженные устроили свой Крестный ход. На ложе из лимонных и лавровых ветвей водрузили своего Христа, которого в давние времена нарисовал один монах, заболевший проказой. Пальцы, нос, губы у этого Христа были покрыты гнойными язвами. Тогдашний митрополит разгневался, призвал к себе богомаза.
– Да как ты посмел, хулитель, нарисовать Христа прокаженным?! Гореть тебе за это в геенне огненной!
– А разве не сказано в Писании, владыко, что Христос принимал на себя людские недуги? – прошепелявил монах, уже лишившийся губ.
Когда увидели прокаженные издалека процессию своих здоровых собратьев, то в знак приветствия подняли повыше зажженные факелы…
Капитан Михалис в Крестном ходе не участвовал и даже в церковь не заходил. Нет, он не был безбожником, а вот попов ненавидел, потому обычно дожидался, когда храм опустеет, и уж тогда ставил свою свечку. Но причаститься в страстной четверг все же не забывал: придет, покрестится, раскроет рот, чтобы принять тело Христово и кровь, отчего внутри разливается блаженное тепло. Но в этом году, впервые в жизни, вместо того чтоб идти с утра в церковь, вскочил на лошадь и помчался в поле. Доехал до хутора Нури-бея, но повернул вспять и направился к морю – напиться соленого воздуха. Пока сидит во мне этот бес, твердил он себе, никак нельзя причащаться.
Нет в году дня более длинного и тягостного, чем страстная суббота. Время словно останавливается, а то и вовсе движется назад. Ждешь, ждешь вечера, а он все никак не наступает. Изголодавшиеся православные едва сознание не теряли, проходя мимо пекарен, откуда неслись вкусные запахи. Хозяйки начищали до блеска весь дом и двор. Сердца и помыслы людей тоже как бы очищались в ожидании праздника. Вот скоро зайдет солнце, и голубая ночь набросит на землю свое покрывало, а завтра все огласится радостным «Христос воскрес!»
Жена Красойоргиса то и дело прикладывала к глазам ладонь и смотрела на солнце.
– Да что ж это такое! Стоит, проклятое, на месте! – бормотала она, чувствуя головокружение от запаха жарящейся в печи курицы и бурека[50]50
Небольшой слоеный пирог с начинкой (тур.).
[Закрыть], который только что принес ее сын Андрикос из булочной Тулупанаса.
Кира Пенелопа покрасила яички еще в четверг – на славу получились – и теперь орудовала в кухне, готовя на разговенье суп из овечьих потрохов. Кир Димитрос, вздрагивая от ее командирских окриков, бегал туда-сюда с подносами и противнями.
– Пошевеливайся, Димитрос! Нынче ночью воскреснет Христос, так что придется тебе потрудиться, голубчик! Ты меня понял? Зря, что ли, я припасла столько мяса и бурека!
Всевышний услышал, наконец, людские мольбы: солнце закатилось, и на Мегалокастро опустился благословенный вечер. Женщины бросились наряжаться. Вендузос тоже приготовилась и, сидя во дворе, ждала брата, чтобы вдвоем с ним пойти в церковь. Ведь это их последняя Пасха: на будущий год с ними станет праздновать и Сиезасыр.
Близилась полночь. Православные высыпали на улицу. Скоро Мурдзуфлос ударит в колокола. Христос уже шевелится в гробу и вот-вот сбросит могильную плиту.
Только двое в эту святую ночь сбились с праведного пути, забыли о Боге. Один обнимал черкешенку, а другой курил на постели цигарку за цигаркой, а мыслями был возле зеленой калитки.
Один наслаждался любовью, другой сходил с ума от злости, в то время как все благочестивые сограждане толпились в церковном дворе со свечами в руках и глядели на митрополита, который восходил на богато украшенный помост под цветущим лимонным деревом и раскрывал тяжелое, в серебряном окладе Евангелие. Свежий ночной ветерок овевал лица, озаренные особым светом, предвестником чуда. И когда грянуло «Христос воскресе из мертвых!» и запылали свечи, людям показалось, будто и они воскресли вместе с Христом. Капитаны принялись разряжать в воздух серебряные пистолеты, а ошалевший Мурдзуфлос звонил во все колокола, как бы сообщая порабощенному турками народу, что свобода превыше смерти, что капитан Манолис жив и никогда не умрет, что Крит вновь станет свободным!
Воскрес Христос, и гнев митрополита улегся. На рассвете он, по обычаю, послал с дьяконом в подарок паше поднос пахлавы, корзину крашеных яиц и пасхальных куличей.
Дома, лавки, переулки, мостовые Мегалокастро сияли под лучами обновленного солнца, весь город жил единым дыханием довольного, счастливого человека, осененного Божьим благословением.
Барбаяннис нацепил саблю, жестяной орден и вольготно прогуливался по улицам: нынче у него был день отдыха. Турки и христиане, покатываясь со смеху, кланялись ему, а он гордо, ровно паша, отвечал на приветствия. Чтоб казаться важным господином, Барбаяннис нанял одного крестьянина из деревеньки Бигази, вымазал ему рожу, и тот следовал за ним, как арап.
Коротышка Харилаос разъезжал в коляске, нанося визиты. Он надел недавно привезенную из Афин соломенную шляпу и молодецки подкрутил усы. Опершись подбородком на трость с набалдашником в форме львиной головы, Харилаос бросал на людей косые взгляды, опасаясь насмешек по поводу его малого роста.
Под вечер празднично разодетые христиане двинулись со всех концов города к Трем аркам. Под ветром трепетали шелковые ленты в волосах у девушек. На севере искрилось розовое море, на юге зеленели поля, сверкали черным серебром оливы, и над всей этой красотой нависало ласковое сиреневое небо. Внезапно улыбкой воскресшего Христа в нем зажглась первая вечерняя звездочка.
Капитан Поликсингис словно двадцать лет сбросил. Заткнув за ухо красную розу из сада Эмине, вышел он на третий день Пасхи из Ханиотских ворот. От него за версту разило мускусом. Сегодня утром, увидев, как он складывает в корзину бутылки и закуски, сестра улыбнулась.
– На пирушку собрался, Йоргакис?
– Время не ждет, сестра! – рассмеялся Поликсингис. – Харон ведь никого не помилует!
За Ханиотскими воротами, под белой от пыли мушмулой, его поджидали два приятеля – хромой капитан Стефанис и еще один, бледный, голубоглазый, с печальным лицом, огненно-рыжей бородкой, одетый по-европейски.
– Привет, братцы! Христос воскрес! – воскликнул капитан Поликсингис. – Капитан Стефанис, рад тебя видеть! А ты, мудрейший Идоменеас, все над своими бумажками корпишь? Нет чтоб выйти на улицу. День-то какой, воистину праздник! Ну, пошли!
– Ты прислал мне с капитаном Стефанисом записку… – начал Идоменеас.
– Потом, потом! Шевелитесь!
Солнце поднялось высоко: дело к полудню. Они вышли на крепостной вал. Справа от них сердито рокотало море, слева молоденький ослик катался в зеленой траве и широко разевал пасть, будто смеялся. Капитан Поликсингис поглядел на него и тоже расхохотался.
– Чему смеешься, капитан?
– Вспомнил, братцы, школьные годы. Однажды спросил меня покойный учитель Патеропулос: «Поликсингис, что есть осел?» «Подросший заяц, учитель!» – ответил я. А ну посмотрите на него, разве не прав я был?
Посмеялись приятели и двинулись дальше. Капитан Стефанис хромал, опираясь на кривую клюку, а Поликсингис заботливо поддерживал под руку кира Идоменеаса: ведь этот грамотей не привык ходить по камням, то и дело спотыкается.
– Держись, кум, уже недолго осталось!
– С какой это стати «кум»? – удивился Стефанис.
– Послезавтра венчается моя племянница Вангельо. А Сиезасыр с Идоменеасом сердечные друзья: оба зарылись в бумаги, как мыши в сыр… Дай Бог погулять и на твоей свадьбе, кир Идоменеас!
Но тот неодобрительно покачал головой. Был он выходец из древнего рода, отец его неподалеку от дома соорудил источник для всех, кто пожелает воды напиться, и дал этому источнику имя сына. А в окошке, что выходило на улицу, поставил большие часы, чтобы прохожие могли видеть, который час. И если самому нужно было узнать время, выбегал на улицу и смотрел. Сыну своему он нанимал разных учителей, чтоб учили его иностранным языкам. Даже раввин давал Идоменеасу уроки иврита.
– Придет время, – с гордостью говорил старик друзьям, – и мой сын принесет освобождение Криту. Помяните мое слово, наш остров завоюет свободу не оружием, а разумом!
Отец умер, сын вырос. Голова у него была набита всевозможными науками. Говорят, у него семь языков, судачили соседки, им страсть как любопытно было заглянуть ему в рот, чтобы увидеть, как все семь там умещаются. Но Идоменеас рта почти не раскрывал и вообще редко показывался на людях. Все дни сидел в своей пришедшей в упадок усадьбе над книгами, что-то писал, иногда надолго впадал в задумчивость, покусывая ручку. Так мелкими буквами исписал он очень много бумаги. Время от времени складывал эти листы вчетверо, засовывал в конверт и ставил отцовскую печатку с изображением богини Афины в шлеме и отдавал старой няньке Доксанье, чтоб отнесла на почту. Это были страстные послания русскому царю, в которых говорилось о страданиях Крита, тексты народных песен о русоволосых московитах и просьбы во имя православной веры послать к берегам Крита эскадру и освободить остров. Писал Идоменеас и президенту Французской республики, клеймил позором родину прав человека, просветительницу, освободившую Новый свет своей Великой революцией, а ныне равнодушно взирающую на порабощенный Крит. Еще писал Идоменеас английской королеве Виктории, призывая ее направить флот, а уж он, Идоменеас, похлопочет, чтобы критский порт Суда был отдан Великобритании. Этот знаменитый порт стал причиной многих бед: все великие державы облизывались на него и, чтобы он не достался никому из них, оставили Крит в лапах султана. Если б не этот проклятый порт, Крит давно бы уже был греческим.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































