Читать книгу "Невероятные похождения Алексиса Зорбаса"
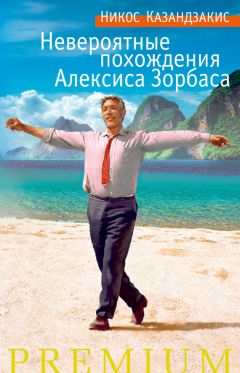
Автор книги: Никос Казандзакис
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
V
– Если вам будет угодно, соблаговолите пожаловать к дядюшке Анагностису, сельскому старосте, на угощение. Сегодня в село придет «чистильщик» оскоплять кабанов, и госпожа Анагностена[28]28
Анагностена – женская форма фамилии от мужской формы Анагностис.
[Закрыть] поджарит для вас срамные части. Заодно и внучонка их Мину поздравите: у него сегодня именины.
Как приятно зайти в сельский критский дом! Все здесь патриархально и вечно: очаг, висящая у очага лампа, глиняные кадки с маслом и зерном, а слева от входа, на полке в нише, – кувшин со свежей водой, закрытый пробкой из сухого стебля. С балок свисают вязанки айвы, гранатов и пахучих трав – шалфея, мяты, розмарина, чабра. В глубине комнаты несколько ступенек ведут на помост, где стоит кровать на высоком остове, а над ней – святые образа с зажженной лампадкой. Дом кажется пустым, и в то же время здесь есть все, что нужно: человеку, ведущему правильный образ жизни, требуется совсем немного вещей.
День выдался на славу. Светило необычайно ласковое, нежное зимнее солнце. Мы сидели в садике у дома под обильным плодами масличным деревом. Сквозь серебристую листву ярко сияло вдали спокойное море. Легкие облака проплывали у нас над головой, то закрывая, то вновь являя солнце, отчего казалось, будто мир вздыхает то радостно, то грустно.
На другом краю двора у невысокой стены оглушительно визжал от боли кастрированный кабан, а от очага доносился запах его срамных частей, которые готовили на жаровне.
Мы говорили о вечных вещах – о посеве, о винограде, о дожде. Приходилось кричать, потому что старик плохо слышал: ухо у него было «с гордыней». Речь дядюшки Анагностиса была приятной, а жизнь спокойной, как у дерева в защищенной от ветров балке. Он родился, вырос, женился, и у него родились дети, а потом и внуки. Некоторых из них уже не было в живых, но другие оставались, и род его продолжался.
Старый критянин вспоминал былое – годы турецкой неволи, рассказывал слышанное от своего отца, говорил о чудесах, которые совершались в те времена, потому что люди были тогда богобоязненными и верили.
– И я, дядя Анагностис – вот этот самый, что перед вами, родился благодаря чуду. Да, да, благодаря чуду! Расскажу сейчас, как это было, и будете вы изумляться и говорить: «Господи помилуй!» – да еще пойдете в монастырь Богородицы поставить свечку.
Он перекрестился и неторопливым, ласковым голосом принялся рассказывать:
– Жила-была в те времена в нашем селе богатая турчанка – чтоб ей в огне гореть! Вот забеременела она, проклятая, и пришел ей срок родить. Положили ее на лежанку, а она все знай мычит три дня напролет, как телка. Дитя никак не хочет на свет появиться. Тут одна из ее подруг – чтоб ей в огне гореть! – и говорит: «А не позвать ли тебе, Дзаферена-ханум, и Мейре-мать?» «Мейре-мать» турки называют нашу Богородицу, будь она благословенна! «Ее мне звать? – промычала сука Дзаферена. – Ее?! Да лучше пусть я умру!» А боли у нее страшные были и никак не унимались. Прошли еще сутки, она все мычит, только родить не может. Что тут делать? Не стерпела турчанка боли и заголосила: «Мейре-мать! Мейре-мать!» Кричала она, кричала, но боли не проходили, дитя не появлялось. «Не слышит она, не понимает по-турецки. Позови по ее ромейскому имени», – говорит подруга. «Богородица ромейская! – завопила тогда сука. – Богородица ромейская!» Но и это не помогло, боли все усиливались. «Неправильно ты ее зовешь, – говорит подруга. – Неправильно, вот она и не приходит». И вот тогда эта сука, ненавистница рода христианского, видя, что дела ее плохи, заголосила: «Матерь Божья!» – и дитя тут же выскользнуло из утробы.
Это случилось в воскресенье. И надо же: в следующее воскресенье вот так же мучилась родами и моя мать. Мучилась бедняжка, страдала, стонала от боли и кричала: «Матерь Божья! Матерь Божья!», но избавления не было. Отец все сидел во дворе, ни есть ни пить не мог от кручины. На Богородицу он был в обиде: суке Дзаферене-ханум стоило только раз крикнуть, и та сразу же примчалась на помощь, а тут вот тебе… На четвертый день отец не выдержал, взял хворостину и пошел в монастырь Богородицы Убиенной, да будет она к нам милостива! Пришел он туда, вошел в церковь, даже крестного знамения не сотворив, запер за собой дверь и стал прямо перед иконой. «Что ж это ты, Матерь Божья? Ты что, не знаешь: жена моя Марулья, которая каждую субботу приносит тебе масло и ставит свечку, жена моя Марулья вот уже три дня и три ночи родами мучается, а ты что ж – ее не слышишь? Видать, оглохла ты совсем. Если б это была какая-нибудь сука Дзаферена, грязная потаскуха турецкая, ты бы тут примчалась на помощь. А как зашла речь о христианке, о жене моей Марулье, так ты оглохла и ничего не слышишь! Если б не была ты Матерью Божьей, показал бы я тебе этой вот хворостиной!»
Сказал он так и уже повернулся было, чтобы уйти. Но тут – велик ты, Господи! – в ту самую минуту икона заскрипела, будто дала трещину. Так скрипят иконы, запомните, если про то еще не слыхали, так скрипят иконы, когда творят чудо. Отец это понял, повернулся, покаялся, перекрестился и воскликнул: «Грешен я, Матерь Божья, грешен! Забудь о том, что было сказано!»
Не успел он в село вернуться, как ему уже сообщают радостную новость: «Поздравляем, Костантис! Жена твоя родила! Сына родила!» Это меня-то, который сейчас перед вами, – дядюшку Анагностиса. Да только от рождения у меня ухо немножко «с гордыней», потому что отец мой богохульствовал и назвал Богородицу глухой. «Ах так! – должно быть, сказала Богородица. – Ну что ж: пусть сын у тебя будет глухим, чтоб ты знал, как богохульствовать!»
Дядюшка Анагностис перекрестился и добавил:
– Это еще ничего, слава богу! А то ведь могла сделать меня хромым, или слабоумным, или горбатым, или – упаси боже! – девочкой. Это еще ничего, – слава тебе, Матерь Божья! – Он наполнил стаканы и поднял свой: – Помоги нам, Матерь Божья!
– За твое здоровье, дядюшка Анагностис! Живи сто лет, чтобы еще и правнуками нарадоваться!
Старик залпом осушил стакан и вытер усы.
– Нет, хватит с меня! Внуки у меня есть – хватит! Всего, что есть в мире, не возьмешь. Пришло мое время. Стар я уже, силы мои истощились. Не могу больше – хочу, но не могу оплодотворять женщин. На что мне тогда жизнь?
Он снова наполнил стаканы, вытащил из-за пояса несколько орехов и сушеных смокв с лавровым листом и угостил нас.
– Все, что у меня было, я раздал детям. Теперь пришла бедность. Пришла, но мне до нее нет дела. Все в руках Божьих!
– Все в руках Божьих, дядюшка Анагностис! – крикнул на ухо старику Зорбас. – Все в руках Божьих, да только не в наших: ничего он нам не дает, скупердяй!
Но тут староста нахмурился и строго сказал:
– Ты, кум, его, Бога, не тронь! Не тронь его: он ведь тоже, бедняга, от нас ожидает!
Между тем молчаливая и покорная госпожа Анагностена принесла глиняный горшок с жареными срамными частями кабана и большой медный кувшин с вином. Поставив все это на стол, она стала, скрестив руки на груди и опустив взгляд.
Закуска вызывала у меня отвращение, но отказываться было неудобно. Зорбас искоса глянул на меня, улыбнулся и убедительно сказал:
– Вкуснее мяса не бывает, хозяин. Не нужно брезговать!
Почтенный Анагностис захохотал:
– Он тебе правду говорит, сущую правду! Попробуй, и сам убедишься. Во рту тает! Когда принц Георгий – благослови его, Боже! – посетил наш монастырь, монахи приготовили царское угощение: всем остальным подали к столу мясо, а принцу – большую миску супа. Принц взял ложку, помешал и спрашивает удивленно: «Фасоль?» – «Кушай, принц, кушай! Потом скажем», – отвечает настоятель.
Принц попробовал ложку, потом еще одну, и так, пока миска не опустела. Облизался принц и спрашивает: «Что это за объедение?! Какая вкусная фасоль! Во рту тает!» – «Это, принц, не фасоль, – отвечает настоятель, а сам смеется. – Это не фасоль: мы для тебя всех петухов в округе оскопили!»
Старик засмеялся, надел на вилку кусок срамных частей кабана и сказал:
– Царская закуска! Открывай рот!
Я открыл рот, и старик сунул туда закуску. Затем он снова наполнил стаканы, мы выпили за здоровье его внука, и глаза у деда загорелись.
– Чего бы ты хотел для внука, дядюшка Анагностис? – спросил я. – Скажи, чего пожелать ему.
– А чего тут хотеть? Вот чего: чтоб он пошел по верному пути. Чтоб стал хорошим человеком, хорошим хозяином, чтоб женился и тоже произвел на свет детей и внуков и чтоб один из его сыновей был похож на меня. Чтобы старики смотрели на него и говорили: «Гляди, как он похож на старого Анагностиса! Да благословит Бог душу его: хороший был человек!»
– Анезиньо, – обратился старик к жене, даже не глянув на нее. – Налей еще кувшин вина, Анезиньо!
В эту минуту калитка в низкой изгороди распахнулась от сильного толчка, обалдевший от боли кабан ворвался с визгом во двор и стал носиться перед тремя мужчинами, которые за приятной беседой лакомились его срамными частями.
– Больно ему, бедняге… – участливо сказал Зорбас.
– Еще как больно! – отозвался старый критянин и засмеялся. – Если бы с тобой так поступили, тебе бы не больно было?
Зорбас встрепенулся и в ужасе пробормотал:
– Проглоти язык, тугоухий!
Кабан все носился туда-сюда, свирепо поглядывая на нас.
– Клянусь верой, он словно понимает, какой кусок его тела мы едим! – снова сказал почтенный Анагностис, уже слегка повеселев от вина.
А мы спокойно, словно каннибалы, лакомились с удовольствием отменной закуской, попивали темное вино и поглядывали сквозь серебристые ветви маслины на море, ставшее теперь, в лучах заката, розовым.
Когда уже вечером мы возвращались от сельского старосты, Зорбас тоже пришел в настроение. Ему захотелось поболтать, и он пустился в рассуждения:
– О чем мы говорили на днях? Просвещать, так сказать, народ, открывать ему, так сказать, глаза! Пожалуйста, открой глаза дядюшке Анагностису! Видел, как жена стоит перед ним по струнке, ожидая приказа? Попробуй-ка объяснить им, что у женщины такие же права, как у мужчины, и что это жестоко – есть кусок свинины, когда сама свинья, живая, визжит у тебя перед глазами, и что очень глупо радоваться, что все в руках Божьих, а ты хоть издохни с голоду! Какая польза непроходимо темному дядюшке Анагностису от твоих рекламных заявлений? Ему от этого одни неприятности. Или, может быть, госпоже Анагностене это поможет? Начнут ссориться, курица захочет стать петухом, и супруги начнут переворачивать все вверх дном и рвать друг на друге волосы… Лучше оставь людей в покое, хозяин, не пытайся открывать им глаза, а то они их еще и вправду откроют. И что ж тогда увидят? Одни только беды да напасти. Пусть лучше спят и видят сны.
Зорбас на минуту умолк и задумчиво почесал себе голову.
– Разве что, – произнес он наконец, – разве что…
– Что же? Ну-ка, послушаем!
– Разве что, когда они откроют глаза, ты сможешь показать им какой-нибудь лучший мир… Сможешь?
Я не знал. Я знал хорошо, чту будет разрушено, но чту будет построено на месте разрушенного, не знал. «Никто не может знать этого наверняка, – думалось мне. – Старое можно пощупать, оно осязаемо, мы им живем, ежеминутно борясь с ним, оно существует. Будущее еще не рождено, неосязаемо, текуче, сотворено из той же материи, что и сны. Оно – облако: стоит подуть сильному ветру – любви, фантазии, случаю, Богу, – и оно тут же рассеивается, сгущается, меняет свой вид… Только самый великий из пророков может бросить людям призыв, и чем неопределеннее этот призыв, тем больше он пророк.
Зорбас насмешливо смотрел на меня. Я разозлился и упрямо сказал:
– Смогу.
– Сможешь? Ну-ка, послушаем!
– Тебе я сказать не могу: ты не поймешь.
– Ну, тогда не сможешь! – сказал Зорбас, тряхнув головой. – Не думай, что я белены объелся, хозяин. Тебя обманули. Я хоть и необразованный, как дядюшка Анагностис, но не настолько глуп, нет! Если я не пойму, неужто поймет этот простофиля и госпожа корова, его сожительница, а вместе с ними – все Анагностисы и все Анезины во всем мире? Стало быть, они только новый мрак и увидят? Оставь уж лучше их при старом, к которому они привычны. До сих пор все у них гладко получается, разве ты не видишь? Знай себе поживают да добра наживают, плодятся, внуков на свет производят, Бог их делает хромыми да кривыми, а они знай вопят: «Слава тебе, Боже!» К собственному ничтожеству они хорошо приспособились. Оставь их лучше и молчи.
Я молчал. Мы проходили мимо сада вдовы. Зорбас задержался было, вздохнул, но не сказал ни слова. Где-то далеко прошел дождь, и в воздухе запахло свежестью и землей. Показались первые звезды. Нежно засиял молодой бледно-зеленый месяц. Небо наполнилось негою.
«Этот человек никогда не ходил в школу, поэтому и разум у него не испортился, – подумал я. – Он много чего повидал, сделал и перенес, стал мыслить широко и стал чувствовать широко, не утратив при этом первозданной добродетели. Все сложные и неразрешимые для нас вопросы он решает одним ударом меча, как и подобает земляку Александра Великого. Упасть ему трудно, потому что он целиком – и ногами, и головой – опирается о землю. Африканские дикари почитают змею, которая всем телом льнет к земле и потому ведает тайны ее. Тайны эти она чувствует и животом, и хвостом, и половыми органами, и головой. Она прикасается, принюхивается, становится одним целым с матерью. Так и Зорбас. А мы, мудрствующие, – глупые пташки воздушные».
Звезд на небе становилось все больше, и были они дикие, неприступные, суровые, чуждые какой бы то ни было жалости к людям.
Мы больше не говорили, а только со страхом взирали на небо, видя, как звезды все возрастают в числе, полыхая пожаром.
Мы подошли к бараку. Есть мне не хотелось, и я присел на скале у моря. Зорбас развел огонь, направился было ко мне, но передумал, устроился на своей постели и уснул.
Море стало густым и неподвижным. И земля тоже молчала, замирая под суровым звездным сиянием. Ни собачьего лая, ни крика ночной птицы – всюду глубокая тишина. Тишина коварная, опасная, сотворенная из тысяч воплей, столь далеких или пребывающих внутри нас столь глубоко, что их перестали слышать. Было слышно только стук крови в висках и удары жил на шее.
«Мелодия тигрицы!» – подумал я с ужасом.
В Индии с наступлением ночи заводят очень медленный, печальный и монотонный напев – тихую свирепую песню, напоминающую далекое рычание хищного зверя, – мелодию тигрицы. И сердце человеческое переполняет невыразимый ужас.
Когда я подумал о грозной мелодии, чувства стали мало-помалу переполнять грудь мою: пробуждался слух, тишина перевоплощалась в крик, и трепетала душа, тоже сотворенная той же мелодией, взволнованно выходя из тела, чтобы слушать.
Я нагнулся, зачерпнул из моря пригоршню воды и освежился, смочив лоб и виски. Внутри меня раздавались вопли – устрашающие, сдавленные, нетерпеливые. Внутри меня пребывала рычащая тигрица. И тут я вдруг ясно услышал голос: «Будда! Будда!» – и вскочил.
Я быстро шел по берегу моря, словно пытаясь убежать. Иногда, когда я остаюсь ночью в одиночестве и вокруг стоит глубокая тишина, я слышу его голос: поначалу он звучит печально и умоляюще, словно причитание, но затем мало-помалу становится суровее, бранит и приказывает. Он стучит мне в грудь, словно младенец, которому пришло время родиться.
Была полночь. На небе собрались черные облака, крупные капли упали мне на руки. Но мысли мои были далеко: я погрузился в огненную стихию, вокруг моего чела бушевали языки пламени.
«Пришел час, – подумал я с содроганием. – Буддистское колесо закружило меня, пришел час освободиться от пребывающего внутри меня Божественного бремени».
Я поспешно возвратился в барак, зажег светильник. Свет упал Зорбасу на лицо, и ресницы его вздрогнули. Он открыл глаза и увидел, что я сижу, склонившись над бумагой, и пишу. Зорбас что-то проворчал, но я не расслышал. Тогда он решительно повернулся к стене и снова погрузился в сон.
Я писал быстро, без передышки. Я спешил. «Будда» пребывал во мне, готовый полностью. Я видел, как он разворачивался из глубин моего тела, словно некая голубая лента, исписанная письменами. Разворачивался стремительно, а рука моя спешила, чтобы угнаться за ним. Я писал и писал. Все стало легко и очень просто: я не писал, а записывал. Все проходило передо мной, сотворенное из сострадания, отречения и воздуха: дворец Будды, женщины в гареме, золотая колесница, три грозные встречи – со стариком, с больным, с мертвым, уход, отшельничество, избавление, провозглашение спасения. Земля покрывалась желтыми цветами, нищие и цари одевались в желтые рясы, камень, дерево и плоть утрачивали собственную тяжесть. Души становились воздухом, становились духом, дух рассеивался. Пальцы мои устали, но останавливаться я не желал, не мог: видение проходило быстро, удалялось, нужно было успеть.
Утром Зорбас увидел, как я сплю, положив голову на рукопись.
VI
Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко. Правая рука онемела от писания, так что я даже не мог шевельнуть пальцами. Буддистская буря пронеслась, исчерпав и опустошив меня.
Я наклонился и собрал рассыпавшуюся по полу рукопись, не имея ни сил, ни желания просматривать ее. Все это могучее озарение было мечтой, и не хотелось видеть ее заключенной и униженной в словах.
В тот день приятно накрапывал легкий дождик. Перед уходом Зорбас зажег мангал, и я весь день напролет просидел, скрестив ноги и держа руки над огнем. Я сидел не двигаясь, не взяв ни крошки в рот, и все слушал тихий шум первого дождя.
Я ни о чем не думал. Мозг мой отдыхал, словно крот, зарывшийся в промокшую землю. Было слышно, как легко вздрагивает, гудит и трескается земля, падает дождь и разбухает зерно. Я чувствовал, как происходит совокупление земли с небом, как это было в прадавние времена, когда они соединялись, подобно мужчине и женщине, производя на свет детей. Я чувствовал, как передо мной рычит и облизывается море, словно зверь, который пьет, высунув язык.
Я был счастлив и знал это. Когда мы счастливы, то редко осознаем свое счастье. Только когда оно проходит, мы, оглянувшись назад, вдруг, иногда испытывая при этом потрясение, понимаем, как счастливы мы были. Но тогда, на берегах Крита, я был счастлив и в то же время знал, что счастлив.
Передо мной, до самых берегов Африки, простиралось беспредельное море. Время от времени дул очень сильный южный ветер – ливиец, долетавший от далеких раскаленных песков. Утром море пахло свежим арбузом, в полдень подергивалось дымкой, вспухало, покрываясь все крохотными, еще не созревшими сосками, а вечером стенало, обретая розовый, винный, фиолетовый и темно-голубой цвет.
Вечером я играл, набирая пригоршню мелкого светлого песка и пропуская его, теплый и мягкий, между пальцами. Пригоршня моя становилась клепсидрой[29]29
Клепсидра (досл. «похитительница воды») – водяные часы.
[Закрыть], через которую протекала и исчезала жизнь. Жизнь исчезала, а я смотрел на море, слушал Зорбаса, и в голове у меня звенело от счастья.
Помнится, однажды, когда мы с моей четырехлетней племянницей Алкой разглядывали накануне Нового года витрину с игрушками, девочка глянула на меня и сказала: «Дядя Дракон (так она называла меня), дядя Дракон, я так рада, что у меня даже рожки выросли!» Я вздрогнул. Какое чудо эта жизнь! Как соединяются друг с другом, становясь единым целым, все души людские, когда они достигают глубинных корней своих! Тогда мне вдруг сразу же вспомнилась вырезанная из блестящего эбенового дерева маска Будды, которую я видел в музее далеко на чужбине. Будда обрел спасение, и высочайшая радость объяла его после семилетней мучительной тревоги. Жилы по обе стороны моего чела разбухли от радости так сильно, что вырвались из-под кожи, став парой закрученных, как стальные пружины, налитых силой рогов.
К вечеру дождик прошел, небо прояснилось. Я был голоден и радовался, что голоден, потому что Зорбас должен был прийти, развести огонь и приступить к повседневному ритуалу приготовления пищи и беседы.
– Еще одна нескончаемая история! – нередко говаривал Зорбас, ставя на огонь горшок. – Не только с женщинами – будь они благословенны! – но и с едой тоже невозможно покончить!
Тогда, на этих берегах, я впервые познал радость вкушения пищи. Когда вечером Зорбас разводил между двух камней огонь, стряпал, а затем мы ели, пили и заводили разговор, я чувствовал, что еда тоже душевное священнодействие и что мясо, хлеб и вино – первоэлементы, из которых возникает дух.
Вечером, после трудового дня и еще до утоления голода и жажды, Зорбас не имел настроения, разговаривал неохотно, с трудом выдавливая из себя слова, а движения его были усталыми и неуклюжими. Но стоило ему, как он выражался, «подбросить угля в машину», весь занемевший и расстроенный механизм его тела оживал, получал заряд и начинал работать. В глазах загорался огонь, воспоминания выплескивались наружу, а ноги сами собой пускались в пляс.
– Скажи мне, во что ты превращаешь съеденную пищу, и я скажу, кто ты, – сказал как-то Зорбас. – Одни превращают ее в жир и навоз, другие – в работу и хорошее настроение, а есть такие, что, как я слышал, превращают ее даже в Бога. Стало быть, люди бывают трех родов: я, хозяин, и не из худших, и не из лучших, я – из тех, что где-то посредине. Съеденную пищу я превращаю в работу и хорошее настроение. Ну и то хорошо!
Он лукаво глянул на меня и засмеялся.
– Ты, хозяин, сдается мне, пытаешься превратить съеденную пищу в Бога, но это у тебя не получается, и поэтому ты мучаешься. С тобой произошло то же, что с петухом.
– А что произошло с петухом?
– Говорят, поначалу он ходил честь по чести, по всем правилам, как ворон, но в один прекрасный день захотелось ему расхаживать гордо, как куропатка. С тех пор бедняга позабыл собственную походку и теперь, как сам видишь, передвигается хромая.
Я поднял голову. Послышались шаги Зорбаса, спускавшегося с рудника. Вскоре появился и сам он – с осунувшимся лицом, хмурый. Ручищи его неуклюже болтались.
– Добрый вечер, хозяин! – пробормотал он, едва приоткрыв рот.
– Здравствуй. Как работалось, Зорбас?
Он не ответил.
– Разведу лучше огонь, приготовлю что-нибудь.
Зорбас взял из угла охапку дров, вышел во двор, умело разложил дрова между двух камней и развел огонь. Затем он поставил глиняный горшок, налил туда воды, бросил луку, помидор, рису и принялся стряпать. Тем временем я расстелил на низком круглом столике полотенце, нарезал крупными ломтями пшеничного хлеба и налил из бутыли вина в разукрашенную тыкву, которую подарил нам в первые дни дядюшка Анагностис.
Зорбас, стоя на коленях перед горшком, молча, не отрываясь смотрел на огонь.
– Дети у тебя есть, Зорбас? – вдруг спросил я.
Он повернулся ко мне:
– Почему ты спрашиваешь? Есть, дочь.
– Замужем?
Зорбас засмеялся.
– Почему ты смеешься, Зорбас?
– Разве про это нужно спрашивать, хозяин? Она что, настолько глупая, чтобы замуж не выйти? Работал я на медном руднике в Правите на Халкидике. В один прекрасный день получаю письмо от брата Янниса. Да, забыл сказать, что есть у меня брат – хозяин, благоразумный, набожный, ростовщик, лицемер, порядочный человек, столп общества. Лавку в Салониках держит. «Брат Алексис, – пишет он, – дочь твоя Фросо стала на дурной путь, опозорила честное имя нашей семьи – завела себе любовника и родила от него ребенка. Пропала наша честь! Поеду в село и зарежу ее».
– А ты как же, Зорбас?
Зорбас пожал плечами:
– Я сказал: «Тьфу, женщины!» – и разорвал письмо в клочья.
Он помешал стряпню, добавил соли и засмеялся.
– Но вот что самое смешное. Месяц спустя получаю я от брата-недотепы второе письмо. «Здравствуй, дорогой и любезный брат Алексис! – пишет болван. – Она восстановила нашу честь, и теперь ты можешь ходить с высоко поднятой головой: любовник обвенчался с Фросо!»
Зорбас посмотрел на меня, и при свете сигареты было видно, как сияют его глаза. Он снова пожал плечами и с неописуемым презрением сказал:
– Тьфу, мужчины! – И, немного помолчав, добавил: – От женщин чего ждать? Знай рожают детей от кого попало. От мужчин чего ждать? Знай попадают в западню. Добавь душицы, хозяин!
Он снял горшок с огня, мы уселись, скрестив ноги, и принялись за еду.
Зорбас погрузился в глубокое раздумье. Какой-то червь точил его. Он глянул на меня, открыл было рот и снова закрыл. В свете светильника я ясно разглядел в его глазах печаль и беспокойство.
Я не сдержался и спросил:
– Ты чего-то не договариваешь, Зорбас. Говори! Скажи, и сразу полегчает!
Зорбас молчал. Затем поднял камушек и швырнул его в открытую дверь.
– Оставь камни в покое. Говори!
Зорбас вытянул морщинистую шею и, вперив в меня взгляд, взволнованно спросил:
– Ты мне веришь, хозяин?
– Верю, Зорбас, – ответил я. – Что бы ты ни сделал, ошибки не будет. Если бы ты даже сам того захотел, ошибки все равно не будет. Ты – как лев или волк: эти звери никогда не ведут себя как овцы или ослы, никогда не идут супротив собственной природы. Так и ты: ты – Зорбас с головы до пят.
Зорбас тряхнул головой:
– Но я уже сам не знаю, куда нас черт несет!
– Зато я знаю. Не бойся: шагай вперед!
– Скажи-ка это еще раз, хозяин. От этого я буду чувствовать себя уверенней! – воскликнул Зорбас.
– Вперед!
Глаза у Зорбаса блеснули.
– Ну, тогда расскажу тебе! Вот уже несколько дней я вынашиваю в мыслях грандиозный план, безумную идею. Осуществим ее?
– Ты еще спрашиваешь? Для того мы и приехали сюда: осуществлять идеи.
Вытянув шею, Зорбас смотрел на меня с радостью и страхом.
– Скажи правду, хозяин! – закричал он. – Разве мы не ради угля приехали?
– Уголь – только предлог. Чтобы людей не будоражить. Пусть люди думают, будто мы серьезные предприниматели, а то, глядишь, выжатыми лимонами забросают. Понятно, Зорбас?
Зорбас так и застыл с разинутым ртом. Он пытался понять и не решался поверить такому счастью. И вдруг смысл сказанного дошел до него, он бросился ко мне, схватил за плечо и спросил с надеждой:
– Ты танцевать умеешь? Умеешь?
– Нет.
– Нет?!
От неожиданности руки у Зорбаса опустились.
– Хорошо, – сказал он, чуть помолчав. – Тогда танцевать буду я, хозяин. Стань-ка чуть поодаль, чтобы я тебя не задел ненароком. Эх! Эх!
Зорбас прыгнул, вылетел из барака, сбросил с себя туфли, пиджак, жилет, закатил брюки до колен и пустился в пляс. Лицо его, все еще испачканное углем, было совершенно темным, а глаза сверкали белым огнем.
Зорбас пустился в пляс, хлопал в ладоши, прыгал, крутился в воздухе, падал на колени и снова легко приседал, будто был из резины. Затем он вдруг снова взмывал высоко в воздух, словно упорно пытаясь преодолеть великие законы природы и, распахнув крылья, улететь прочь. Внутри этого изъеденного, задубевшего тела душа пыталась увлечь за собой плоть и, подобно летящей звезде, устремиться вместе с ней в темноту. Душа увлекала тело ввысь, но тело падало, не в силах удержаться в воздухе, душа снова безжалостно поднимала его, еще выше, но злополучное тело снова падало вниз, выбившись из сил.
Зорбас нахмурился, лицо его стало пугающе серьезным. Он уже не кричал, но, стиснув зубы, пытался достичь невозможного.
– Довольно, Зорбас! Довольно! – воскликнул я, испугавшись, как бы старое тело, не выдержав чрезмерного напряжения, не рассыпалось в воздухе.
Я кричал, но разве Зорбас мог слышать призыв земли? Тело его уподобилось птице.
Я наблюдал за дикой, отчаянной пляской уже с испугом. В детстве, когда воображение мое работало безудержно, я рассказывал друзьям всякие небылицы и сам верил в них.
– Как умер твой дед? – спросили меня однажды одноклассники, когда я ходил еще в первый класс начальной школы.
И я тут же создал легенду. Я говорил, одновременно создавая ее, а создавая – сам же в нее верил.
– Дед мой носил резиновые туфли. Однажды, когда у него была уже седая борода, он прыгнул с крыши нашего дома, но едва коснулся земли, тут же отскочил от нее, словно мяч, взлетел выше дома, а затем стал подниматься все выше и выше, пока не исчез в облаках. Так вот умер мой дед.
После создания этой легенды, приходя в крохотную церквушку Святого Мины и видя внизу на иконостасе Воскресение Христово, я всякий раз указывал на Христа рукой и говорил одноклассникам:
– Это мой дед в резиновых туфлях!
И вот в тот вечер, столько лет спустя, видя, как Зорбас отрывается от земли, я вновь с ужасом пережил свою собственную детскую сказку, испугавшись, что Зорбас может исчезнуть в облаках.
– Довольно, Зорбас! Довольно! – закричал я.
Запыхавшись, Зорбас присел на землю. Лицо его сияло от счастья, седые волосы прилипли ко лбу, пот струился по испачканным углем щекам и подбородку.
Я встревоженно наклонился к нему.
– Теперь мне полегчало, – сказал он после некоторого молчания. – Будто кровь пустили. Теперь я могу говорить.
Он вошел в барак, уселся у мангала, и лицо его засияло.
– Что это на тебя нашло? Отчего ты вдруг пустился в пляс?
– А как же иначе, хозяин? Стало невмоготу от чрезмерной радости, нужно было разрядиться. А в чем разрядка для человека? В словах? Х-хэ…
– От какой еще радости?
Зорбас взволнованно глянул на меня. Губы его дрогнули.
– От какой радости? Разве то, что ты сказал только что, сказано так вдруг, слова ради? Разве ты сам того не понимаешь? Стало быть, мы сюда не ради угля приехали… Дай-ка в себя прийти! Мы, стало быть, приехали сюда убивать время да пыль людям в глаза пускать, чтобы нас не сочли умалишенными и не забросали выжатыми лимонами. А когда мы останемся вдвоем и никто нас не увидит, будем животы надрывать со смеху! Вот этого, честное слово, мне и хотелось, но я и сам того хорошенько не осознавал. То об угле думал, то о госпоже Бубулине, то о тебе… Шиворот-навыворот. Когда я прокладывал галереи, то говорил себе: «Я уголь ищу! Уголь! Уголь!» И весь без остатка превращался в уголь. Когда я отдыхал и развлекался со старой тюленихой – будь она неладна! – мне казалось, что весь лигнит и все хозяева висят на ленточке у нее вокруг шеи. И самого Зорбаса я тоже по ошибке туда же вешал. А оставшись наедине с собой, когда работы не было, я думал о тебе, хозяин, и сердце у меня разрывалось. И вот какие мысли приходили мне на ум, ложась камнем на душу: «И не стыдно тебе, Зорбас?! И не стыдно тебе обманывать этого доброго человека, проматывая его деньги?! До каких пор ты будешь подлецом, Зорбас? Довольно!» Я, хозяин, был в полной растерянности: дьявол тащил меня в одну сторону, Бог – в другую, а вместе они разрывали меня надвое. Но теперь – спасибо тебе, хозяин! – ты произнес великие слова, и все стало ясно. Я все понял и во всем разобрался! Теперь мы друг друга понимаем. Теперь – огонь изо всех орудий! Сколько у тебя еще денег осталось? Брось их, пропади они пропадом!
Зорбас утер пот со лба, огляделся вокруг. На столике еще оставались остатки ужина. Зорбас протянул к ним свою ручищу и сказал:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































