Читать книгу "Книга снов"
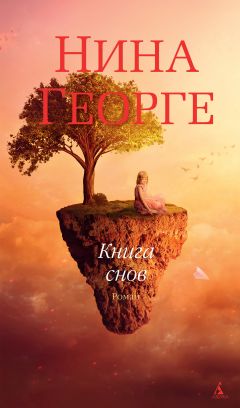
Автор книги: Нина Георге
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мы еще не успели дойти до сестринской, как сестра Марион зашипела на меня:
– Сэмюэль Валентинер, если ты думаешь, что здесь можно пережить кое-что волнующее, время от времени навещая девочку в коме, может быть даже делая тайком фотки, чтобы похваляться в школе перед дружками, пока тебе не наскучит, то тебе нельзя возвращаться сюда никогда, я повторяю – никогда. Все ясно?
Я молча киваю и чувствую, как мои щеки снова заполыхали.
– Вот и хорошо. Я рада. А то в последние годы это доходило не до всех, кто поднимался к нам на пятый прогуляться по «овощным» палатам. Если тебе все ясно, то мне не придется беседовать с твоим отцом и указывать ему на то, что сынок потешается над беспомощными детьми и…
– Мой отец лежит на втором этаже, так что далеко идти вам не придется.
Марион делает глубокий выдох, ненадолго прикрывает глаза, будто приходя в себя. Ее гнев растворяется, как шипучая таблетка.
– Извини, Сэмюэль. Мне очень, очень жаль.
Она смотрит на меня, и в ее голубых глазах теплота. Но и многочисленные вопросы.
– Мы тут не сдаемся так просто, Сэм, – произносит она серьезно.
– Так можно мне снова прийти? – спрашиваю я, прежде чем она продолжит разговор о моем отце, ведь для меня это как прогулка босиком по битому стеклу. – У родителей Мэдди я тоже спрошу разрешения.
Марион потирает переносицу.
– Ах, милый, – отвечает она устало, – если бы все было так просто. – Она снова глубоко вздыхает. – Мэдлин особенная.
– Знаю, – говорю я.
– Нет, не знаешь. Ты ничего не знаешь, Джон Сноу[15]15
Отсылка к фразе «You know nothing, Jon Snow» из серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина и снятого на ее основе сериала «Игра престолов».
[Закрыть]. – Марион улыбается и открывает книгу, в которой до этого делала свои записи. Она протягивает мне газетную вырезку. Потом продолжает: – Мэдлин Зайдлер, одиннадцать лет. С семи танцует в оксфордской балетной труппе Элизабет Паркер, у нее шестнадцать призов и стипендия в Королевской академии балета в Лондоне. Она танцевала для двух видеоклипов французской певицы Заз, которые набрали миллион просмотров на YouTube. Она может делать кувырок назад, прогнувшись, и задерживать дыхание под водой на две минуты. Но…
Про «но» я читаю в статье.
Во время семейного отпуска в Корнуолле семь месяцев назад машина Зайдлеров выехала на встречную полосу из-за лопнувшего колеса и столкнулась с грузовиком, перевозившим четырех скаковых лошадей. Три лошади и почти все пассажиры погибли. Мать Мэдди Пэм, отец Мэдди Ник, брат Мэдди Себастьян, бабушка Мэдди Катерина, тетя Мэдди Соня и дядя Мэдди Найджел.
Все, кроме Мэдди и кобылы по имени Драматика.
«Вся семья погибла – выжила только Мэдди», – гласит заголовок.
– У Мэдлин совершенно никого нет, Сэмюэль. Не нашлось ни одного родственника. Нет даже крестного, кузины или какой-нибудь незамужней богатой крикливой тетушки с огромными сережками. Государство Великобритания стало опекуном Мэдди.
«Королева, значит», – думаю я, потому что все остальные мысли причиняют боль.
– Поначалу к Мэдди приходила ее старая учительница танцев, Элизабет Паркер, она два-три раза приезжала из Оксфорда, показала Лиз и другим физиотерапевтам нашей больницы, какие движения могут поддержать физическое состояние Мэдди. Она смотрела с нами видео с участием Мэдди, мы записали, что Мэдди любит, а что – нет. – Сестра Марион подняла книгу. – А потом… Потом миссис Паркер упала на незакрепленной тротуарной плите, сломала бедро, и теперь не приходит никто.
– И королева тоже, – бормочу я. Сестра Марион измученно смотрит на меня.
– Через двадцать дней у Мэдлин день рождения. Ей исполнится двенадцать. Это ее первый день рождения без семьи, вне дома, с чужими людьми.
Голос сестры Марион дрожит, в нем столько сострадания. Он как большой слиток теплого солнечного золота. Очень редкий цвет.
– Понимаешь, Сэм? У нее никого нет. И если ты с ней подружишься, то…
– То буду за нее в ответе.
Голубые глаза Марион блестят.
– Да, – говорит она. – Именно так, Сэмюэль. Справишься ты? Хочешь этого? Ты действительно хочешь взять на себя ответственность за того, кого не знаешь?
Об этом Бог спрашивал недавно Эдди.
Только сейчас я понимаю, что она должна была чувствовать. Кажется, будто воздух стал тяжелым и все, что еще недавно было важным, потеряло всякое значение.
Пять минут спустя я стою у койки С7. Не знаю ни как, ни почему я сюда пришел, ни даже того, что мне нужно от отца. Наверное, рассказать ему о Мэдди. Об Эдди. Обо всем. О том, что я ничего не знаю, что я – как Джон Сноу.
«Валентинер, он в коме. Пойми уже это!» – слышу я голос Скотта в своей голове.
Но с кем еще мне об этом говорить?
Мне на ум не приходит ни один человек, с кем я мог бы обсудить тот факт, что не хочу оставлять в одиночестве незнакомую девочку, лежащую в конце коридора.
Ни один, кроме него.
И еще… Эдди. Она хорошо разбирается в теме столкновения реальностей, reality crash.
Но если я расскажу ей историю Мэдди, то вынужден буду сказать и о своей маме, и обо всем остальном, поэтому… поэтому я здесь, надел шуршащий халат, натянул дурацкую маску, в которой звучу как Дарт Вейдер, страдающий насморком. Все потому, что отец посмотрел на меня и в его глазах было нечто меня зацепившее, что уже никогда меня не отпустит.
Сейчас выражение его лица нейтральное. Его морщинки больше ни о чем не говорят. Ни следа смеха, боли, мысли.
И тело его уже давно стало покинутым домом. Наклонившимся. С налетом заброшенности.
Я ищу его. Только что, у Мэдди, я кое-что отыскал, хотя и очень далекое. Одиночество. Ожидание.
Я вспоминаю круги Бога. Мой отец на краю жизни. Я пытаюсь его найти.
– Привет, папа, – говорю я тихо.
Когда люди больны, очень-очень больны, забывается, какие они на самом деле. У нас в классе был мальчик Тимоти, у него нашли какой-то редкий вид рака, и через год он умер. И каждый, кто его вспоминал, говорил только о том, каким мальчик был храбрым, как будто болезнь – это работа на полную ставку. Никто не говорил о том, что Тимоти, помимо всего прочего, лучше всех умел прыгать бомбочкой или что он однажды смог снять с дерева испуганного котенка.
И вот я пытаюсь представить своего отца не только больным. Почти мертвым.
Где-то там внутри живет мужчина, который спас маленькую девочку. Уж он-то точно знал бы, как мне поступить.
Бог подходит к кровати. Я теряю концентрацию.
– Валентинер.
Мы вместе смотрим на моего отца, я нащупываю его руку и слегка пожимаю ее.
Он не отвечает на мое пожатие.
– Он не с нами, – шепчу я.
– Нет. Его душа покинула свой дом. – Доктор Сол звучит иначе, чем обычно, будто сам он только что очнулся от глубокого сна.
– Она сможет снова его отыскать?
– Если будем хорошо за ним смотреть, то да.
Я наклоняюсь, осторожно целую отца через маску в неподвижную щеку и тихо-тихо, так, чтобы Бог ничего не услышал, шепчу отцу на ухо:
– Я буду присматривать за домом Мэдди. И за твоим. И отыщу тебя.
Когда я выхожу из Веллингтонской больницы на улицу, где течение жизни кардинально отличается от того, что происходит на втором и пятом этаже клиники, мне требуется какое-то время, чтобы узнать облаченную в кожаную куртку женщину.
Она облокотилась на мощный мотоцикл и смотрит на меня не так уж неприветливо.
– Эй, Сэм, – произносит Эдди. – Твоя мама и не собиралась забирать тебя, верно? Потому что и не разрешала приходить сюда?
– Разрешала, – лепечу я в ответ.
Эдди протягивает мне второй шлем. Он немного великоват.
– Ты врешь так же ужасно плохо, как и я. Запрыгивай, поедем, – говорит она.
ЭДДИ
Серые улицы Лондона утекают под нами – реки раскаленного на солнце асфальта. Мои ноги, внутренности, плечи чувствуют ускорение. Знакомые запахи города проносятся мимо, пахнет едой, везде всегда пахнет пончиками и картошкой фри, жареным рисом, и горячими супами, и хрустящими вафлями. На Западе нет другого такого города, как Лондон, где бы всегда пахло свеженакрытым столом.
Я еду на пятисотой модели «БМВ» медленнее обычного, но мальчишка прижимается к моей спине. У меня на борту драгоценный груз – сын мужчины, который был для меня солнцем и луной, дыханием и сном, страстью и нежностью. Моим самым большим поражением. Моей большой любовью.
Мы едем в час пик по «Кольцу страха», городской скоростной магистрали. Она идет вокруг острова под названием Лондон с населением в 8,6 миллиона человек, и атолл посредине не знает покоя.
Сэм держит равновесие и не показывает страха. Это нелепо, но на какой-то миг дикая радость переполняет меня. Чтобы мне выпал шанс познакомиться с этим ребенком, должна была произойти катастрофа.
«Случайности, – говорил мой отец, – случайности – это удивительные события, смысл которых раскрывается только в самом конце. Они позволяют изменить твою жизнь, и ты можешь принять предложение или отклонить его.
Мать ненавидела эту позицию. Совпадения ее пугали. Для отца они служили источником радости, любопытства жить.
Я была у Генри без Сэма, Фосси неохотно впустил меня.
– Всего на минутку!
Как же быстро пролетает крошечная минутка.
Генри выглядел таким опустошенным. Я сказала ему то, что хотела сказать более двух лет назад. И не сказала. А сейчас я малодушно прошептала все неподвижному телу. Все ту же молитву:
– Не уходи!
Мы постоянно искали руки друг друга. При ходьбе, в разговоре, за едой. Или когда читали, перед каждым лежала книга, и в то же время кончиками пальцев мы поддерживали контакт. Я до сих пор чувствую указательный палец Генри на своем, его поглаживания. Если книга захватывала его – он делал это быстрее, если не очень – то медленнее.
Его рука меня любила. Его рука, его взгляд, его смех, его тело. Они любили меня. Когда он сказал, что не любит, у меня было такое чувство, будто он застрелил меня. Просто вытащил оружие, пока мы держались за руки, и выстрелил мне прямо в сердце.
Мы с Сэмом заворачиваем на улицу Коламбия-роуд в Ист-Энде. Я высаживаю его у кафе «Кампания», находящемся в доме около старого магазина тюльпанов, который на двух верхних этажах приютил меня и мое издательство, подо мной – рекламное агентство и парикмахерскую; Сэм слезает с мотоцикла и озирается по сторонам, широко открыв свои большие мальчишечьи глаза.
Его лицо раскраснелось от езды, глаза блестят, и сейчас он кажется еще младше, чем прежде. Когда он вышел из Веллингтонской больницы, то выглядел как серьезный старичок маленького роста в синем костюме, задумчивый и невероятно решительный, готовый изо всех сил противостоять и неукротимой жизни, и еще более неодолимой смерти.
Сейчас он снова похож на школьника в форме и с рюкзаком за спиной, каким, собственно, и является.
– Бывал ты уже в Ист-Энде?
Он качает головой и впитывает мир широко раскрытыми глазами. В выходные Коламбия-роуд превращается в цветочный рынок Лондона. Это одна из тех немногих улиц, где Лондон выглядит так, как выглядел до того, как превратился в типичную пешеходную зону с модными магазинами. Тут расположены более восьмидесяти маленьких магазинчиков, которыми управляют сами владельцы. Каждый фасад и навес – своего цвета. В солнечные дни улица кажется самым длинным в мире кафе.
Порой я забываю, что жизнь на других улицах Лондона не так пестро и нефильтрованно презентует себя. А наоборот, кажется вылизанной и упорядоченной.
Сэм, в своей форме Колет-Корт, которая подчеркивает его принадлежность к разряду людей, стремящихся к успеху, делает первые шаги в этом мире. Он напоминает мне очень чуткого котенка, который, попав в незнакомое место, ко всему прислушивается, принюхивается, тычется во все своими усиками и осторожно движется вперед на мягких лапках.
Я беру шлем под мышку и захожу в кафе, чтобы заказать Сэму и себе свежего чая оолонг и булочки. Сотрудники моего издательства каждый день покупают тут напитки, я обеспечила им абонемент на кофе и чай в качестве небольшой компенсации за скромность гонораров, которые я выплачиваю.
В кафе «Кампания» у Бенито и Эммы я встречалась с десятками писателей, мы сидели за кухонным столом или давным-давно списанной и тщательно отполированной школьной партой, перед нами стояли цветочные горшки с зеленью. Авторы рассказывали мне о своих мирах. В надежде, что я издам их рукописи и сделаю из них настоящих писателей, которые могут полностью посвятить жизнь искусству повествования.
Будь моя воля, я помогла бы всем.
Все, кого я приглашала на подобные встречи после первого беглого прочтения рукописи, умели более или менее искусно рассказать о том, чего не вмещают слова, – это чистая магия литературы. Мы читаем некую историю, и после прочтения что-то меняется. Что именно, мы не знаем; почему так происходит, благодаря какой фразе – тоже неизвестно. И тем не менее мир вокруг нас преображается и навсегда перестает быть прежним. Порой лишь спустя годы мы замечаем, что та или иная книга стала трещиной в нашей реальности, и через эту брешь мы, ни о чем не подозревая, выбираемся из ничтожности и малодушия.
Эмма готовит для меня поднос, и, когда Сэм робко подходит, как обычно приклеив взгляд к полу, она протягивает ему руку и говорит:
– Привет, я Эмма. А ты кто такой будешь, симпатичный спутник моей любимой издательницы?
Сэм краснеет и бормочет свое имя.
Он стоит всего в нескольких метрах от того столика, за которым мы всегда сидели с Генри, от столика со старым школьным глобусом. Мы садились там, когда Генри возвращался из поездок к поразительнейшим людям на свете, а у меня дома не хватало продуктов для завтрака на двоих.
Он брал ключ из тайника в стене и поднимался ко мне в лофт, пока я спала, – он часто прилетал ранними рейсами. Когда я открывала глаза, он сидел у кровати, прислонившись к стене, и смотрел на меня.
Я провела множество одиноких вечеров в надежде на то, что утром, когда проснусь, он окажется у моей кровати.
– Сэм?
Он поворачивается ко мне, и на долю секунды я вижу в его мальчишеском лице черты молодого Генри. Тоска по Генри, по его теплому телу, его коже, запаху, голосу разрывает мне сердце.
Мы садимся друг напротив друга за столик с глобусом. Я поворачиваю его, он обтянут бумагой, а изображения континентов стилизованы в оттенках сепии наподобие старых карт.
Я наугад останавливаю глобус. Южный Судан. Указываю пальцем на крошечное синее пятнышко чернил.
– Тут был твой отец, – говорю я тихо.
Вращаю маленький глобус дальше.
– И тут. – Канада, Скалистые горы. – И тут. – Кабул. Колумбия, Огненная Земля, Москва, Дамаск, Тибет, Монголия. На глобусе в кафе «Кампания» Генри показывал мне, где был. Он отмечал это место точкой.
Сэм провел по ней указательным пальцем.
– У меня дома есть все его репортажи и портретные зарисовки, – говорит он тихо. Его взгляд совершенно ясен, совершенно прозрачен. – В Монголии он научился ездить верхом. В Канаде встретил профессора, который покинул свою семью, чтобы жить отшельником. А в Дамаске он отыскал бывшего воспитателя арабских принцев.
Сэм снова проводит пальцем по отметкам на глобусе.
– Как у него получается быть таким? – спрашивает он тихо.
Говорит «получается», не «получалось».
Я вглядываюсь в отметки, и мне вспоминается каждый момент, когда Генри ставил их ручкой. Он никогда не делал этого с помпой, никогда не выпендривался: «Посмотри-ка, где я только не был». Он делал это честно, добросовестно, будто этот маленький глобус был единственным свидетельством, которое документировало его поиски.
То, что это были поиски, приходит мне в голову только сейчас.
Генри по всему миру искал самого себя.
– Он умел, – начинаю я, запинаюсь и поправляю себя: – Он умеет слушать, как никто другой. Когда твой отец кого-то слушает, то в этот момент для него будто нет никого важнее рассказчика. Он может разговорить любого. Словно рядом с ним ты начинаешь гораздо лучше видеть самого себя. Будто одно лишь его присутствие заставляет проговорить действительно важные для тебя вещи. И то, что ты никогда раньше не произносил, потому что боялся насмешек. Или что кто-то закатит глаза. Или потому, что сам еще ничего не понимал. Благодаря Генри людям удается показать, кто они на самом деле.
На меня накатывают воспоминания. Генри, его манера рассказывать, его голос, воспроизводящий поющие звуки его родины, но при этом он не обращает на акцент никакого внимания, дабы не подчеркивать, что он француз, который лишь сменил свое имя с Ле Гофф на Скиннер.
– Твой отец бретонец, или, точнее, сбежавший с родины бретонец, который оставил все в прошлом: родной язык, умершего отца, умершего деда, могилы матери и бабки. Каким одиноким может быть человек, я поняла, лишь встретив твоего отца: не иметь никого, кто знал тебя еще до того, как ты сам начал себя осознавать, никого, кто любил бы тебя только за то, что ты есть. Ты отрезан от мира, когда у тебя есть только ты.
Он великолепно владел английским, но о себе или своих чувствах никогда не говорил. Кто знает, быть может, потому, что ни на каком языке, кроме родного, мы не можем выразить нашу суть?
Я вспоминаю наш последний разговор. Мы вели его здесь, и Генри пил не только чай, но и виски. Морщинки вокруг его глаз углубились. Вечный скиталец, он убегал от себя и одновременно искал себя. Ему никогда не удавалось сбежать, он всегда выслеживал себя.
Я замечаю, что действительно необычные люди никогда не догадываются о том, насколько они необычные.
– Я пишу о наркобаронах в Мьянме, для которых реальность – это бедность, богатство и наркозависимость. Я встречаю женщину, которая сдает живот в аренду бездетным парам и делит всех на виноватых и невиноватых: пара не виновата в своей бездетности, а она сама зато может загладить вину, которая, по ее мнению, досталась ей из прошлой жизни. Я беседую с одиннадцатилетним гениальным пианистом, который уже сейчас виртуознее Колтрейна[16]16
Джон Уильям Колтрейн (1926–1967) – американский джазовый саксофонист и композитор.
[Закрыть] и Чинкотти[17]17
Питер Чинкотти (р. 1983) – американский джаз-, рок-, поп-певец, пианист.
[Закрыть]. Его зовут Джек. Джек говорит, что если ты что-то любишь, то нужно практиковаться, а если ты чему-то уже научился, то тренируешься дальше. Иначе зачем человеку такая долгая жизнь? И это говорит маленький парнишка, который, несмотря на свой возраст, понимает в жизни побольше всех остальных.
Об этом рассказывал Генри в последний раз. Он приехал в Лондон, переполненный нетерпением и отчаянием, а я была готова в любой момент сорваться и прокричать: «Черт побери! Что все это значит? Давай будем вместе. Люблю тебя. Я люблю тебя так сильно, люблю таким, какой ты есть. Давай будем вместе в этой жизни и во всех последующих, ты никогда не надоешь мне».
И что же? Он рассказывает о множестве людей. И никогда – о своем сыне Сэмюэле.
Я вращаю глобус. Он делает несколько оборотов, и вот будто машина времени перебрасывает меня на два года назад.
– Я пишу и путешествую, пью и пытаюсь избегать ночи. Сумерки – это линия фронта. В Исландии я встретил Этьена. Этьен перебрался в Исландию из Канады, он морской картограф и видит мир таким, каким его никогда не увидит большинство людей: как голубую планету, находящуюся преимущественно в жидком, а не твердом состоянии. Эта «нетвердость» и есть подлинная реальность, – сказал Генри и провел пальцем по контурам континентов на этом великолепном глобусе. – То, что мы уже исследовали, по площади гораздо меньше непознанного. Другими словами, мы видим мир, но не знаем его. Реальность больше нас.
И именно эту фразу я сейчас повторяю Сэму.
Он медленно кивает, в его глазах я читаю вопрос: а я? Обо мне он говорил?
– Чай готов! – кричит Эмма.
Сэм приносит поднос, пока я отвожу мотоцикл на задний дворик. Потом мы поднимаемся на лифте издательства, который в былые времена служил грузовым подъемником для магазина тюльпанов. Внутри он изукрашен изображениями листьев тюльпанов, цветов и луковиц. Лифт останавливается на четвертом этаже, где работают Рольф, Андреа и Поппи. Оттуда металлическая винтовая лестница ведет наверх, в мою квартиру.
Рядом с каждым столом, заваленным бумагами, стоит либо диван (Рольф), либо несколько кресел (Поппи), либо деревянная скамейка с вышитыми подушками (Андреа). Рольф любит окружать себя восточной мебелью, и рядом с его световым столом стоит еще стол из ателье, где иногда он собственноручно создает акварели для наших обложек или изготавливает эстампы на ручном прессе. Поппи собирает вокруг себя все, что связано с готикой, а Андреа обкладывает себя книгами и хранит рукописи в аккуратно подписанных контейнерах из оргстекла.
В центре располагается «колокол» – так мы называем большой производственный стол, где мы вчетвером работаем над одной книгой, как только дело доходит до важнейших этапов перед публикацией. Текст на суперобложке, рекламный текст, подготовка к печати. Тут же сидит Блю, наш корректор, которая приступает к работе только тогда, когда для нее готовы гранки. Распечатки рукописи в формате А4, в которых она отыскивает орфографические ошибки. Она поглощает страницу за страницей, слушая в огромных наушниках «Металлику» или Гектора Берлиоза.
Сэм медленно проходит вперед, снова как принюхивающийся ко всему котенок, и наконец останавливается перед «стеной славы».
Вдоль самой длинной стены расставлены все книги, которые выпустило наше издательство за последние двадцать лет. Оригинальные издания, переводы, специальные издания, переиздания, лицензионные книги карманного формата.
На его лице появляется выражение восторженного почтения. Я ловлю себя на том, что слегка смущаюсь от гордости.
– Мы издаем исключительно фантастику. Мы небольшое издательство, но узкоспециализированное. Две из самых успешных наших книг – «Кот Шрёдингера» и «Дом с тысячей дверей». Я основала издательство, когда мне исполнилось двадцать три. Я была сумасшедшей фанаткой Майкла Муркока.
Сэм смотрит на меня и шепчет:
– «Хроники Корнелиуса»!
Я отвечаю:
– И «Кочевники во времени»!
Сэм парирует, называя следующую книгу Муркока:
– «Вечные чемпионы», вечные герои!
– Я обожала их, вечных героев, они…
– …поддерживают баланс во Вселенной и заботятся о том, чтобы параллельные миры не пересекались.
Мы смотрим друг на друга счастливые и удивленные, и я ощущаю себя на какое-то мгновение снова тринадцатилетней девчонкой, книжной занудой, которая имеет пристрастие к темам, к которым ее ровесники долго еще не подступятся. Они читали любовные романы, а я читала стимпанк[18]18
Стимпанк – жанр фантастической литературы, получивший распространение в середине 1980-х гг.; заимствует образы, популярные на рубеже XIX–XX вв., в эпоху паровых технологий.
[Закрыть], они увлекались популярными журналами «Hit!» и «Bravo», я – книгами о сверхсветовой скорости и теориях времени Урсулы Ле Гуин. Именно от нее я позаимствовала свой жизненный девиз: «Правда – дело силы воображения».
Я была довольно одинока в своем экзотическом хобби и охотно переехала бы в другую страну ради встречи с таким начитанным подростком, как Сэм.
Мы поднимаем наши кружки с подноса и осторожно чокаемся ими.
Он оборачивается, услышав приближающуюся мелодию лакированных туфель на высоких каблуках, и вот перед ним – настоящее видение.
– Солнце мое, это ты? Ты еще ничего не сказала по макету обложки юбилейного издания «Тысячи дверей».
Поппи поправляет свою черную блестящую челку в стиле Бетти Пейдж[19]19
Бетти Пейдж (1923–2008) – американская модель.
[Закрыть]. Моя пиарщица и маркетолог – настоящая рокабилли-красотка с претензией на девушку с обложки. Сегодня на ней черное платье в белый горошек и с красной тесемкой, чулки со швом и лакированные туфли-лодочки на ремешке.
– Поппи, это Сэмюэль Ноам. Сэм, это Поппи. Сэм увлекается фантастикой.
– Это хорошо. Других я все равно не выношу, – изрекает секретное оружие моего издательства и протягивает Сэму изящную ручку в черных кружевных митенках.
Я не говорю Сэму, что Поппи умеет абсолютно все. Баловать писателей и создавать рекламу, очаровывать прессу и даже после семи бокалов джин-тоника «Хендрикс» писать восхитительные посты в «Твиттере». Это же Поппи, которую я знаю с момента основания издательства, то есть уже двадцать лет, и с которой я, как и с Рольфом, графическим дизайнером, и Андреа, главным редактором, разделяю страсть к изгибам реальностей.
В издательской сфере стала легендой татуировка на спине Поппи: это открытая книга, в которую она записывает любимые фразы. Для многих писателей гораздо ценнее быть увековеченными на спине Поппи, чем получить премию Букера.
Она протягивает мне распечатку. Мы переиздаем «Дом тысячи дверей» спустя десять лет.
– И о чем там речь? – спрашивает Сэм.
– Это история о множестве миров, – отвечает Андреа, которая только что выбралась из своего угла, заставленного рукописями в контейнерах из оргстекла. – Один молодой робкий адвокат по уголовным делам обнаруживает в своем бюро дверь, которую прежде никогда не видел. Он проходит сквозь нее и снова оказывается в собственном бюро, вот только детали его жизни немного меняются. Он…
– …состоит в отношениях с женой своего шефа, – вклинивается в разговор Рольф, от внимания которого не ускользнуло скопище людей у «стены славы», – невероятно капризной дивой, ну и что в такой ситуации делать чуваку?
– Когда он сбегает, то не замечает, что выходит в потайную дверь второго бюро, – продолжает рассказывать Андреа.
– И в поисках лучшей жизни он безнадежно теряется среди тысячи дверей и бесконечного числа вариаций своей жизни, – завершает Поппи краткий пересказ.
Я не говорю Сэму, что это та самая книга, чью сырую рукопись я читала своему мертвому отцу десять лет назад. Когда несла вахту у его тела. Я знаю текст почти наизусть и каждый раз, когда перечитываю, вспоминаю тишину палаты. Какой пустой стала жизнь без него. Думаю, лишь спустя четыре года я снова смогла улыбаться и не плакать.
– Что скажешь насчет обложки? – спрашиваю я Сэма.
Он отставляет свою кружку, берет книгу с невероятной серьезностью и рассматривает ее.
Обложка классическая. Голубая дверь парит над морем, которое при ближайшем рассмотрении состоит из дверей. Обложки – те же лица. Не каждому нравятся и не всегда передают сложный характер книги.
Мне бы хотелось найти дверь, через которую можно было бы пройти, чтобы найти ту жизнь, в которой Генри и я никогда бы не встретились.
Или были бы парой.
У нас была бы маленькая дочка.
Он не впал бы в кому.
Сэм смотрит на меня и говорит:
– Обложка девчачья, а история для парней. Мне она показалась интересной, но картинка дурацкая.
Андреа стонет: «О боже!» Рольф замечает: «Я знал!» А Поппи обнимает Сэма за плечи и предлагает:
– Скажи-ка, Сэмюэль Ноам, а ты не мог бы и впредь присутствовать при обсуждении обложек? Думаю, свежий взгляд настоящего читателя прочистил бы нам всем мозги. Что скажешь?
Сэм смущенно смотрит на нее, и вправду – смотрит прямо в глаза, еле слышно выдыхает: «Хорошо!» – и кажется, будто он сейчас лопнет от счастья.
Я же говорила: Поппи может все. Даже делать из несчастных мальчишек молодых мужчин, очень счастливых мужчин, пусть и на минуту.
– Мне кажется, это хорошая мысль, Сэм, – вставляет Рольф, – и если ты знаешь еще кого-то, кто читает фантастику и…
– Мой друг Скотт!
«Как же ты мне нравишься, парень, – думаю я. – Ты хочешь поделиться, а не наслаждаться в одиночку». Сэм покорил мое сердце.
Его взгляд падает на большие часы, которые висят на стене рядом со стилизованной телефонной будкой из сериала «Доктор Кто» в углу нашей чайной.
– Мне пора, – говорит он подавленно. – ГИ встречается у «Запретной планеты», а потом у Кистера Джонса.
– ГИ? – переспрашиваю я. Что такое «Запретная планета», мы все знаем – это самый большой и серьезный книжный магазин фантастики и прочей зауми, для таких изданий, как наши.
– Группа по интересам, – быстро отвечает Поппи. А потом обращается к Сэму: – Так ты, значит, в Менсе? Вот это да! Сколько же тебе? Пятнадцать?
– Мне тринадцать, почти четырнадцать, – говорит Сэм и при этом все больше и больше приободряется. Поппи и ее колдовской порошок.
– Значит, у Кистера? – говорит Рольф. – Привет ему. За ним должок – выпивка за его счет и рукопись.
– С каких это пор мы издаем Кистера Джонса? – осведомляюсь я. Вряд ли он нам по карману.
– С тех пор, как он проспорил мне. Без подробностей. Это джентльменское соглашение.
– Нам позволено знать хотя бы, о чем книга, или это останется тайной до отправки в печать? – подкалываю я Рольфа.
– Рабочее название – «Линия перехода». Речь там идет о людях, которых вводят в состояние искусственной комы, чтобы путешествовать сквозь время в сны умерших.
Мне не нужно смотреть на Сэма, чтобы почувствовать, что детская легкость, которая прорвалась в его жизнь за последний час, вмиг улетучилась от слов Рольфа.
Такова боль, она реагирует на определенные слова, как дрессированный зверь на команды. Кома – это то слово, от которого я и Сэм теряем самообладание и наш страх прыгает через горящий обруч.
– Я отвезу тебя к «Запретной планете», – бормочу я.
Поппи укоризненно бьет Рольфа по руке, а Андреа говорит:
– Хорошо, тогда я поищу другую обложку для «Тысячи дверей».
Сэм позволил проводить его лишь до метро. Хрупкая близость между нами дала трещину. Мы стоим у самого эскалатора, и на нас дует воздух подземки – типичный запах дизеля и большой толпы людей, соединяющийся с жаром машин.
Когда мы прощаемся, он заглядывает мне в глаза.
– Каждую среду у нас встречи ГИ от Менсы, – шепчет Сэм. – Мы всегда встречаемся у «Запретной планеты» и потом идем к Кистеру Джонсу, и потом туда приходит моя мама. Она думает, что я целый день провел со Скоттом. Она не хочет, чтобы я навещал отца, ведь до несчастного случая я его ни разу не видел. Спасибо за чай. И пока.
И вот я стою, обдумывая его путаные объяснения, а он бегом спускается по эскалатору.
– Эй! – кричу я ему вдогонку. – Приводи в следующий раз Скотта!
Тут он поворачивается ко мне лицом и поднимает руку в вулканском салюте.
Я бы очень хотела иметь ребенка от Генри.
От Генри я хотела бы иметь все, что угодно.
За окном уже темно, когда я понимаю, что слишком устала, чтобы и дальше пить виски «Талискер». Его легкий аромат – эфир для ампутации – оглушил меня. В моей голове кружатся – правда, все медленнее и медленнее – одни и те же вопросы.
Хочу ли я? Смогу ли? Сумею ли так заботиться о Генри, как того требует доктор Сол?
Могу ли требовать от Уайлдера принять это решение?
Могу ли требовать от себя принять это решение?
Могу ли требовать от себя оставить Генри одного?
Получится ли у меня вернуть его к жизни?
И что будет, если однажды я разозлюсь? Если захочу отомстить? Если захочу его убить?
И почему, черт побери, Сэм никогда не видел своего отца?
Доктор Сол посоветовал мне поспрашивать у других, не слишком ли много я на себя беру. «Не мочусь ли против ветра?»
Да, но единственный человек, который знал меня достаточно хорошо, знал вдоль и поперек, мертв. И тем не менее я спрашиваю его, безответно вопрошаю у отца: что же делать? Получится ли у меня? Нужно ли мне это?
Мой отец инспектировал маяки. Он объезжал не только маяки Корнуолла, но и маяки по ту сторону Ла-Манша, от Шербура до Сен-Матьё, почти до Брестской бухты. Там море усыпано маяками.
Он на слух улавливал, когда в баллонах недостаточно воздуха для поддержания кольцевого огня, определял по завываниям ветра, врывающегося в башню и открытые окна, надвигается ли шторм. И он ни разу не взошел на маяк без должного оснащения. Особенно в зимние месяцы, когда казалось, что пробираешься внутри хрупкого пальца, который упрямо выдается из вспучивающейся водной массы, а волны вокруг него накатывают и пенятся, превращаясь в ошейник бешенства и брызг.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































