Текст книги "Книга снов"
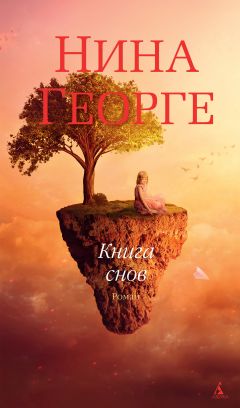
Автор книги: Нина Георге
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Отец советовал мне, перед тем как подниматься на маяк, никогда не смотреть на лестницу целиком, а только на первую ступеньку. И дальше идти ступенька за ступенькой.
– Так ты привыкаешь к вызовам, которые поначалу кажутся больше тебя самой. Так у тебя все может получиться.
«Уменьшай мир, будь точнее, не думай о всей долгой ночи, которая впереди, только о следующей минуте» – так он говорил.
– Ты должна пройти дорогу до конца, чтобы суметь увидеть ее целиком, Эдвинна.
Я обхватываю руками подушку и утыкаюсь в нее лицом. Лишь спустя вечность я наконец засыпаю, и тут появляется Генри и целует мой живот. Я чувствую его губы, его дыхание, чувствую, как он целует мою грудь, шею, как его губы ищут мои, потом он целует мои закрытые веки. Так делал только Генри, больше никто.
Когда я открываю глаза, чтобы взглянуть на него и рассказать, что мне привиделся страшный сон, ужасно длинный, отвратительный, в котором я прогнала его и он после дурацкой аварии впал в кому, то не вижу рядом никого.
Мои веки, они прохладные, потому что ветер через открытые окна осушил едва ощутимую влагу на тонкой коже, как будто ее и правда кто-то поцеловал, по-настоящему.
Мне сорок три. Генри давно отверг меня. Я ничего ему не должна. Тем более не должна жертвовать своей жизнью ради него! Нет, я не чувствую ни вины, ни готовности жертвовать, я понимаю, что, какое бы решение ни приняла, оно будет неверным. Оно будет направлено либо против Уайлдера, либо против Генри.
Либо против меня.
СЭМ
Каждый вечер перед сном мама принимает душ. Она втирает в кожу молочко для тела с запахом печенья, которое заказывает из Парижа, и сидит в трусиках и бюстгальтере на кухне, пока молочко полностью не впитается. В это время она читает один из тех романов, что оформляют в пастельных тонах и продают в супермаркетах по две штуки.
Каждый новый роман она начинает читать с последней страницы, чтобы узнать, счастливый ли у него конец, иначе не стоит и браться за «эту глупую книжицу». При этом она пьет французское игристое. Во время этой процедуры никто не должен тревожить мою мать Марифранс: ни я, ни Стив, это позволялось только Малкольму, пока он был маленьким, но сейчас даже он не мешает маме.
А ведь я знаю, зачем она это делает. Это единственные моменты, когда она чувствует себя по-настоящему защищенной, когда ей известно, что все будет хорошо. Моя мать ни в чем не нуждается так сильно, как в хорошем исходе. Она слишком долго пробыла в местах, где никогда не будет безопасно, никогда. Ей известны все круги ада.
Я выхожу через заднюю дверь в сад и сижу там в темноте. Я смотрю на дом – на кубик, в котором мы живем. Обычный маленький домик в Патни[20]20
Патни – южный пригород Лондона.
[Закрыть], где свет в ванной включается, если дернуть за шнурок. Моя мать купила дом из песчаника и клинкерного кирпича из-за так называемого сада, который представляет собой газон и вечнозеленую изгородь. Сквозь окна, в которых горит свет, я вижу maman в кухне и Стива перед телевизором. Идет футбол.
Незначительная, безопасная жизнь в домике-кубике.
Я играю в игру «Если бы отец был рядом». Все происходит так: я закрываю глаза и представляю. Все, что я смогу вообразить достаточно четко, станет правдой, когда я открою глаза.
И вот у нас огромная библиотека, забитая книгами. У нас есть собака, которую зовут Пушок или Тявка. У меня черная остроконечная шляпа, как у сэра Терри Пратчетта[21]21
Терри Пратчетт (1948–2015) – один из самых популярных британских писателей второй половины XX – начала XXI века. Наибольшую популярность ему принес цикл фантастических книг про Плоский мир.
[Закрыть], а мой отец на Международный день полотенца цитирует Дугласа Адамса[22]22
Дуглас Ноэль Адамс (1952–2001) – английский писатель, драматург и сценарист. В знаменитой серии книг «Автостопом по галактике» он описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь в любом случае, и в межгалактическом пространстве тоже. Впервые Международный день полотенца отмечался в 2001 году. Поклонники творчества писателя в этот день носят с собой полотенце.
[Закрыть] и целый день щеголяет в полосатом купальном халате. Отец показывает мне, как самостоятельно выбраться с минного поля с помощью палочек для еды и баллончика с краской.
К нам могла бы приезжать Эдди на мотоцикле.
И Мэдди тоже у нас в гостях.
Я не открываю глаза и представляю, как Эдди слезает со своего «БМВ» и заходит в дом. Мой отец… он…
Целует ее?
А что Мэдди?
Мэдди подходит ко мне, закрывая глаза ладонями, будто играя в жмурки сама с собой. Но она точно знает, куда идти. Затем она становится передо мной. Совсем рядом.
А потом очень медленно отводит ладони от глаз и смотрит на меня.
Когда я открываю глаза, то единственными книгами в нашем доме по-прежнему остаются книги в моей комнате и романы матери из супермаркета. Стив все так же смотрит футбол, Малкольм играет в приставку.
«Виртуоз шлифовальной машины», – как-то сказал Скотт о Стиве. Он укладчик полов, работает в строительстве.
Неплохой парень.
Хотя и называет меня постоянно спортсменом, как будто не в состоянии запомнить мое имя.
Скотт всегда называет его Стив-спортсмен.
Я считаю до пяти, сглатываю комок в горле снова и снова, считаю еще раз и заставляю себя вернуться в дом.
– Сэм, ты уже сделал уроки? – спрашивает мама громко. Ее бокал пуст.
«Когда я должен был успеть, – хочу я ответить ей. – Когда?»
Иду без ответа в свою комнату.
Спустя какое-то время она возникает в дверях, халат накинут на плечи. От нее пахнет омлетом и немного алкоголем.
– Ты выучил слова, заданные по французскому?
– Хм.
– Экзамены начинаются через три недели.
– И что?
– Ты же знаешь, как важны результаты этих экзаменов, Сэм?
– Знаю, maman.
Такой вот диалог мы ведем каждый день. Об этом говорили и давеча в машине, когда она забрала меня от Кистера Джонса. Мама ужасно боится, что я начну жить не по плану.
– Сэм, эти экзамены действительно важны, если ты хочешь чего-то добиться в жизни, получить перспективную профессию.
– А разве Стив сдал экзамены?
Она делает резкий вдох.
Сам не знаю, зачем я это сказал. Это несправедливо с моей стороны, она не виновата в том, что я предпочел бы оказаться где угодно, лишь бы не здесь, в этом домике-кубике, со Стивом, который называет меня спортсменом.
– Сэмюэль, я знаю, что сегодня днем ты прогулял школу.
– Не прогуливал я.
– Где же ты был? – напирает мама.
– Да так, гулял, – мямлю я. – Был… в «Запретной планете». Вышла новая книга Пратчетта.
– Сэмюэль, – говорит мама, – ты прогулял школу. В «Запретной планете» тебя не было, я звонила туда. Тебя там все знают. Итак, еще раз: где ты был?
Мама почувствовала бы себя преданной, если б я сказал ей правду. Если б все выложил: мол, ходил в больницу, как и все последние семнадцать дней. Так происходит всегда. Когда я выказывал желание общаться с отцом, мама чувствовала себя уязвленной и потом днями напролет не разговаривала со мной. Именно поэтому я продолжаю врать и говорю:
– Мы со Скоттом курили.
Скотт помер бы со смеху сейчас. Единственный раз, когда я затянулся его сигаретой, мне пришлось полчаса отлеживаться, так сильно у меня кружилась голова.
Обличительные тирады, которые она обрушивает на меня, уж всяко лучше, чем печальное, разочарованное молчание, которое немедленно последовало бы, если б я признался, что навещал отца в больнице. Ее гнев выливается в строгий запрет на покупку этой фантастической макулатуры, лишением карманных денег и телевизора.
В дверях мама еще раз оборачивается.
– Сэм, не угробь свою жизнь!
Она закрывает за собой дверь, а я сижу, сдерживая желание прокричать ей вслед: все не так, как ты думаешь! Отец спас ребенка и носит мой браслет, он чуть не умер, а теперь лежит в коме. А еще в больнице есть девочка Мэдди, которая тоже вошла в мою жизнь, и теперь я не хочу с ней расставаться. Моя жизнь не может быть загроблена так же, как ее! Мэдди никогда не будет сдавать никакие экзамены, и жизни у нее не будет никогда.
Но я молча сижу за столом и прижимаю кулаки к столешнице.
У мамы и без того много проблем. Я вижу тени ее души с тех пор, как появился на свет. Не нужно причинять ей дополнительную боль. Порой мне очень хочется защитить ее, сказать ей, что люблю ее, но я не знаю, как это сделать.
Я слышу, как Стив переключается с канала на канал, слышу, как мама зовет его спать. И через какое-то время из их комнаты до меня доносится ритмичное поскрипывание. Его издает изголовье кровати, которое трется об обои, когда Стив спит с матерью.
Каждый раз все длится ровно девять минут. После этого раздается шум смываемой в туалете воды.
Малкольм приходит ко мне в комнату и забирается в мою кровать, он еще не знает, из-за чего случаются такие звуки.
Он смотрит на меня и потом тихо говорит:
– От тебя совсем не пахнет дымом, Сэмми.
Я отвечаю не сразу. Малкольм «на другой стороне». В счастливой семье. Конечно, это все ерунда. Но каждый раз, глядя на него, мне думается, что я лишний четвертый элемент в их семье. И в то же время я знаю: я сделаю что угодно для своего брата. Он один из немногих, кто не хочет понимать, почему люди лгут или поступают подло.
Малкольм снова садится в моей кровати.
– Ты ведь не курил, Сэмми. Так где же ты был?
Где я был? Хороший вопрос. Мою жизнь взломали, хакнули. И отформатировали. Превратили в ту, которую я должен вести «на самом деле». С отцом, у которого не было больше никакой семьи.
А что, если все совершенно иначе?
Если не жизнь взломали, а просто весь мир безумен? Может, я как тот адвокат, который проходит сквозь потайную дверь в своем бюро и исследует различные варианты своей жизни до тех пор, пока уже не может понять, какая жизнь настоящая?
Я прекращаю следовать за своими мыслями по этому лабиринту. Считаю до пятисот, брат тем временем засыпает, а я пытаюсь выяснить, в реальности я или нет. С этой целью я достаю из шкафа две коробки из-под лыжных ботинок, в которых спрятаны две тяжелые папки.
Я открываю первую и просматриваю заголовки сброшюрованных газетных статей.
Затерявшиеся в Европе: забытые дети Балканской войны.
Девочка с бомбой в рюкзаке.
Выигранная война: как журналисты подвергаются цензуре армии США.
Вырванные из лап повстанцев: репортеры – главные переговорщики.
И все в таком духе: репортажи о войне, эссе, фотографии.
До моего появления на свет тринадцать лет назад отец писал военные репортажи, и я собрал их почти все. Распечатал из Интернета, вырезал из газет, из старых журналов, которые нашел на блошином рынке или на eBay. Из школы я писал в редакции газет и просил выслать мне архивные копии его статей.
Во второй папке хранится портрет из «Тайм Атлантик»[23]23
«Тайм Атлантик» («Time Atlantic», ныне – «Time Europe») – европейская редакция американского журнала «Тайм», выпускается в Лондоне.
[Закрыть] за 2002 год. Лицо отца красуется на обложке, в фирменной красной рамке журнала. Под портретом заголовок: «Человек без страха».
Отец смотрит прямо в камеру. По его голубым глазам кажется, будто он всматривается во что-то вдали. Кожа на лице очень загорелая, потрескавшаяся, на угловатом подбородке пробивается седая щетина. Левую бровь посередине рассекает шрам, там волосы больше не растут. Это след от ножа, объяснил отец в интервью. Нож принадлежал какому-то пьяному солдату в Вулковаре, входившему в уличный патруль. Отец простоял перед ним на коленях два часа, дал себя обоссать и покалечить, только потом ему было позволено продолжить путь. Он прятал в кузове сербского парнишку-сироту и тайком провез его через границу.
Я как-то рассказал об этом Скотту. Он долго молчал. Потом произошло нечто странное: в глазах у Скотта стояли слезы.
– Твой отец, он настоящий, mon ami. Не пытается казаться важнее, чем есть на самом деле. Не участвует во всем этом балагане: у меня есть это, я делаю то, могу себе позволить такие часы. Твой отец, тупой ты специалист-всезнайка, – человек, который живет по-настоящему.
Журнал «Тайм» признал Генри М. Скиннера «человеком года» среди военных журналистов, которые каждый час рискуют собственной жизнью, чтобы рассказывать о темных сторонах жизни.
Когда я родился, отец перестал писать о войне.
Мама говорит, что это никак не связано со мной, но почему нет? Она не читала его интервью в «Тайм Атлантик», а я читал. Я знаю его наизусть. И то место, где отец говорит: «У военного репортера не должно быть семьи».
Я листаю дальше. Вот репортаж о детях-солдатах в Южном Судане. На фото виден мужчина, обмякший на переднем сиденье джипа. На заднем плане на корточках сидит отец, рядом с ним мальчишка с автоматом в руках. На переднем плане – раздробленные бусы из ракушек.
Это фото сделала моя мама. Когда еще не так боялась быть живой.
Я все посчитал. Все сходится.
Все могло произойти именно там, в Африке.
Мама никогда не рассказывает о том, как встретила отца и что случилось потом. Как и о том, почему переехала сюда из Парижа, когда мне было четыре года.
Малкольм сонно вопрошает из кровати:
– Что ты там такое читаешь?
Я беру папку, сажусь на край кровати и показываю ему обложку «Тайм» с портретом отца.
– Это Дэниел Крейг? – спрашивает Малкольм.
– Почти угадал, – отвечаю я. Мой отец и правда немного похож на Дэниела Крейга, честный одинокий человек, который, похоже, не умеет смеяться. Только волосы у него потемнее.
– А что он делает?
– Спит. Прямо как ты сейчас.
Малкольм послушно захлопывает глаза и вскоре снова засыпает.
Когда в полутьме, между сном и явью, буквы начинают расплываться у меня перед глазами, я аккуратно укладываю папки обратно в коробки из-под лыжных ботинок и задвигаю в самый дальний угол шкафа.
Писать о мире, чтобы понять его. Писать о людях, чтобы сделать их видимыми. Писать о собственных мыслях, чтобы не сойти с ума. В прошлом году я купил блокнот для записей. Но так к нему и не притронулся. И вот он словно спрашивает меня: ну как, есть что рассказать?
Я осторожно перекатываю Малкольма поближе к стене и ложусь на освободившееся узенькое пространство рядом с ним.
Какой была бы жизнь, если бы мама и папа остались вместе?
Я представляю, что тогда он был бы еще жив.
Не знаю, как вписывается в эту картину Эдди, но, возможно, и ей нашлось бы какое-нибудь место.
При попытке свести в единую картину всех – отца, маму, Малкольма, Мэдди и Эдди – я засыпаю, и мне снится Мэдди, ее лицо плывет под тяжелым ледяным одеялом, она смотрит на меня сквозь лед, а под ней бушует темное море. Оно разверзается, и я проваливаюсь в сон, который видел еще до того, как пошел в школу, педиатр называл его pavor nocturnus, ночным ужасом, а детский психолог – стрессовой реакцией на пережитый страх.
Но ничего из того, что я вижу во сне, мне не доводилось переживать.
Из длинного черного тоннеля доносится звук приближающегося поезда, и мне страшно, мне невыносимо страшно, потому что внизу, на рельсах, кто-то лежит и сейчас его переедут. Я вижу этот сон снова и снова и, когда поезд выезжает и его фары освещают мое лицо, просыпаюсь в ночи – сердце колотится, стук его громко отдается в ушах.
День 20-й
ГЕНРИ
Я вываливаюсь из движущегося джипа и накрываю собой тело Марифранс, прижимаю ее голову руками. Она кричит подо мной, а песок такой горячий, что обжигает колени даже через брюки.
Джип проезжает еще несколько метров и врезается в стену. Нельсон, наш водитель, подался вперед и мешком висит на руле.
Двое мертвых ооновских солдат в голубых касках, подставляя лицо южносуданскому солнцу, лежат на пожелтелой траве на обочине города Вау провинции Бахр-эль-Газаль.
Парнишка с автоматом, дрожа всем телом, выбирается из прикрытой картонкой ямы, в которой прятался и из которой выстрелил в Нельсона.
Марифранс теперь жалобно поскуливает.
Стрелок – еще совсем ребенок, ему, вероятно, лет тринадцать, но глаза его стары, как у самой смерти. Он боится так же сильно, как и я.
Мальчишка присаживается на корточки, небрежно держит автомат перед собой, закрывает глаза.
– Не уходи, не уходи, не уходи! – кричит Марифранс, почувствовав, что давление моего тела ослабло.
Я встаю и медленно приближаюсь к мальчишке, вытянув руки вперед ладонями вверх, парень даже не смотрит на меня, но позволяет осторожно забрать из его рук оружие. Я опустошаю магазин и бросаю в сторону. Потом сажусь на корточки рядом с парнишкой.
Он раскачивается вперед-назад, вперед-назад, а вокруг нас тишина. Судан парализован страхом и жарой; мне тридцать один, и я уже довольно повидал войн на своем веку. Я видел много таких вот состарившихся детей, слишком много. На прошлой неделе ЮНИСЕФ эвакуировало из страны две с половиной тысячи подростков, остальные сидят в детских лагерях, наспех разбитых в саванне. Их нужно разоружить, выдать новые паспорта, создать новые личности. Они перестанут носить имена по названию дня недели, в который они появились на свет. Но разве дело лишь в именах? Ведь ты ничто без людей, с которыми живешь.
В детском лагере мы собирались поговорить с разоруженными несовершеннолетними солдатами, которые не умели ни читать, ни писать, зато умели целиться, спускать курок и находить мины. В этой стране не действуют законы в нашем понимании, есть лишь один закон – оружие.
Марифранс, съежившись в комок, прячется за джипом, из которого я вытолкнул ее, когда раздались первые выстрелы. Мы не нравимся друг другу. Но наши редакции, лондонская и парижская, прикомандировали нас друг к другу.
В какой-то момент я замечаю, как она дотягивается до своей зеленой сумки с фотоаппаратом и тащит ее к себе по песчаной пыльной земле. Марифранс лежит на боку и воздвигает преграду между собой и ужасом происходящего вокруг посредством фотоаппарата. Она фотографирует Нельсона, голубые каски и меня, как я сижу на корточках перед ребенком-киллером и кладу руку на его дрожащие плечи.
В какой-то момент мне начинает казаться, что я уже видел все происходящее. Видел себя на фото, которое Марифранс снимает прямо сейчас. Окровавленные бусы Нельсона из ракушек, ребенка-солдата и себя на заднем плане.
От жары все плывет перед глазами, и ощущение дежавю, уверенность в том, что я уже переживал эти мгновения и точно знаю, как выглядит фото Марифранс, исчезает.
– Как тебя зовут? – спрашиваю я.
Он смотрит на меня, тихо говорит «Бой» и отворачивается.
Я сижу на корточках рядом с ним, пока призраки окружают нас, а Марифранс фотографирует. Больше никого нет на этой улице, такое чувство, будто мы последние люди в этом уголке Африки или даже во всем мире. Мухи и козы, выпотрошенные тележки, пластиковые бутылки, мусор – больше ничего.
Бой говорит, что когда-то отец называл его Аколем, но отец мертв, мать тоже, как и младшая сестра, старшая еще жива. Она готовит для командиров. Ночью ей позволено спать в бараках руководителей, сам он сворачивается в комок под пластиковым навесом между двумя стволами сухих деревьев.
Я спрашиваю его, знает ли он, что ЮНИСЕФ помогает таким детям, как он.
– А с ней что? – спрашивает он. – Что будет с ней?
Он боится, что ополченцы, которые обучили его, продадут сестру в Италию, если он больше не будет стрелять.
Думаю, тут я бессилен. Я больше не могу так. Я пытался снова и снова ухватить эту реальность и открыть ее тем, кто знает о войне лишь из телевизионных передач.
Все отворачиваются. Всегда отворачиваются, когда видят слишком много подробностей этой реальности.
И я понимаю почему.
Я отпускаю Аколя, и теперь у меня автомат без боеприпасов, Марифранс, которая словно окаменела, и двухчасовой пеший переход назад к лагерю. Марифранс отказывается снять тяжелый бронежилет с надписью «Пресса», чтобы я нес его, но благодарна, что я забрал ее зеленую сумку с фотоаппаратом.
Нас охватывает страх, он гонит нас прочь из этого слишком уж реального мира. Единственное, что нас объединяет в мире войны, не знающем закона, – это страх, словно тяжелая болезнь, от которой мы никогда не излечимся.
Ночью в палатке для прессы, в походной кровати с дополнительным одеялом из верблюжьей шерсти и двумя тонкими свечами Марифранс отказывается спать одна.
– Я хочу еще раз любить, прежде чем умру, – говорит она.
– Сейчас ты не умрешь, – возражаю я.
– Ты что, высокомерный мерзавец, не хочешь меня?
Не знаю, что такого важного люди находят в любви, когда, объятые страхом смерти, вспоминают именно о ней. Мне ближе надежный бронежилет и виски.
Когда я сообщаю об этом Марифранс, она начинает бить меня. Бьет по лицу и по груди до тех пор, пока я не хватаю ее за запястья и не прижимаю к себе. Марифранс плачет. Она смотрит на меня с такой нуждой и ненавистью, что я все же целую ее.
Такой вот момент.
Что?
Какой такой момент?
Эта мысль улетучивается, как только Марифранс отвечает на мой поцелуй. Она целует меня, и у меня такое чувство, будто с каждым поцелуем ей легче дышать. Я отвечаю ей, обнимаю, глажу по спине, и от моих прикосновений ее плечи расслабляются. Прикасаюсь губами к ее уху и что-то шепчу, целую ее шею. Как раз в тот момент, когда я хочу остановиться, так как она уже перестала плакать, ее руки обнимают меня и она притягивает меня к себе.
– Переспи со мной, – шепчет она.
И вот ее прикосновения прорывают мое одиночество и говорят мне, что и она одинока, и я не хочу снова обидеть или унизить ее, меня вдруг тоже охватывает непреодолимое желание жить, поэтому я и поддаюсь.
Я чувствую, как расслабляется ее тело, как она уступает мне, как теряется в своем желании. Я прогоняю поцелуями ее страх, тихо двигаюсь в ней, что-то напеваю, пою какую-то песню, прижавшись к ее щеке. «Somewhere over the Rainbow»[24]24
«Где-то там, за радугой» (англ.) – песня-баллада из киномюзикла 1939 года «Волшебник страны Оз».
[Закрыть].
Она освобождается.
Когда я чувствую эту нежность, это влекущее, манящее, сладкое наслаждение, которому отдается ее лоно, мне удается разглядеть истинную Марифранс. Я ей очень близок, невыразимо близок.
– Останься! – говорит она, когда чувствует, что я готов покинуть ее. Она прижимает мои ягодицы своими горячими руками. Есть что-то отрадное в том, чтобы лежать вот так.
Я чувствую, что все же должен выйти из нее, прежде чем окончательно забудусь. Это рефлекс, мы беззащитны, во всех смыслах: наши израненные души обнажены, мы молоды и…
– Кончай! – шепчет она. – Кончай! В меня.
Чуть дольше, чем нужно. Всего чуть-чуть.
В этот раз, думаю я, в этот раз надо поступить иначе.
Потом мысли теряются.
Я кончаю в нее, и у меня такое чувство, будто я сделал выдох, долгий, глубокий и освобождающий.
– Как же я тебя ненавижу, – стонет Марифранс в отчаянии и обнимает меня, и я понимаю, что мы никогда не любили друг друга и не будем любить.
Когда я ненадолго забываюсь глубоким сном, насколько это возможно в жаре, в настороженной атмосфере лагеря, прижимаясь к спине Марифранс, мне снится, что у нас сын. Он спрашивает меня, приду ли я к нему в школу на День отца и сына. Он меня еще ни разу не видел. Я обещаю ему прийти. И умираю, тону в реке, которая на вкус похожа на море.
Я ничего не рассказываю Марифранс об этом нелепом сне. Или об ощущении дежавю. О странном чувстве, будто я на перепутье. Будто я уже когда-то лежал в этой походной кровати, уже делал выбор, целовать Марифранс или нет. Кончать в нее или нет.
Через день мы летим через Каир в Париж. Марифранс засыпает у меня на плече, когда мы пролетаем над Средиземным морем; проснувшись, она чувствует неловкость и до конца полета прижимается к запотевшему иллюминатору.
Когда мы стоим друг напротив друга в аэропорту Шарля де Голля, в серовато-голубом свете, среди улетающих в отпуск, людей в костюмах, носильщиков и стюардесс «Эйр Франс» в коротеньких юбках-карандашах, я спрашиваю ее:
– Ты хочешь снова увидеться?
Марифранс пожимает плечами. Это могло бы значить: не знаю. Или: спроси еще раз.
Я не очень-то много знаю о ней. Ей двадцать семь, она не любит детей, ей нравится живопись, она никогда не пьет розовое вино.
– Ни к чему, – отвечает Марифранс, растягивая слова. Она убирает прядь волос за ухо и смотрит на меня своими большими, по-девичьи неуверенными глазами.
Я думаю об убийце, которого когда-то звали Аколем и который теперь потерял свою личность и превратился просто в мальчика-боя.
Думаю, что есть женщины, которые говорят «нет», желая, чтобы их уговорили. Потому что они не хотят быть теми, кто сказал «да» и проиграл.
Думаю о пути, который открывается только тогда, когда ступаешь на него. Как в фильме «Индиана Джонс».
Я перевешиваю тяжелую сумку на другое плечо. Чувствую, как во мне просыпается желание сбежать, развернуться и уйти. Быстро. Эта часть меня не желает ступать на путь, который открывается посреди толпы прибывающих и убывающих, заполняющей длинные коридоры аэропорта. Эта часть меня хочет одного – просто вернуться в Лондон, постирать белье, сходить в паб, напиться до потери чувств, потом месяц спать и снова сорваться куда-нибудь. Только не оставаться.
Так было всегда. Как только я проводил ночь с женщиной, то уже готовился бежать.
Я представляю, как просто все сложится, если мы больше никогда не увидимся. Облегчение и стыд в первый час будут сменять друг друга. Это простительно, большинство журналистов спят друг с другом в командировках.
Но Марифранс могла забеременеть. Нашим сыном. Возможно, она сделает аборт, потому что я трусливо брошусь на следующий рейс «Бритиш эйрвейз», где джин льется рекой, вместо того чтобы остаться с ней и завести семью.
Должно быть, я сошел с ума!
– Ну что ж, – говорит Марифранс и наклоняется, чтобы взять сумку с фотоаппаратом и походный рюкзак.
Сейчас, думаю я. Давай, Генри! Сделай все иначе. В этот раз поступи иначе.
Снова «в этот раз».
– Удачи, – бормочет она и слегка подается вперед – обязательные bisous[25]25
Поцелуи (фр.).
[Закрыть].
Легкий поцелуй в левую щеку, в правую.
Уйти?
Остаться?
Меня охватывает любопытство: какие совершенно новые возможности открылись бы передо мной, останься я в Париже с Марифранс, вместо того чтобы вернуться в Лондон или в Кабул. Внутренний толчок: ну же, давай! Проснись же наконец!
И…
Несмотря ни на что.
Не знаю, откуда взялось это «несмотря ни на что». Оно где-то рядом с «в этот раз».
Третий bisou, и я говорю Марифранс:
– Я бы очень хотел побыть с тобой еще.
Произношу эти слова и уже в этот момент понимаю, что это неправда.
Отгоняю страх. Это точно нормально, так чувствуют себя все мужчины, которые остаются в первый раз.
Она обнимает меня крепко, шепчет, не отпуская:
– Я все еще ненавижу тебя, но уже не так сильно.
Я пропускаю свой рейс на Лондон, не лечу в Кабул, а остаюсь в Париже.
Три месяца спустя Марифранс показывает мне фотографию с первого ультразвука.
– Я хочу оставить ребенка, но ты мне не нужен, – говорит она.
– Конечно не нужен, ты постоянно это твердишь, а я тем не менее остаюсь, потому что тебе не верю.
Она обхватывает меня обеими руками и отвечает «ты прав», но никогда не говорит, что любит меня, она не может, и я тоже.
Теперь я знаю Марифранс достаточно хорошо, чтобы понять, что она проверяет мои чувства к ней. Постоянно. Ей нужны доказательства того, что я хочу ее.
Она отсылает меня каждый раз, чтобы я мог вернуться. У нас почти любовь, но все же мы оба знаем, что не любим друг друга.
Той ночью свершилось чудо.
Наш сын, Сэмюэль Ноам, сын страха.
Что до́лжно было с этим чудом делать, как не оставаться рядом? Мы и оставались.
Марифранс поставила лишь одно условие: «Когда ребенок родится, не ходи больше на войну. Я не хочу, чтобы он боялся за тебя».
Я держу свое обещание.
Три с половиной года я убеждаю Марифранс, что останусь с ней, хотя она твердит, что не желает этого. Она получает премию за ту фотографию с бусами Нельсона из ракушек, я – полставки в «Ле Монд». На войну я больше не езжу.
Сэмюэль чувствительный ребенок. Марифранс порой впадает в отчаяние, когда этот кроха-воробей вдруг отказывается продолжать путь или поднимает крик, если нужно зайти в незнакомое помещение. И все же она неутомима, встает по ночам, когда ребенок просыпается от ночных кошмаров, показывает на тени и жмется в самый дальний уголок своей кроватки. Она носит его на руках, утешает, но не знает того, что знаю о кошмарах я. Вскоре я перебираюсь в комнату Сэмюэля. Марифранс ревнует, но все же благодарна, что мне легко дается забота о нашем сыне. Ее благодарность оборачивается нежностью, и у нас то и дело случаются прекрасные моменты. Мне Сэм никогда не в тягость. Он долго не может научиться правильно говорить, а когда говорит, то выходит нечто странное, так считают воспитатели в детском саду, логопед тоже обеспокоен, только я не вижу в этом никакой невнятицы, его речь немного напоминает тибетский. Кажется, будто во сне он учит слова, которые очень логично объясняют вещи из его ночных странствий. Вот только тут, в реальности, этот язык не понимают.
Марифранс спит со своим шефом. Его жена рассказывает мне об этом, она даже предлагает нам завести интрижку – «чтобы соблюсти равновесие, mon cher»[26]26
Дорогой (фр.).
[Закрыть]. Но я думаю о Сэме и о том, что он очень сильно реагирует, когда чувствует усилия матери скрыть от нас обоих то, что ее одновременно и радует, и огорчает. Да, Сэм чувствует свою мать и сочувствует ей; возможно, это тоже причина, почему я не таю зла на Марифранс: сын учит меня сопереживать. Когда Марифранс кажется неприступной, он не упорствует, а отвечает ей любовью. Подходит на своих пухлых ножках и забирается на стул, чтобы погладить ее по щеке. Иногда у меня возникает чувство, что он подхватывает ее чувства, как насморк.
Я не соглашаюсь на интрижку с женой шефа Марифранс.
Какое-то время я наблюдаю за Марифранс. За тем, какие отговорки она придумывает. Как лжет о том, где задерживается по вечерам. Она, как и многие женщины, совершает ошибку – спит со мной чаще, чем прежде. Будто каждый законный час, проведенный со мной, компенсирует запретные часы, проведенные с ним. Ее противоречивость трогает меня. Порой мне хочется пристыдить ее, но в конце концов я желаю лишь, чтобы мы хоть раз были честны друг с другом.
В большинстве случаев я отказываюсь от секса с ней, и она чувствует облегчение и одновременно тревогу, недоверие.
– С кем же ты спишь, если не спишь со мной? – спрашивает она месяца три или четыре спустя после нашей последней близости.
– А ты? – задаю ей встречный вопрос. – Все еще с Клодом?
Она шепчет: «Ненавижу тебя», и я даже понимаю почему. Мы ненавидим тех, кому наше предательство не причиняет боли. Но мне и правда не больно. Для меня это не имеет большого значения, я даже надеюсь, что она любит его, ей было бы полезно любить.
Она страдает оттого, что я не люблю ее, но чудо, произошедшее с нами, все еще имеет силу. Чудо рождения ребенка, пусть даже Сэм оказался для нее более чуждым, чем для меня.
Полагаю, если бы ее шеф Клод завтрашним утром развелся со своей женой Шанталь, Марифранс уже вечером перебралась бы к нему. Но Шанталь не облегчает своему мужу жизнь, как я – Марифранс.
Я бесконечно люблю Сэма, он чудо нелюбви между мной и Марифранс, и порой, когда Марифранс приходит домой уставшая и расслабленная и от нее пахнет белым вином, туалетной водой Клода, стиральным порошком, каким ароматизируют кровать в отеле, в которую они ложились, я тихо встаю и вместо всего этого смотрю на спящего Сэма.
Вот, значит, смысл жизни.
Я в первый раз понимаю мужчин, которые не уходят из семьи, даже если уже не желают своих жен. А все потому, что есть эти маленькие люди. Эти крошечные создания без фальши и лукавства. Любить которых так легко и неисцелимо.
Восприимчивость Сэма к миру столь высока, что пока он не может противопоставить ей ничего, кроме крика, сна или бегства.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































