Читать книгу "Исход"
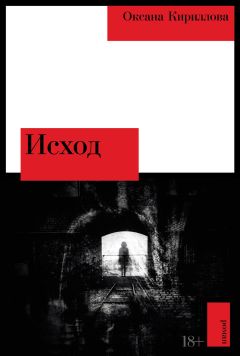
Автор книги: Оксана Кириллова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Германия проиграла войну, это ясно, и лично у меня нет никаких шансов. Союзники считают меня одним из главных военных преступников уже сейчас. Когда они доберутся до наших документов или просто пересчитают по головам оставшихся, мне крышка.
Мы продолжали смотреть друг другу в лицо.
– Все твои слова о благодарности Европы после того, как уляжется пыль военного времени…
– …не стоят и выеденного яйца, – кивнул он, – но что еще я могу говорить? В любом случае мне не в чем себя упрекнуть. Я преданный солдат своего фюрера и всегда на сто процентов отдавался делу. Я никогда не отлынивал.
Эйхман перевел взгляд на дорогу, ведущую в лагерь от станции. По ней медленно двигалась колонна только что прибывших заключенных. Они еще были в гражданской одежде.
– Посмотри туда, – проговорил он.
Я проследил за его взглядом:
– Что там? Толпа евреев идет к крематорию.
– Вот именно. Они идут… сами. А отвечать мне.
Он развернулся и пошел обратно в комендатуру.
Я снова закурил и посмотрел на заключенных.
Уже через неделю лагерь сотрясло небывалым потоком узников. То, что происходило в течение предыдущих месяцев и казалось мне небывалым, померкло в сравнении с тем, что лагерь испытывал в дни венгерских депортаций. Транспорты шли один за другим, выплевывая на платформу в Биркенау толпы ошалелых и ничего не понимающих евреев. Команда Эйхмана чистила Венгрию по четко намеченному распорядку: вначале поезда шли из Карпатской Руси, затем из Трансильвании, потом – эшелоны из Северной Венгрии, далее из Южной и, наконец, из западной части страны. Для работ отбирали лишь малую часть – иногда всего тридцать процентов из целого эшелона, порой не доходило и до десяти. Остальных без промедления отправляли в газовые камеры.
И эсэсовцам, и рабочим командам приходилось трудиться круглосуточно в три смены, камеры и крематории не простаивали ни минуты. Но мощностей не хватало. Состав зондеркоманд увеличили в четыре раза, теперь в крематориях работали девятьсот человек, но и они едва справлялись с нагрузкой.
– Наша авиация приказала долго жить. Американские бомбардировщики практически уничтожили предприятия, которые производили горючее. Шпеер кинул все силы на восстановление, но топлива для люфтваффе фактически нет. Дефицит сырья колоссальный.
Мы стояли с Габриэлем на платформе в тени каштанов, наблюдая, как из вагонов выходили люди. Их лениво теснили конвойные, изнывавшие от жары в полном обмундировании. Габриэль достал манерку, предложил вначале мне, я отказался, он сделал глоток. Я вытащил платок, утер пот и произнес:
– Нам еще повезло, что они только сейчас догадались бомбить нас из производственных соображений.
Впрочем, серьезный урон нашим военным заводам был нанесен еще прошлой весной, когда стало гораздо больше англо-американских бомбардировок, но тогда это ощущалось не так катастрофично, ведь фабрики Северной Италии, Бельгии, Франции и Чехословакии продолжали выдавать норму на благо рейха.
– Какая разная война, – усмехнулся доктор. – Стрельба где-то там, на территории противника, – это одна война, но бомбы над собственной головой – совершенно иная война. Мы легко согласились на эту славную военную авантюру во имя великой цели. Ведь тогда она требовала от нас лишь потуже затянуть пояса для снабжения святого воинства, которое ушло куда-то в закат. Но, когда этому воинству дают пинка под зад и гонят обратно, тут-то мы и вспоминаем о том, что война – самое бесчеловечное занятие, которое нужно прекратить сей же час каждому цивилизованному человеку.
– Вы вспомнили, Габриэль? – Я даже не пытался скрыть усмешку.
– Безусловно! – и не думал отпираться он. – Я первый готов кричать об этом, размахивая белым флагом. Жизнь слишком прекрасна, чтобы так бездарно разбазаривать ее. Но, глядите, чем ближе мы к тотальному краху, тем грандиознее планы, которые строят наши ведомства. Время ли размышлять о наращивании производства? Думать надо о том, в какую сторону отправить первого гонца: на Запад или на Восток! И я склонен считать, что переговоры с Москвой будут продуктивнее, чем с Лондоном. Черчилль слишком любит демонстрировать свою любовь к правде, Сталин же человек практичный, с ним фюрер всегда сможет найти общий язык. Я почему-то уверен: среди высшего руководства немало настроенных прорусски, хотя, безусловно, антибольшевистски.
Я не хотел вступать в политические рассуждения.
Толпа продолжала стекать с платформы, словно не было ей конца. Я переводил взгляд с одной фигуры на другую, они постепенно сливались в один сплошной поток.
– Опять это лопотание, – устало проговорил я.
– Мадьярский язык весьма занятный.
– Вы их понимаете?
– Нет, что вы. Очень сложный язык, настоящий вызов для полиглота.
– Вызов для нас сейчас – эти бесконечные транспорты.
– Вы в курсе, что нам не хватает «Циклона»? – спросил внезапно доктор.
Я покачал головой.
– Газовые камеры не простаивают ни часу, значит, где-то его достают…
– Да, – кивнул Габриэль, – не простаивают. Но в целях экономии приказано сократить дозу. То количество, которое засыпали раньше, убивало довольно быстро, теперь же они… скажем так, процесс затянулся. Они долго находятся в сознании.
Я ничего не сказал. Впился взглядом в толпу, разглядывая измученные жарой и дорогой лица. Всем хотелось поскорее достичь блаженной прохлады душевых, после которых им были обещаны отдых и обед.
– Кто знает, возможно, среди этой толпы родственники тех, кто воюет за нас, – задумчиво проговорил Габриэль. – Вы знали, что Венгрия отправила нам в помощь на Восточный фронт солдат-евреев? Интересно, эти солдаты в курсе?..
– Весь мир уже в курсе, – с откровенной злобой проворчал я. – В любом случае венгры не такие уж и святоши, какими пытались казаться. Хорти[9]9
Миклош Хорти (1868–1957) – регент Венгерского королевства в 1920–1944 гг.
[Закрыть] – он же и вашим и нашим. Слышал, он тайно обсуждал перемирие с союзниками.
Габриэль медленно закивал.
– Кстати, сегодня дочитал «Дона Карлоса»[10]10
«Дон Карлос, инфант испанский» (1787) – драматическая поэма Фридриха Шиллера в пяти актах.
[Закрыть], которого вы мне дали, – вспомнил он. – Заставило поразмышлять о развращающем влиянии власти. Почерпнул еще одну цитату, которая примиряет с действительностью. «В этом мире никому не дано остаться безгрешным. Каждый человек неизбежно совершит грех».
– Что ж, автор был прав. Но вопрос насчет сознательности по-прежнему остается открытым.
– Вы правы, заметить и осознать – два разных качества ума.
На жаре снова начинала болеть голова. В последнее время это все чаще беспокоило меня.
– Вы слышали? Наше военное производство переводят под землю, – произнес я, пытаясь отвлечься от тягостного нытья в затылке и висках.
– Весьма грамотный шаг… – Габриэль кивнул, задумчиво разглядывая толпу, – …был бы в сорок первом.
Я не сумел сдержать улыбки, хоть его речи и навевали тоску. Доктор продолжал рассматривать выходящих из вагонов: ему необходимо было подготовить отчет об общем состоянии прибывших евреев, почти все из которых будут признаны «непригодными к работе». Габриэль имел соответствующее распоряжение.
– Тогда наша скорая победа ни у кого не вызывала сомнений, – резонно заметил я.
– У некоторых индивидуумов она и поныне не вызывает сомнений.
– Нужно отдать должное Геббельсу: он не опускает рук.
– Нужно отдать должное массовому помутнению рассудка. Все верят, что рабочих рук у нас в избытке и военное производство на плаву, а пресса только подпитывает эти сладкие заблуждения. А между тем Шпеер в отчаянии дерет волосы на собственной заднице.
Мы оба знали, что людей не хватало не только для наращивания производства, но даже для того, чтобы латать его после разрушений. Держать Европу в тисках становилось все сложнее, все потуги Заукеля по добыче иностранной рабочей силы приносили все меньше пользы.
Габриэль многозначительно посмотрел на меня, затем кивнул на толпу людей, бредущих к крематориям:
– Они уже здесь, и у них так же две руки и две ноги, как и у тех, кого пытается заманить сюда Заукель. Заодно была бы решена и проблема нехватки «Циклона». – Кажется, последнее было произнесено с некой долей сарказма.
Я устало вздохнул:
– Они евреи.
Впрочем, Габриэль и так все осознавал. Он знал, сколь долго и безуспешно я бился над разрешением противостояния между хозяйственниками и службистами безопасности, где вторые, как цепные псы, были нацелены на окончательное уничтожение евреев, как будто временное их спасение несло опасность бóльшую, чем полный крах нашего производства. Впрочем, сейчас это касалось только венгерских партий. Уж не знаю, чем именно они выделились. Но остальных все-таки начали направлять на работы. За последние шесть месяцев построили даже больше рабочих лагерных филиалов, чем за предыдущие три года. Однако рацион заключенных снова урезали. Некоторые получали меньше семисот килокалорий в день. И это те, кто был задействован на тяжелых работах. На таком пайке в большинстве своем они были способны работать лишь на треть от своих возможностей. И в такой патовой ситуации коменданты вполне объяснимо не видели никакой выгоды в сотрудничестве с промышленниками. Как это ни прискорбно, но тут я понимал Хёсса.
– Эйхману следовало сосредоточиться исключительно на тех, которые способны трудиться. А он, судя по всему, опять идет на поводу у местного правительства, которое пытается впихнуть ему всякий сор, – Габриэль кивнул на толпу.
Согласно директивам, предельный возраст присылаемых нам евреев был шестьдесят лет, все должны были быть трудоспособными, а главное, никаких женщин и детей – насколько я знал, Хёсс лично условился об этом в Венгрии, – но Габриэль был прав: везли всех без разбора. Эйхман все валил на венгерскую жандармерию, но я был уверен, что он и сам был не против спихнуть нам всех скопом.
– Боюсь, как бы к этому потоку не присоединились еще и словацкие евреи. Слышал, что Веезенмайер[11]11
Эдмунд Веезенмайер (1904–1977) – бригадефюрер СС, чрезвычайный и полномочный посланник Третьего рейха в Венгрии с неограниченными полномочиями.
[Закрыть] параллельно ведет переговоры в Словакии о включении их евреев в венгерские операции, но Тисо[12]12
Йозеф Тисо (1887–1947) – римско-католический священник, теолог, президент Первой Словацкой республики. Не скрывал своих антисемитских взглядов, подписал закон о депортации евреев.
[Закрыть] пока непреклонен.
Доктор Линдт поморщился.
– Нет ничего хуже этих фашиствующих клерикалов. Их руки по локоть в крови, но каждый день они усиленно обмывают их святой водой и обтирают о сутану. Уверен, на самом деле он бы и рад в очередной раз отгрузить нам партию евреев, но, кажется, Ватикан наконец надавил на одного из своих сынов.
– Он заставил понервничать Эйхмана.
– Вы про то, как он усиленно сбагривал нам евреев, да еще и требовал гарантий, что они больше никогда не вернутся в Словакию? А потом внезапно потребовал предоставить этих «переселенцев» живыми и здоровыми? О да, эта история многих позабавила. Положение обязывало играть плохой спектакль, – улыбнулся Габриэль и задумчиво добавил: – Думаю, скоро всем нам предстоит стать профессиональными актерами. Как у вас с лицедейством, гауптштурмфюрер фон Тилл?
– Отвратительно, – честно признался я.
– Вам нужно было взять несколько занятий у Римана[13]13
Йоханнес Риман (1888–1959) – известный немецкий актер, приезжавший в лагеря Освенцим и Штуттгоф со своими концертами. Состоял в НСДАП.
[Закрыть], когда была такая возможность, – усмехнулся доктор.
– Многим следовало это сделать. Как только пришло осознание.
Габриэль посмотрел на меня.
– Вы об Эйхмане? Думаю, к нему осознание пришло еще после Сталинграда, когда Антонеску[14]14
Йон Антонеску (1882–1946) – премьер-министр и кондукэтор (вождь) Румынии.
[Закрыть] отказался выдавать ему своих евреев и болгары вдруг тоже возжелали защищать своих. Все вдруг попытались восстановить разрушенные мосты. Но Эйхману по ним, увы, никогда уже не перейти обратно, сколько бы уроков Риман ему ни дал.
– При Сталинграде Эйхман потерял своего младшего брата.
– В катастрофе Сталинграда каждый из нас кого-то или что-то потерял.
– А лично вы?
– Последние иллюзии касательно нашей победы.
По лицу Габриэля чиркнула тень, он вскинул голову. Широко раскинув крылья, над нами парила крупная птица. Протяжно крикнув, она изменила траекторию полета и поплыла по небосводу в сторону горных очертаний. Я провожал ее взглядом.
– Как бы то ни было, по какой-то извращенной логике Эйхман все-таки счастливый человек: он начал истово верить в то, что делает. Ведь только в таком случае мы получаем истинное удовольствие от своего существования, как уверяют мозгоправы.
– Что ж, скоро все останется в прошлом.
Габриэль покачал головой:
– Боюсь, масштаб нашего творения таков, что забвение в веках нам не грозит.
– Как это стало возможным, доктор Линдт?
– Нигде не было отказа. Я… я тоже в какой-то мере… я хотел, чтобы они исчезли… умерли, да, возможно. Но я определенно не хотел убивать.
Габриэль перевел на меня отрешенный взгляд.
Лагерный оркестр, обряженный зачем-то в синие матроски, беспрерывно играл отрывки из «Веселой вдовы» Легара. Под звуки оперетты венгерские колонны медленно текли к крематориям. Длинные составы без устали извергали измученную и озадаченную людскую массу и с опустошенным нутром возвращались обратно в Венгрию за добавкой. Только за май было собрано и отправлено в рейх сорок один килограмм коронок из драгоценных металлов. Из всего вала цифр и фактов, которые из документации просачивались в эти дни в мой разум, мне отчетливо запомнились именно зубные коронки.
В день мы принимали от двух до четырех транспортов, в самые тяжелые доходило до пяти. Некоторые эшелоны насчитывали до пятидесяти вагонов. И все они были забиты людьми и их скарбом. Я видел, что многие охранники и конвоиры уже едва стояли на ногах от усталости. Измученные, они с каждым днем зверели все больше, нарушая строгий запрет на насилие прямо на платформе. Распоряжение было отдано во избежание паники: сложно было представить, что могло случиться, если бы эти тысячи прибывших вдруг решили дать отпор. Но, к счастью, несмотря на вспышки жестокости среди охранников, прибывшие в массе своей продолжали утекать в крематории без эксцессов. В раздевалках не успевали убирать вещи и новую партию заставляли раздеваться, стоя на пожитках предыдущей, пока еще одна ожидала своей очереди в лесу между третьим и четвертым крематориями. Пытаясь сохранить хоть какой-то порядок, Хёсс постоянно ездил в Будапешт, чтобы воспрепятствовать самовольному увеличению утвержденных эшелонов со стороны Эйхмана. Но все равно бывали дни, когда количество поездов превышало установленную норму. Тогда ничего не оставалось, как держать запломбированные вагоны на боковых путях, пока не заканчивалась разгрузка предыдущей партии.
Приходили вести, что русские уже подошли к восточной границе Венгрии. От этих новостей охранники приходили в еще большую ярость, нежели от количества эшелонов. Я подозревал, что этой яростью они маскировали обыкновенный страх.
Через несколько недель из-за чудовищных перегрузок одна за другой ожидаемо начали перегорать печи. Тогда в дело вступили рвы, приготовленные загодя. Огромные костры горели днем и ночью, распространяя на многие километры вокруг нестерпимое зловоние. В ядовитом дыму все мы оказались равны: одинаково задыхались и заключенные, и охрана, и высшее руководство лагеря.
Вернувшись после очередной поездки в Будапешт, Хёсс пригласил меня на чай. Как я сразу понял – жаловаться.
– Эйхман окончательно сошел с ума со своей миссией и не видит берегов! Потом весь мир будет верещать о моем животном желании убивать, в то время как у меня нет никакого другого выхода! Эйхман шлет совершенно бесполезный сброд в плане рабочих рук! Идиот, он, похоже, не осознает, что первый же и встанет к расстрельному рву, если мы проиграем! Глупый беспринципный павиан! Нет, Венгрия из нас все жилы вытянет!
Давно я не видел Хёсса в такой ярости.
– Многие из тех, кого мы отправляем в газ, в состоянии работать – как женщины, так и мужчины, – возразил я, – да и многие пожилые в неплохой форме.
– Нет-нет, – он тут же замотал головой, – я их видел: совершенно непригодный материал. Я еще молчу, что потребность в охранном пополнении колоссальная. Все достойные охранники на передовой! А вермахт присылает нам откровенное отребье. Большинство из них резервисты под пятьдесят. Если так пойдет и дальше, то к концу года больше половины лагерной охраны будет состоять из этих стариков. Им не под силу лагерная служба! А многие даже в партии не состоят. Образ идеального политического солдата… элита нации… где это все?
– Приказало долго жить под давлением реалий. – Я пожал плечами. – Кого еще они могут прислать?
Хёсс был прав. Лагерям теперь оставалось довольствоваться теми, кого больше нельзя было использовать на передовой: ранеными, контужеными или стариками, не способными более держать оружие. Сюда еще можно было добавить разжалованных, которым раньше никто из нас и руки бы не подал, и иностранцев, едва способных связать два слова по-немецки. Ах да, еще маргиналы и уклонисты, которые и сами заслуживали треугольника на груди.
Хёсс сокрушенно качал головой:
– Все принципы Эйке, идеологическая подготовка – все забыто и попрано! Принимают даже гражданских, видел? Таможенников и железнодорожников. Они не только позволяют себе разговоры с заключенными, но даже их жалеют! Они поддерживают режим скорее из страха.
– Не стоит льстить режиму, Рудольф, страх был всегда. Боюсь, все идет к тому, что это и останется высшим достижением режима.
Хёсс посмотрел на меня и с горечью усмехнулся:
– Сейчас уже никто не стесняется в выражениях. Все осмелели.
– Эти ветераны многое понимают. Они осознают, что конец близок. Думаешь, почему они не желают менять солдатский мундир на эсэсовскую форму? Она для них своего рода метка, от которой теперь лучше избавиться.
– Но на что они надеются, пытаясь дистанцироваться от лагеря в самом же лагере?!
– Как минимум – не поменяться с узниками ролями. А еще лучше – купить обратный билет в послевоенный мир. Нам с тобой его, увы, не продадут. – И я торжественно приподнял чашку, показывая, за что пью. Жаль, в ней был не хороший коньяк, а всего лишь чай.
– Проблема в комплектовании стоит остро на всех уровнях, – не унимался Хёсс.
Он упорно не хотел замечать моего состояния и явного нежелания обсуждать все это всерьез. Я даже не пытался скрыть полнейшей скуки на лице.
– Это касается не только охранной части, но и административной, – продолжил он, с трудом справляясь с негодованием, которое начало меня забавлять, – заключенных теперь приходится привлекать даже к бумажной работе с нашей внутренней корреспонденцией. А ведь нельзя, чтобы они знали, что происходит на фронте. Это даст им надежду… Понимаешь, о чем я говорю? Если они осознáют, что наше поражение всего лишь вопрос времени, эти полутрупы выживут хотя бы для того, чтобы поглядеть, как нас растерзают победители.
– Стимул достойный, – кивнул я.
Хёсс помрачнел.
3 мая 1994. Тетради
Старая посылочная коробка с фанерными боками была покрыта толстым слоем пыли. Крышка вздулась, чернила на криво приклеенной адресной бумажке расплылись. Разобрать написанное было уже невозможно.
Лидия подцепила отверткой крышку и откинула ее. В лицо ей пахнуло сыростью. Внутри лежали раздувшиеся, скрученные влагой и плесенью черные тетради.
– Крыша у нас текет, по весне особенно подмачивает, – со вздохом проговорила Раиса, – перестилать надо, да где наберешься? Ни шифера, ни железа не достать. Есть люди, да через них дорого выходит. Да впрочем, – усмехнулась вдруг она, – чего жаловаться?! Бабка, помнится, говорила: до тех пор, пока выкидываем жмых из соковыжималки в мусор, жизнь у нас хорошая. Как начнем и его жрать, значит, всё… Узнала потом, что в голодный год мать гоняла ее, маленькую, к фабричной трубе: по той трубе сбрасывали в реку свекольный жмых после переработки. Полдеревни тем жмыхом кормилось…
Лидия не слушала ее, и Раиса принялась копаться в вещах по своим надобностям. А Лидия торопливо достала тетради и разочарованно рассматривала листы – когда-то размокшие, затем иссушенные до скрипа духотой летнего чердака. Через такой цикл они проходили, судя по всему, на протяжении многих сезонов. Страницы были в сплошных бледно-синих разводах, сквозь которые пробивались отдельные буквы, а то и целые слоги. Быстро, но внимательно пролистав четыре тетради, Лидия взяла пятую, лежавшую на самом верху. Она была не так сильно скручена, как остальные, хотя страницы тоже были волнообразные и вздыбившиеся. Лидия раскрыла ее и сглотнула мелкий твердый ком, заскребшийся в гортани, – примерно с середины начинался вполне читаемый текст.
Глаза ее жадно побежали по ровным, плотно теснившимся друг к другу строчкам.
«…ужасаетесь, волосы, говорите, дыбом, негодуете. Не то, все не то. Смакуете. Зрелище-то, откровенно говоря, первоклассное: кровавое, бесчеловечное, грандиозное, а что еще надо? Пожалуй, порадоваться, что не вас замесило. А то бы не уклонились, правду говорю. Я теперь не лгу, нет нужды.
Вы знаете, что творили победители со своими же женщинами после войны, с теми женщинами, которые легли под немецких офицеров во время оккупации? Их брили налысо и голыми гнали через весь город. Признавали их детей – “нацистскую икру” – неполноценными. Но вы же сами рисовали нас чудовищами, так разве могли эти женщины отказать “чудовищу”, не рискуя получить пулю? Они такие же жертвы, как вы, если не более. Но вы над ними издевались, не желая копать неудобную суть. Вы издевались в своих колониях над коренным населением, ныне вы издеваетесь над теми, кого считаете своим врагом, в конце концов, вы издеваетесь над теми, кто просто слабее вас, вы издеваетесь друг над другом и даже над собой, когда нет власти над другими. Такой наш вид: бóльшую часть времени тратим на противодействие, а не взаимодействие. И противодействуем всему: природе, друг другу, даже себе. Такая уж суть человека, и с этим ничего не поделать. И неважно, кто начал войну, чем она закончилась. Эти войны без особых причин идут от сотворения мира. И эта война, и все прошлые и будущие – лишь повод для того, чтобы явило себя естественное нутро человека, его природа во всей своей интимности. И чтоб погодя взглянул человек на себя и вспомнил, что он есть такое. И не заблуждался.
Недавно в газетах писали об американском докторе, который провел один опыт. Добровольцев разделили на две группы: на охранников и на заключенных. Все сделали как будто по-настоящему: заключенных посадили за решетку, охранникам выдали дубинки и форму. Никакой специальной задачи им не дали, просто одним нужно было коротать время в клетках, другим – следить за ними. И все. Охранников не заставляли мучить и бить, им это даже было строго запрещено. И тогда они стали выдумывать, какие наказания можно устроить, не нарушая условий эксперимента. Они издевались словесно, унижали морально, отбирали постельные принадлежности, надевали мешки на голову, изводили физическими упражнениями и бессмысленными заданиями, но, главное, они сами, без подсказок, начали стравливать заключенных между собой. По древнему принципу “разделяй и властвуй”. О, эти “охранники” оказались очень изобретательны, чтобы превратить жизнь “заключенных” в ад. А сами “заключенные” действительно стали заключенными. Морально угнетенные, легко покоренные, смирившиеся со всем, они даже не думали давать отпор, пассивно подчиняясь любым сумасбродствам людей в форме. А ради возвращения теплого одеяла и возможности помыться они начали стучать друг на друга “охранникам”. Образованные интеллигентные американцы из приличных семей, жили в благополучных районах, учились в университете. И вот они пришли просто поучаствовать в научном эксперименте, чтобы подзаработать деньжат и разнообразить скучные каникулы. А уже через четыре дня позабыли обо всех своих гражданских и человеческих правах и покорились авторитарной системе, выдуманной и воспроизведенной в экспериментальном подвале их престижного университета. За четыре дня потеряли всякие моральные ориентиры.
Что до “охранников”: каждый из них перед началом опыта сказал, что считает себя человеком добрым и неспособным причинить вред другому. А потом они начали чувствовать это… Оно завладело ими. Манипулятивная власть, тотальный контроль – сильнейший яд, который может вытравить всякое нормальное человеческое в ком угодно. И вот бывший пацифист в первый день извиняется, что случайно задел локтем “заключенного”, а на четвертый день колотит дубинкой по решетке, чтобы запугать и показать, кто здесь хозяин. Он оскорбляет и размазывает еду по лицу “заключенного”. И заставляет изображать половой акт на полу, чтобы унизить еще больше.
Вот так и закончили эксперимент раньше срока. Когда “охранники” пришли в себя и морок вседозволенности спал, они ужаснулись! И не могли поверить, что творили такое. Я внимательно слушал их интервью – о, я их понимал! Этих вчерашних детей, не осознавших, что такое с ними сейчас произошло: “Я заставлял их оскорблять друг друга и чистить туалеты голыми руками. Я на самом деле стал считать «заключенных» скотами”. “Я получал удовольствие, унижая и наказывая «заключенных», но мне это совершенно несвойственно… Я удивлялся сам себе… Я начал злоупотреблять своей властью. Это был результат полной свободы, понимаете?” О да, я понимаю вас, дети!
Одним из самых жестоких “охранников” был восемнадцатилетний паренек, первокурсник, самый младший участник эксперимента, из семьи ученых, мечтавший стать социальным работником. Позже он признался, что, творя гнусности, он просто хотел понять, где та черта, после которой “заключенные”, не будучи настоящими преступниками, огрызнутся и попытаются поставить его на место. Он ждал, когда же, черт подери, они запротестуют. Но никто не запротестовал. Власть “охранников” становилась жестче, а требования сумасброднее. При этом “заключенные” действительно страдали в ходе эксперимента. Во время интервью тот парень-“охранник” разревелся. “Почему никто ничего не говорил, пока я их оскорблял? Я говорил гадости, а они все равно молчали. Почему?” Действительно, почему? Ведь численный перевес был на стороне “заключенных”: девять против двух в смену. Их оскорбляли и унижали без каких-либо объективных причин, а они даже не помышляли дать отпор.
Еще немного, и у этого американского психолога случился бы свой маленький Дахау. Но эксперимент пришлось прекратить раньше времени. Через шесть дней! Понадобилось всего шесть дней, чтобы вырвалось наружу садистское нутро одних и воссияла овечья покорность других. По всем показателям это были совершенно обычные адекватные люди без всяких признаков психопатологий, они были выбраны, потому что были… нормальными. Нормальными! Как он, она, ты, твои родители, друзья, дети и миллионы людей вокруг. Но шесть дней случились. И они стали нами. Я хочу, чтобы вы поняли, между нами не пропасть, а всего лишь несколько шагов.
Всего шесть дней того, что мы жрали годами… Не будь этих шести дней, познали бы они себя так же? Это вряд ли. Продолжи тогда психолог свои изыскания, он рисковал получить уже самых настоящих психопатов с эмоциональными и когнитивными расстройствами да ворох судебных исков.
Еще один момент: экспериментатору нужно было поделить это усредненное общество на две группы. Но как? Между ними не было никаких различий! Более того, почти все хотели примерить на себя роль “заключенного” – это казалось им веселее, ведь они воспринимали все происходящее как игру. И тогда их роли распределил слепой жребий! Все решил случай. Как и в моей жизни.
И меньше чем через неделю люди, между которыми не было никаких различий, уже не имели ничего общего друг с другом. Чувствуете этот страшный момент?
И мой жизненный эксперимент, и эксперимент того американского ученого доказывают одно: мы все по натуре и жестокие садисты-надсмотрщики, и жалкие заключенные. Мы полагаем, что внутреннее чувство справедливости, знание законов праведного человеческого бытия, врожденный такт, этика, добродетельность, интеллект, здравый смысл, наконец, – все это надежно удерживает от падения в пропасть темного и первобытного. Но то, во что мы так усиленно верим, легко рушится под определенным влиянием. Назовите это влияние дурным, преступным, негативным – как угодно. Суть в том, что нас формируют и трансформируют лишь обстоятельства, а не изначально дурная и порочная натура. Пожалуй, у нас и вовсе нет свойств, мы не плохие и не хорошие. Обстоятельства решают, какими нам быть сегодня.
Я знаю, о чем говорю: это происходило на моих глазах. Большинство из нас не были жестокими убийцами по сути, но играли роли таковых. И едва спектакль под названием “Третий рейх” прекратился, как все с легкостью (а многие и с облегчением) вышли из этих ролей. Ведь там мы не сами определяли себя – нас определяли лагерь, рейх, отделение гестапо… И это не оправдание – мы сами же и создали рейх, лагерь и гестапо! Это надо осознать: мы своими руками учиняем то, что затем и формирует нас! Мы приезжали в Дахау и в первый день блевали при виде избиений, но через некоторое время избивали сами. Вопрос в том, в какую группу тебя определит слепой жребий и какого тебя обстоятельства вытащат наружу. Я мог родиться в семье евреев и прошел бы сквозь все ужасы, а потом недоумевал бы, как можно было уродиться такими жестокими… А та несчастная еврейка, прошедшая лагерь и вынесшая оттуда в животе дитя страшное и надломленное, могла родиться в семье чистокровных немцев и стать надзирательницей. Лишь немногие из нас способны противостоять чужой воле, если она диктуется сверху. Или вы верите, что пошли бы против закона, если он преступный? Не стоит себя переоценивать. Вы будете считать, что являетесь исключением из общего правила, – до тех лишь пор, пока не попадете под влияние обстоятельств. А когда все закончится, вы ими же себя и оправдаете. Убийство из страха, людоедство из голода, избиения из справедливой мести, уничтожение во имя веры – и каждый верит, что у него есть оправдание и это не является злом в чистом виде, ведь все это “из-за” или “во имя”. Но, как я уже сказал, зло – качество не врожденное, с молоком матери не передается и в утробе не формируется. Оно приобретается – нужны лишь подходящие условия, которые вскормят его и дадут окрепнуть.
К вашему счастью, нынешняя жизнь не предполагает таких критических условий для столь тесного знакомства с собой. И в этом вам повезло. Узнать о себе правду – испытание не из легких, с этим потом придется жить до конца. Поэтому наслаждайтесь мыслью, что уж вы бы никогда не плюнули в спину еврею, не заставили бы его нацепить желтую звезду, не работали бы секретарем в газете, которая публиковала антиеврейские законы, не подрабатывали бы в лаборатории, которая производила “Циклон”, не служили бы стрелочником на железнодорожных путях, по которым поезда двигались в лагеря, и уж точно никогда бы не сели за руль грузовика, который ехал к крематориям. Критикуйте тех, кому выпало оказаться не в том месте и не в то время. А вы бы никогда. Впрочем, недолго осталось. Скоро упокоятся последний выживший в лагере узник и последний охранник, истязавший его, и эта история окончательно станет прошлым. Злодеянием, на которое были способны дикари старых времен, которые, в свою очередь, то же говорили про дикарей, живших до них.









































