Текст книги "Исход"
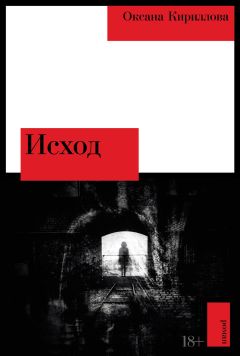
Автор книги: Оксана Кириллова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
До самого вечера нас не пускали в барак, держали в карантинном секторе. А потом, после вечернего аппеля, я впервые попала в барак. Деревянный гроб с нарами, и в нем тысяча женщин. На каждой полке по четыре-пять таких же, как ты, тоже лысых и голодных. И каждая хочет урвать кусок грязного одеяла и лишний сантиметр на тюфяке. Я приткнулась на какой-то нижней полке и накрылась халатом. Тут как раз заорали: «Отбой, суки! Вши уснули, и ваш черед!» Погасили свет. Я закрыла глаза.
И Бекки закрыла глаза.
Я вытащил ее, укутал в сухую простыню и прижал к себе. Теперь я собирался ее накормить.
4 мая 1994. В гостинице
Лидия потянулась, чтобы размять затекшую шею. Позвонки глухо хрустнули. Она помассировала виски, затем рассеянно оглянулась – за окном уже были сумерки. Лидия дотянулась до лампы и включила свет. Гостиничный номер озарился мягким теплым сиянием. Рядом с лампой стояла чашка с остывшим чаем. Она сделала глоток, поставила чашку на столик и продолжила читать очередной отрывок, который можно было разобрать.
«”Ужас и рок шествовали по свету во все века. Стоит ли тогда говорить, к какому времени относится повесть, которую вы сейчас услышите?” Этим Эдгар Алан По предварял свой рассказ “Метценгерштейн”. И верно, ужас вечен, я убедился на собственной шкуре.
Мы ведь действительно не стояли у истока зла. Я вам вот что поясню. Ведь немцы не проигрывали в Мировой войне, в той, первой. Сопротивление было еще возможно, нам было по силам продолжить. Я до сих пор в это верю. Но нас обманули. Нам предложили все закончить на условиях… неплохих условиях, да. Не позорных, по крайней мере. Первый пакет не предполагал жестких карательных мер[22]22
Четырнадцать пунктов Вильсона – первоначальный проект мирного договора, который должен был завершить Первую мировую войну. По сравнению с Версальским мирным договором он был довольно мягким и лояльным по отношению к немцам. Из самых болезненных пунктов для Германии можно отметить сокращение вооружения, вывод немецких частей с оккупированных территорий, провозглашение независимости Польши. Союзниками США эта программа была воспринята как излишне мягкая, и они встретили ее прохладно, тем не менее она частично легла в основу Версальского мирного договора.
[Закрыть]. Ни аннексий, ни контрибуций, ни особого притеснения, лишь освобождение оккупированных территорий, сокращение вооружения и независимость Польши… И на таких условиях немцы согласились сложить оружие и перестать длить сопротивление. Тем более нам было обещано и равенство условий торговли со всеми странами. Но когда дошло до дела, то первоначальная идея была резко забыта, словно ее и не было. В Версале нам были зачитаны пункты некоего монстра, которого, словно Франкенштейна, сшили из кусков своей обиды, страха и жажды наживы Жорж Клемансо, Дэвид Ллойд Джордж, Витторио Орландо и все тот же президент Вудро Вильсон, автор первого пакета условий, но теперь покорившийся мнению остальных. Эти условия поставили нам те, творившие то же самое, что и мы, немцы, в первой войне. Предложили такие же люди, воюющие за свои интересы. Даже старик Фош понимал, что творится страшный обман[23]23
По воспоминаниям Черчилля, французский главнокомандующий Фердинанд Фош, узнав об условиях договора между странами Антанты и Германией, заявил: «Это не мир, это перемирие на двадцать лет…» Он понимал, что с такими жесткими условиями не смирится ни одна держава в мире. В Германии соглашение прозвали «Версальским диктатом».
[Закрыть]. Фош, который воевал не в кабинетах! А на реальных фронтах! Он осознал, что подобное лицемерие при попытке сотворить мир никогда не приведет к истинному миру! Это наказание за наказание за наказание за наказание… и так до первопроступка, которым мог быть всего лишь один украденный и надкушенный плод. Клубок недоверия, обиды, страха и ненависти, который катится сквозь века от поколения к поколению. И новые поколения уже попросту не имеют выбора – им некуда деваться, они уже в этом. Они рождаются в это. И это лишь ширится с ростом наших возможностей. И приводит к тому, что мы верим, трудимся и закладываем свои души лишь для того, чтобы впоследствии горько разочароваться.
Мы с ней были чистыми, безгрешными детьми, которые любили друг друга. Пока я не начал своими руками строить для нее ад. И отменил ее, свою любимую, отменил как человека. Зачем? Во имя чего? В конце концов мы оказались похоронены под своим псевдопатриотизмом, под враньем самим же себе. Это ощущение своего превосходства над остальными нациями, своей избранности на какую-то особую историческую роль – все это действовало как сок, разъедавший нас. И он заставил нас переварить самих себя.
Надо уже как-то усвоить: все, что имеем, – совокупный результат того, что делали в прошлом. Всё – итог наших действий. Всё. Ни на кого не спихнуть. Все работает по принципу причины и следствия. Нужно проявить мужество в оценке прошлого. Да, когда оно такое, то мужество необходимо. Порой для этого даже извинений не нужно, но хотя бы просто признания. Не наш, конечно, случай – нам извиняться еще долго.
Было это случайно ли или по какому-то извращенному плану, но остальным евреям – преимущественно тем, кто и вершил всеми процессами в жизни этого народа, их элите, которая, безусловно, берегла себя от таких неприятностей, как страдания и жертвенность, – им мы оказали самую большую услугу, на которую они только могли рассчитывать. Не утрамбуй мы в газовые камеры половину их племени, сподобился бы мир на свое окончательное решение в сорок восьмом[24]24
Еврейское государство было провозглашено 14 мая 1948 г. в Тель-Авиве, ему предшествовала официальная резолюция ООН об образовании Государства Израиль. В Декларации независимости нового государства говорилось о возникновении еврейского народа на Земле Израиля и его стремлении вернуться на историческую родину, также упоминались Катастрофа европейского еврейства и выстраданное им право на собственное государство. Декларация ссылалась на резолюцию ООН о создании еврейского государства. Уже в следующем году Государство Израиль было признано в качестве члена ООН.
[Закрыть]? Под нажимом общемирового воя и возмущения и не такое сотворишь.
Но где был тот гнев пламенный, который позже они обрушили на арабов во имя земли, которую считали своей? Где та же ярость, в которой нам было отказано, но с которой они потом выгрызали клочок за клочком своей земли обетованной? Когда взрывали друг друга, резали и кололи, отрезали головы друг другу, когда за оружие брались и женщины, и подростки? Натурально – за то же самое оружие, которое когда-то было в наших руках, а потом, благодаря новым интересам и союзам, было переправлено на очередную святую битву. Трофейные мессершмитты жалили с неба, только теперь уже того, что простирается над землей обетованной, и управляли этими мессершмиттами те, кто ранее проклинал их. Нескончаемая война рода человеческого. Новые плацдармы, на которые высаживаются новые воины. Партия за партией. Партия за партией опрокидывается и гинет во имя ничего. Тысячи, сотни тысяч покорно идут на гекатомбу, безвольно падая в общие могилы. И воюют за то, что скоро переменится. И случится очередная болезненная перетасовка рода человеческого во имя… Нет, туда не полезу. Скажу лишь, что правду там видит всякий за собой. Правду святую и нерушимую. Как и мы тогда видели ее за собой.
А что исковеркало лично мою жизнь? Неужели их феноменальная покорность действительно всему виной? Я знаю, эта тема неудобна, она неприятна, она всплыла, когда суды над нацистами вышли из моды. Мир вдруг решил копать глубже и стал задавать вначале тихие вопросы к жертвам. Знаете, с такой полувопросительной и растерянной, но в то же время доброжелательной интонацией, которая будто подсказывала, что будет принят любой ответ. Но не было никакого. Хоть сколько-нибудь вразумительного.
Те из их племени, которым посчастливилось находиться за тысячи километров и узнать обо всем из радио и газет, потом доказывали, что они не такие, они бы ни за что не пошли как бараны на бойню: “Мы бы сражались!” Нет, конечно. Но они так думают, потому что их там не было. Тем, которые сумели выбраться и добраться после войны до Израиля, пришлось потом многое выслушать за свою покорность от своих же. И они начали… оправдываться. Тогда у каждого нашлись аргументы оправдать именно свое повиновение, но не выжившего соседа. Это было не сожаление, не попытки самоанализа, а громкие обвинения друг друга, настолько громкие, что глушили чувство горечи и осознания собственного бездействия. Да, тема покорности – неприятная, неудобная и вызывает агрессию у этих бывших агнцев, святых без нимба. И я копаюсь в этом дерьме только по одной причине. Я хочу понять, удалось бы нам без той покорности… то, что удалось? И вопрос еще противнее. Удалось бы нам это без покорности немецкого народа? Это качество было и у нас, и у них и совершенно нас уравнивало.
Я вижу эти угрюмые орды, идущие на добровольное заклание. Мы указывали им, куда приклонить головы, и они послушно ложились на еще теплые окровавленные трупы, безропотно опускали головы и ждали выстрела. Нескончаемые колонны голых людей шаг за шагом все ближе ко мне, они несут маленьких детей на руках, у меня рябит в глазах, они как песок, который скребет мою пораженную катарактой склеру. Каждое тело – мое молчаливое проклятие.
Помню наизусть общую сводку по деятельности айнзацгрупп на оккупированных территориях в первой половине войны. Айнзацгруппа А Вальтера Шталекера – 249 420 евреев, айнзацгруппа В Артура Небе – 45 467 евреев, айнзацгруппа С Отто Раша – 95 000 евреев, айнзацгруппа D Отто Олендорфа – 92 000 евреев. Без малого полмиллиона только к началу сорок второго. Полмиллиона против трех тысяч! А в лагерях?! Ведь это один из самых поразительных моментов: даже на заключительном этапе войны, когда наших в лагерях откровенно перестало хватать, а узники продолжали прибывать нескончаемым валом, действо продолжалось без перебоев. Весной сорок четвертого в Аушвице было почти шестьдесят семь тысяч заключенных, на которых истощенный рейх сумел выделить всего две тысячи девятьсот пятьдесят охранников, А многие были после ранений, калеки – те, кого к тому времени пережевал и изрыгнул фронт. Соотношение один к двадцати трем. А двое против нескольких тысяч, как вам? Я как-то наткнулся на рапорт одного из командиров роты в Белоруссии, кажется в Пинске. Он все не мог понять, как два вахмистра сумели привести к месту сбора несколько тысяч евреев. Этот рапорт зачитывали в Нюрнберге, только на процессе выделяли не те слова, которые выделил для себя я: “Евреи, обратившие внимание на происходящее, стали большей частью добровольно собираться на проверку на всех улицах. Когда остальные евреи увидели, в чем дело, то они примкнули к колонне. На месте сбора проверку из-за громадного, неожиданного скопления народа провести не удалось. В первый день прочесывания мы рассчитывали только на одну-две тысячи человек. Но собралось около десяти тысяч…” Как проверишь такую толпу? Конечно, расстреляли без проверок. На суде же особо подчеркнули цифры и итог.
Иногда оставалось только наблюдать, как торопились с узлами, тюками и чемоданами на сборные пункты целые семьи, боясь опоздать ко времени, которое было указано в распоряжении немецкой администрации. Как они сами разбирали лопаты и заступы, чтобы копать рвы, у которых их расстреливали. Они, забывшие, что принадлежат этому миру и себе, а не нам – не нацистам, не расе, не правительству.
Я не передергиваю, я, конечно, помню единичные вспышки: и неожиданное восстание зондеркоманды в Аушвице, и восстание в Варшавском гетто, и бунт в Собиборе, и того сумасшедшего священника в Дахау. От безысходности я хватаюсь за эти вспышки, но мне того мало для понимания. Это были точечные акты неповиновения, а потому всех уничтожили, конечно. Возможно ли, что это их и сдерживало? Что кто-то непременно будет убит? И никто не хотел рисковать и быть этим неудачливым “кем-то”? А там, глядишь, удастся пересидеть и будет шанс?
Городок в Западной Украине. Десять тысяч евреев, даже больше. Эсэсовцы с собаками вывели их всех за черту города. Там были разные… Слабых и измученных поддерживали сильные мужчины. Когда толпа дошла до поля, солдаты приказали им рыть ямы. В какой момент они осознали, что роют не укрепления, а себе могилы? Меня там не было, я не знаю. Группа за группой подходили к краям этих ям, раздевались – и их тут же расстреливали. В один день не уложились – когда стемнело, оставшиеся евреи встали в колонну и отправились обратно в город. Чтобы следующим утром вернуться, уже зная наверняка…
Урочище Бабий Яр. За два дня – тридцать четыре тысячи евреев. Насколько нужно было упростить собственное убийство, чтобы за один день команда Блобеля смогла расстрелять семнадцать тысяч человек? Не удушить в камере, а именно расстрелять. Я причастен к обоим способам, я знаю, о чем спрашиваю. У меня все подсчитано – было много свободного времени, да. Я хотел знать точно… Это был конец сентября – рассвет в 5:50, заход в 17:40. Световой день – 11 часов 50 минут. Оставим погрешность в несколько минут, впрочем, как и в несколько человек – детей младше трех лет в те дни подчиненные Блобеля не считали. 33 771 человек. Два световых дня. 1420 минут. 23, 7 в минуту. Детей младше трех лет… да, говорил уже. Поэтому не погрешу против истины, если скажу: и двадцать четыре в минуту было, и все двадцать пять. Черт подери, даже многие из нас узнали точные цифры только после войны, а то ведь все больше приблизительно, округленно. Взять, к примеру, Олендорфа – не дурак, воспитан, интеллигент, эксперт в юриспруденции и экономике, профессор, между прочим. Его обвели вокруг пальца в Нюрнберге. В его деле был пробел длиною в год, и обвинитель от США спросил, чем же эксперт по внешнеторговым связям Министерства экономики занимался весь этот год. Олендорфу воспитание не позволило лгать. Признался, что был командиром айнзацгруппы D. “Значит, командиром айнзацгруппы D?” – заинтересовался американский капитан-лейтенант Харрис, еще до конца не осознавая, что за птица в его руках. “И сколько же на счету вашего отряда?” – спросил он обтекаемо. Я буквально вижу, как Олендорф пожимает плечами в полной уверенности, что его обвинителям и так все известно. И говорит: “Тысяч девяносто…” Он ошибся на две тысячи, что еще неплохо. Что такое две тысячи в той общей массе? Немудрено им потеряться.
Еще раз повторю, я не пытаюсь оправдаться. Жертвы здесь они, злодеи – мы. Это аксиома, и ныне я ее главный адепт. Но я бы побеседовал с таким евреем, который бы признал, что покорился и легко передал злодеям в управление свою жизнь. Найдите мне такого. Я попрошу объяснений. На что они рассчитывали? Самое банальное объяснение, которое приходит мне на ум, – извечное человеческое, когда никто не хочет жертвовать собой, а в итоге в жертву идут все. Они боялись пойти гигантской толпой на охранников, ведь первые ряды наверняка были бы расстреляны. Но потом понадобилось бы время перезарядить оружие… А никто не хотел быть в этих первых рядах павших. Все хотели быть в массе позади, за спинами других. Все надеялись, что обойдется и именно его не тронут. Перетопчутся, перетерпят, а там вновь дышать разрешат.
Или все было не так? Тогда дайте мне другое объяснение! Почему меньшинство, к тому же занятое войной на два фронта, с легкостью уничтожило большинство? Я должен был подумать про это раньше, когда в юности читал про Марлоу[25]25
Моряк Марлоу – герой повести польско-английского писателя Джозефа Конрада «Сердце тьмы» (1902). Произведение повествует о путешествии по реке в глубь диких джунглей Центральной Африки, вскрывшем темную сторону человеческой природы благовоспитанных европейских колонизаторов, до того неведомую даже им самим.
[Закрыть]. Почему тридцать дюжих голодных каннибалов не расправились с Марлоу и его командой в количестве четырех человек? Что за сдерживающее начало, что за обуздание, что за выдержка и дикая первобытная честь сдерживала тех каннибалов от того, чтобы наброситься на своих слабых белых хозяев и пожрать их посреди диких джунглей, которые бы навеки скрыли тайну этого обеда? Что ж… Нужно признать, что перед некоторыми вопросами пасуют все догадки, как верно подметил Марлоу, а потому они останутся среди тех тайн мироздания, которым так никогда и не доведется быть раскрытыми. Зато Марлоу с отчетливой ясностью понял другое: что дикие первобытные инстинкты таятся в глубине каждого человека, даже если он обряжен в элегантное европейское платье. Куда меня понесло, старого дурака, мысли путаются, не о том пишу, не о том! О другом надо: теперь мы пытаемся рассудить, кто виноват и в какой степени: одни подталкивали, другие делали, третьи умалчивали, четвертые покорялись, пятые попускали. Очевидно, повинны все, ибо в геенне огненной оказались все мы, прошедшие тот путь от ареста до газовой камеры. Кто-то прошел по центру этого пути, кто-то в сопровождении, а кто-то – наблюдая с обочин. И все мы обманулись: кто-то в своих ожиданиях, кто-то в своих идеалах, а кто-то в том, что есть человек.
Есть такая богиня в древнеиндийской мифологии – Дурга, о ней мне поведал один достопочтенный лагерный доктор. Ее призывают как для защиты чего-то славного, так и для… разрушения того, что мешает дальнейшему развитию. Вам кажется, это противоречие, но то весьма тонкий момент – не обязательно создавать что-то полезное, достаточно устранить то, что мешает созданию. Еще древние постигли эти взаимодействия, на которых стоит мироздание: не мешай злу, и оно свершится, не мешай созданию прекрасного, и оно родится. Эти взаимосвязи очевидны, но что-то из раза в раз заставляет нас забывать эти принципы и отходить от них в урон себе же. А потому сегодня вы намеренно отмахнетесь, решив, что вас это не касается, завтра согласитесь потерпеть, приняв, что так нужно, послезавтра начнете тонуть в тяготах и боли, а к выходным взвоете от ужаса, но кто уже обратит внимание на ваш вой возле расстрельного рва? Там все воют».
* * *
Укутанная в простыню как в саван, Бекки сидела ровно, словно ее вытянули по струне. Ее руки были спрятаны в белых складках ткани, спадавшей до пола и покрывавшей также и ноги до самых пят, я видел лишь заостренное лицо с застывшими глазами, устремленными в воспоминания, которых никогда не должно было быть у того славного, ласкового и доброго ребенка, какой я ее знал много лет назад.
– Поначалу было жаль мой дом, мою одежду, потом волосы, потом здоровье, а потом мне уже ничего не было жаль, я хотела только одного – есть. Я стала частью полосатого отупевшего скота, в которого нас всех и превратили. И так было все время, пока меня не перевели. Все время. Лишь однажды другое чувство на время перебило голод. Такое же одуряющее – страх. Это было как-то утром, мы не работали, было свободное время. И вдруг мы слышим свист и лагеркапо заорала, чтобы все немедленно возвращались в бараки. «Кроме евреек! Еврейкам выстроиться перед своими бараками в шеренги! Шевелитесь, суки!» Я не понимала, для чего нам велели выстроиться. Кто-то шепнул: «Селекция». Тогда я впервые увидела Таубе в деле. Это зверь. Он шел вместе с лагеркапо и надзирательницей Хассе вдоль шеренги и разглядывал нас, как кобыл на базаре. Хотя нет, хуже, кобыл похлопывают по шее, проверяют шерсть, зубы… А к нам он не прикасался из чувства отвращения. Он смотрел на нас как на червей в навозе, как на паразитов. Потом нам было велено раздеться и по одной выходить вперед. Мы по очереди делали шаг, Таубе кидал взгляд и кивал: либо направо, либо налево. Все мы там были одинаково истощены, разница в том, что у некоторых гнойники были свежие и воспаленные, а у других уже подсыхали. Так что никто не понимал, какая из сторон означала газовые камеры. Наконец настала моя очередь. У меня было очень расчесано все сзади: спина, поясница… Но спереди я выглядела не так уж и страшно, всего несколько царапин, на что я и уповала. Таубе лениво посмотрел на меня и кивнул направо. Управитель судеб Таубе… Все во мне оборвалось, к тому времени я была уверена, что правая сторона означала смерть. Ведь нас было человек пятьсот, из них слева было большинство, а справа – лишь небольшая кучка. Не могли же на смерть отправить почти всех, значит, только тех, что справа, – так я еще рассуждала тогда. И думала: господи, почему не тогда, с матерью, зачем нужно было мне пережить весь этот лагерный ужас? Пока я сходила с ума, очередная, которую Таубе отправил к нам, стала радоваться. Она мне и объяснила, что на тех, справа, нет живого места от гнойников, а у нас крепкие ноги, сравнительно чистая кожа. Я смотрела на других и не видела отличий, о которых мне сказала эта девушка, – такие же лысые, худые, испуганные. «Новенькая. Через месяц научишься отличать. Перед селекцией всегда щеки щипай, чтоб покраснели, губы кусай, чтоб припухли и цветом налились…» Так я познакомилась с Зофкой.
Толпу женщин, которых Таубе отправил налево, погнали в двадцать пятый, ты знаешь, это блок для смертниц за проволокой. Мы же подхватили свою одежду и кинулись по баракам. Чтоб ни одной лишней секунды не задержаться в присутствии Таубе. Ночью мы слышали, как те женщины, одуревшие от страха, бились о стены барака смерти. Они не плакали – они выли… Потому что они знали, что им предстоит быть удушенными газом. Они были лишены даже той милости, которую тут даруют прибывшим, – неведения до последней секунды. Когда утром мы вышли на поверку, в блоке было уже тихо: ночью приехали грузовики и увезли всех в крематорий.
Простыня съехала с плеч Бекки, но она не замечала. Я боялся, что ее продует, и снова укрыл. Но ткань была влажная. Я сходил в спальню, принес одеяло и накинул на нее вместо простыни. Бекки молча ждала, когда я закончу.
– Это все был карантин, – продолжила она. – После карантина нас начали распределять по рабочим командам. Я к тому времени уже сдружилась с Зофкой, мы старались держаться вместе, надеялись, что попадем в одну команду. Но ее присмотрела капо из Райско[26]26
Райско – сельскохозяйственная ферма, числившаяся одним из вспомогательных лагерей Аушвица.
[Закрыть] – великая удача: мы уже знали, что там работали в теплицах. Вот что такое лагерное счастье… Потом говорили, что будут набирать в картофельную команду, а это уж совсем запредельное счастье! Да, конечно, все знали, что они там будут чистить тупыми оловянными ножами горы старой вялой картошки, сотрут руки до мяса так, что в чаны с водой уже будет капать кровь. Но на кухне! Не только под крышей, но и в тепле! Я тоже надеялась… А потом меня отправили в рабочую команду в Биркенау. Тогда я впервые обругала себя за надежду.
Я помню свою первую минуту там. О, это было страшно. Меня втолкнули в жилой барак. Помню, когда глаза привыкли к полумраку, я начала различать эти бесчисленные соты, полные нечистот. Сотни нар, пустых и покрытых прелой соломой. Ты смотришь, и твой взгляд утягивает вглубь, в самое нутро этого ада, туда, где нормальному человеку и вздохнуть нельзя. А там они, которые проводят на этих нарах ночь за ночью. Но они уже и не люди – существа, дышащие от пайки до пайки. Мне надо было где-то устроиться, я посмотрела, что творится на нижних нарах, и решила, что лучше умру, чем лягу туда. Тогда я попыталась взобраться на второй этаж, но оттуда на меня зарычали страшные создания: лысые грязные уроды с черными заостренными осколками вместо зубов. Они стали бить меня котелками по рукам, пока я не отпустила доски. Я посмотрела на них еще раз и тут, к своему ужасу, поняла: это бывшие люди, которые вошли в этот барак такими же, как и я. И скоро я стану одной из них. И видимо, тоже буду в животном ужасе бить новенькую, чтобы она не влезла, не отобрала драгоценные сантиметры. Будто эта новенькая пришла в барак по своей воле…
Уже через десять дней у меня пропала всякая нужда в чистоте. Я костенела в своей грязной корке, опускаясь все ниже и ниже. Перестала понимать, для чего здесь чистое лицо, руки, шея. А потом как-то раз увидела «мусульманку»[27]27
«Мусульманин» – на лагерном жаргоне узник крайней степени физического и психологического истощения, который уже не пытался никаким образом изменить свое положение.
[Закрыть]. Видел их? Руки-ноги совсем тонкие, суставы торчат так, что, кажется, сейчас прорвут кожу, а кожа иссохшая, как пергамент… И вздутые животы всех цветов: серые, желтые, посиневшие, бледные, почти прозрачные. У таких живот трогаешь, а ощущаешь позвоночник. Я боюсь их. Они как привидения, застывшие между двух миров. Уже не принадлежат миру живых, но еще не попали в царство мертвых. Как будто не люди, а труха – дунь на такую, она разлетится пеплом еще до печи. И вот это была одна из них. Она смотрела перед собой пустым взглядом. Потом еще одну – на закате они выползали погреться на солнце. У всех были лица без какого-либо намека на мысль и стремления.
У всех тут стираются все грани национального, социального, возраста, даже пола. Кто-то сочится от барака к бараку, и не знаешь, это мужчина, женщина, старик, молодой, вор, банкир, учитель… Кем оно было в прошлой жизни, которой больше не существует?.. А эти, «мусульмане», отупевшие, опустошенные, и вовсе как один, размноженный тысячу раз. И каждая следующая копия бледнее, как будто краски остается все меньше и меньше. Они даже не дышат, а урывками воруют воздух, воздух ведь теперь тоже собственность великого рейха. Живые трупы, люди-веревки, вместо глаз пустота. За мыслью о еде они забыли самое себя. Я долго разглядывала ту свою первую «мусульманку». Неужели это тоже человек? Что должно произойти, чтобы я стала такой же? И сколько на это уйдет времени? Оказалось, чуть больше месяца. У иных и того меньше. Видишь ли, сложно протянуть на брюквенном супе, а он иногда прокисает настолько, что уже бродить начинает. И еще пайка хлеба, в котором от хлеба-то почти ничего, одни каштаны да опилки. И при этом работать как пахотный бык. Но дело не только в еде. Я тогда явственно поняла, что если не начну делать то, что положено делать человеку, то и сама окажусь на дне. Ад поглотит и уничтожит последние зачатки жизни. И я пошла в умывальню. Вода мутная, застойная, но я начала тереть лицо, натирать шею до красноты. Глубоко въевшуюся грязь без мыла и мочалки одной холодной водой, конечно, не смоешь, но даже сам этот ритуал вернул меня к какому-то подобию цивилизованного существования. Еще на шаг отдалило от возврата к первобытному, одичалому. Понимаешь, я делала это не ради красоты лица, но ради сохранения человеческих повадок. Иначе здравствуй, стадо, еще дышащее, но уже помазанное в жертвенные агнцы своими же нечистотами. Да, дизентерия у каждого третьего. Халаты, штаны свисают сзади, измазанные непросыхающими испражнениями. Люди обессиливают и уже не способны добежать до туалета и ходят под себя, уже не ощущая процесса. Иногда только по проклятиям соседей с нижних нар и понимаешь, что опять… Я лежала рядом с такой. Мерзко тебе?
Бекки посмотрела на меня с вызовом, я нутром почуял, что она ждет выражение отвращения на моем лице.
– Она корчилась, зажималась, но живот ей скрутило так, что не вытерпела и прямо на меня… Вопрос пары таблеток и гигиены, но не здесь.
И снова я молчал.
– В прежней жизни я много читала. Я помню: «Мыслю, следовательно, существую». Здесь мы уже давно не мыслим, никаких крох разума, одна пустота. Значит, нас уже не существует. Мы пустота. Но разве пустота может так болеть?
Она уронила голову и уткнулась подбородком в грудь. Я не нарушал тишину. Я боялся спугнуть Бекки, как боятся спугнуть птицу, пролетавшую мимо и случайно севшую рядом. Она вдруг подняла голову.
– Думаешь, я хочу выплакаться? Да, это едва ли не самая большая душевная потребность здесь. Нас сотни тысяч ушей, а пожаловаться некому. Как я могу плакаться соседке по нарам о своей несчастной милой матери, когда эта женщина сама захлебывается в своих муках: потеряла детей и мужа, он болел и поэтому был бесполезен на работах, а они дети, вот и все. Пожаловаться ей, что моя мать не пережила транспорт… А у нее в голове только двое невинных детей, удушенных газом. И она расскажет, что не видит за собой права жить после того, что позволила сотворить со своими детьми. И что не пошла на проволоку только потому, что где-то в родной деревне осталась старуха-мать с третьим, младшим, которого удалось спрятать… Но она уже не плачет. Только живые оплакивают мертвых, но разве она живая? Ничего живого в ней уже не осталось, ни капли жизненного сока, ни единой слезы. Она уже давно там, с детьми и их отцом. Только ночью во сне что-то наполняет эту оболочку и она мечется в бреду, повторяет имена детей – это сводит с ума соседей, но ни у кого не достает смелости разбудить ее и упрекнуть.
Плакаться тебе я не буду. Жаловаться на свои боли может человек, сохранивший себя. А я больше не Бекки Вернер, я число. Я откликаюсь на него. Цифры. Остальное украдено. Украдено даже мое лицо! Я была хорошенькая, Виланд, ты помнишь? А сейчас у меня лицо больной старухи. Но эти воспоминания – слишком больно. Только представь, каково это вспоминать, как ходила по парку, дышала свежим воздухом, ела вкусную… просто ела. Из посуды, приборами, носила чистую одежду, свою одежду, сшитую по моим меркам, спала на чистых простынях. Ты помнишь мою кровать, Виланд? О, ты ее помнишь, я вижу. А я заставила себя позабыть. Ты помнишь меня благовоспитанной девочкой из состоятельной семьи. А эта девочка теперь думает только о том, как бы организовать лишнюю еду или теплые носки. Эта девочка подгадывала, когда выгоднее встать в очередь на раздачу. Чтоб ты знал, черпак супа со дна и с вершка чана – это совершенно разные блюда. Эта девочка собирала каждый тряпичный клочок, чтоб хоть немного утеплиться. Здесь так: любой найденный лоскуток ладят на тело, потому что оно самостоятельно не способно больше дать ни капли тепла. Каждое утро девочка шла мимо новых трупов и говорила себе: «Иди мимо, не оглядывайся. Если можешь кому-то помочь, помоги себе». И я помогала… себе. Но воровала не только я, ты сам знаешь. Воруют все. Кто с ходу не постигает звериные порядки лагеря, пропадет – верняк. Обиды, злоба, ненависть, интриги, подставы тут цветут пышным цветом. Нас бьют, да мы и сами друг друга бьем. Мою первую пайку утащила женщина средних лет, у нее было такое грустное лицо и такие добрые глаза. Поэтому каждую ночь я заворачивала тряпье и колодки в свой халат. Украдут колодки – все, пиши пропало. Найти новые не сложно. Сложно найти подходящие. Ты думаешь, мелочи, да? Но, Виланд, нет, не мелочи. Здесь дорога на тот свет начинается с плохой обуви. Достанутся маленькие колодки – сотрешь пальцы в кровь, они пухнут, гноятся, лекарств никаких. Каждый шаг – мука: идешь и кровавый волдырь трется о деревянную колодку, лопается, горит, а остановиться нельзя, удар палкой по хребту обеспечен. Не успевает сукровица подсохнуть, а там уже новый волдырь, еще пухлее, еще кровавее. День-два такой муки – промыть нечем, помазать нечем, – и ступни распухают так, что и в большие колодки не запихнуть. А у тебя маленькие. Вот поутру и вбиваешь в них распухшие слоновьи ноги. И чуть подсохшие во время сна волдыри вновь открываются и кровоточат. Работать на таких ногах невозможно, как и выстоять несколько часов на аппеле, и идти тебе в этих колодках на тот свет…
В лагере нет мелочей. Каждая вещь может стать залогом жизни. Или смерти. Старая гнутая ложка, дырявая миска, пуговица, даже кусок проволоки полезен: ведь это и шнурок, и нитка, чтобы пуговицу приладить. Кубик маргарина на него, конечно, не выменяешь, но четверть хлебной пайки вполне. Тут все меряется едой, Виланд, это главная валюта лагеря, голод тут – основное чувство: с ним просыпаются, с ним существуют, с ним умирают. Я упустила момент, когда он стал определять мое существование. Это происходит как-то внезапно. Кажется, еще вчера ты удивленно смотрел на прокисшее молоко или заветренное пирожное и гневно просил кухарку быть повнимательнее. А вдруг оказывается, что твой впалый живот и похлебке рад. И хорошо, что она горячая и с кусочками овощей. А еще через день ты за любую плесневелую горбушку назовешь чужого другом или… хозяином. Когда я жила в прошлом бараке и давали ложку маргарина или кусочек конской колбасы, хоть и прозрачный совсем, это был праздник. Еда таяла во рту… И за это ощущение ты готов на что угодно: и торговать собой, и обманывать, и убивать, наверное. Я хорошо помню то состояние, когда получала паек раз в сутки. Только самые стойкие могли сохранить часть хлеба до утра. А до следующего вечера – никто. После работ к вечернему аппелю голод становится одуряющим. Слабость такая, что каждый шаг за тысячу, земля плыла под ногами, перед глазами туман. Никакие слова не передадут стоячий голодный обморок. Ты не поймешь, пока сам не… Я расскажу. Есть еще такая конечная точка бессилия. Вроде бы ты еще медленно переставляешь ноги, но во время очередного шага вдруг замираешь, в глазах темнеет, перестаешь понимать, кто ты, где ты. Слабость до умственного помрачения, и сердце тоже не понимает, нужно ему еще биться или можно уже упокоиться. Потом ты слышишь стон. Это твой стон. Но надо справляться любой ценой. Не падать! В какой-то момент возникает небольшое просветление. Нужно успеть ухватиться за этот просвет и вытащить себя… до следующего такого стоячего обморока. Тебе, высшей расе, не понять: голодное дыхание – оно особенное. Это не неприятный запах изо рта, а запах внутренностей, которые готовы переварить сами себя. С каждым выдыханием ты ощущаешь дух своего нутра, оно страшно голодно, его распирает от голода, и вот у тебя уже раздутый живот, а все остальное, наоборот, усохшее, истонченное, заостренное. И зубы, зубы! Я тебе объясню. Иногда ночью проснешься, а вокруг не храп, а скрежет челюстей. Многим снится, как они едят. До хруста в зубах молотят… Так зубы и стачиваются… о несуществующую еду. Мучение просыпаться после таких снов с пустым животом и продолжать дышать голодом. Как жить в таком состоянии постоянно? А еще и выполнять тяжелую работу? А остаться человеком? Мрак. Если бы меня не перевели, то уже бы…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































