Читать книгу "Исход"
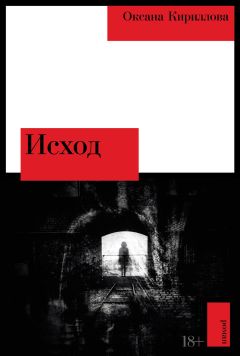
Автор книги: Оксана Кириллова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
А я… Я же познал себя. Познал и ужаснулся – что я на самом деле. А ужас в том, что любое зло, совершенное человеком, уже познавшим, что он есть такое, может быть повторено другими, невзирая на все знания о прошлом. Ведь со знаниями связано одно из величайших заблуждений человечества. Будто если какая-то информация или знание становятся известными, то люди этим непременно воспользуются. Но нам открыты все знания мира обо всем, в том числе о процессах добра и зла, если уж совсем упростить. И что с того? Большинство не видят эти мыслеформы, даже если они записаны огромными буквами прямо перед их носом. В строительстве своей жизни человек продолжает опираться на доверие тому, чему, по здравому рассуждению, не может быть никакого доверия. По привычке ли, из лени, из страха, из глупости, из тяги к сиюминутному комфорту. И этот водоворот большинства нещадно месит тех, кто пытается хоть что-то углядеть и донести. Но пока бесполезно. Возможно, рано. Что ж. Может, повезет следующим.
А пока обстоятельства будут продолжать меняться незаметно, мелкими шажками, и утягивать нас за собой все глубже. Диапазон допустимого, который мы определяем сами для себя, будет шириться с каждым днем неприметно и осторожно. Все произойдет настолько плавно, что никто из нас не сумеет определить, где случился переход от допустимого к ненормальному, даже бесчеловечному. Просто однажды вы проснетесь в том дне, когда инакомыслящими или даже сумасшедшими будут объявлены те, кто еще видит в происходящем вывих нормы. Уже они – еретики и идиоты, а остальные нормальные. Однако вы не определите, когда случился этот день, ибо все они одинаковые – череда неотличимых друг от друга отрезков существования.
Сейчас мне страшно осознавать произошедшую трагедию. Быть сопричастным, быть ее творцом – еще страшнее. Сам себя не сожжешь за это. Но каждый раз я спрашиваю: а кто не убийца? Сегодня при виде добродетельного и гуманного человека я не могу отделаться от мысли: “Кем бы ты был в Дахау или в Аушвице?” Но главное, кем был бы я, живи в другом месте в другое время? Уверен, я освоил бы прекрасную профессию, приносил бы пользу окружающим, возможно, меня бы даже пугал вид крови или оружия. Просто так получилось, что во время эксперимента под названием “Нацистская Германия” мне досталась роль “охранника”. И слава богу. Значит, я избавил кого-то другого от этой страшной роли и он смог занять роль жертвы и избавить свою душу от тяжких грехов. И вновь – слава богу. Об одном прошу: будьте честными, скажите себе про нас: “Они и есть мы с вами”».
– Так и будешь тут сидеть в пылюке? Дышать нечем, спускайся в дом, там читай, никто ж не гонит. Я чай заварю.
Лидия оторвалась от тетради и посмотрела на Раису таким взглядом, будто впервые ее увидела. Она рассеянно оглянулась и только сейчас поняла, что все еще стояла посреди старого пыльного чердака.
Развернувшись, Раиса пошла к лазу. Лидия подняла тетради и последовала за хозяйкой.
* * *
Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Я посмотрел на часы. Что, черт подери, стряслось, что меня подняли в такую рань? Я открыл дверь и с удивлением воззрился на унтерштурмфюрера Иоганна Шварцгубера собственной персоной. Шварцгубер руководил мужским сектором Биркенау.
– Подозреваю, вы уже слышали о Робе Хуббере? – начал он без предисловий.
– Сейчас пять утра, на мне даже штанов нет, но вы полагаете, что я уже должен быть в курсе новостей насчет ваших охранников?
– Я бы, конечно, не хотел распространения слухов, но подобное не утаишь, – продолжил Шварцгубер, не обращая внимания на мое недовольство.
– Что он сделал?
Я пытался предугадать, какую глупость сотворил Хуббер. В том, что это могла быть только дурость высшей категории, я не сомневался.
– Ничего, всего лишь застрелился. Представьте себе, этот идиот вздумал застрелиться.
Я был прав. Это была величайшая глупость, на которую Хуббер мог сподобиться.
– И я, черт возьми, зол. Это же уму непостижимо. И о чем он только думал? Ведь был на хорошем счету, скромен, очень требователен к себе. Не тщеславный, очень сдержанный парень, смышленый, исполнительный. С отличной характеристикой!
– Смышленость в его случае явно была лишней, – тихо пробормотал я.
– Что, простите?
– Я говорю, на кой черт вы мне об этом сообщаете, да еще в такую рань?
Он достал из кармана смятый конверт.
– Он оставил письмо, на нем ваше имя, гауптштурмфюрер фон Тилл.
Я оторопело уставился на конверт в руках Шварцгубера, не решаясь забрать его. Какого черта Хуббер вздумал оставлять мне предсмертные записки?
– Когда это произошло? – спросил я, по-прежнему не протягивая руку за письмом.
– На рассвете. Выстрел разбудил казарму. И ведь ничто не предвещало. Накануне приняли детский транспорт…
– Какой транспорт? – Я уставился на Шварцгубера.
– Вчера прибыл транспорт с детьми. Хуббер был в приемке. Думали, будут проблемы, знаете, дети… беспокойный народец, им не пригрозишь просто так, но на удивление все прошло гладко.
Он замолчал, пожал плечами. Я снова посмотрел на конверт в его руках. Что там? Покаяния? Проклятия? Я не желал читать ни того ни другого. Я вообще никогда не желал больше слышать об этом чертовом ублюдке, вздумавшем застрелиться после детского транспорта. Удавился бы тихо через месяц где-нибудь дома в увольнительной. В эти минуты я ненавидел Хуббера всей душой, понимая, что он умер уже давно – едва ступил на путь, который шел вразрез с его пониманием идеи, за которую стоило убивать. Выбрал добровольно и бездумно.
Шварцгубер вопросительно смотрел на меня, ожидая, когда я заберу конверт. Я взял его и тут же бросил на стол.
– Потом, – коротко проговорил я, будто мне нужно было оправдываться. – Сейчас нет времени читать глупости этого чокнутого. Прошу прощения, но мне нужно собираться.
– Да, конечно, оставлю вас.
Едва за ним закрылась дверь, я тут же схватил конверт, резко рванул его за край и судорожно вытащил надорванное письмо. У Хуббера не было вступления. Он бил наотмашь.
«Их было много, пятилетние, восьмилетние, десятилетние и даже трехлетки. У некоторых к рукам были привязаны тряпицы или деревянные дощечки, на которых матери успели нацарапать имена и фамилии. Видимо, чтобы мы могли записать их детей, а они могли найти их, когда все это закончится. Но мы не записали. Мы даже не прочитали. Зачем нужно знать имена тех, кого больше не назовут по имени? Не было даже селекции: кого там выбирать, одни бесполезные лишние рты. И врагами-то не назовешь, но как тогда оправдать уничтожение, если они не враги? Мне сказали, что скоро они повзрослеют и еврейская кровь в их жилах взбурлит и заставит показать истинное лицо. Поэтому и детей надо тоже… Но я ведь видел тех, с еврейской кровью, кому все-таки посчастливилось вырасти. Почему она в них не взбурлила и не заставила хотя бы дать отпор? Очевидно, в этой теории не все ладно.
А эти… что ж… то ли они все понимали, то ли просто предчувствовали, кто ж их разберет, они же дети, – сейчас плачут, через минуту смеются. Правда, эти только плакали, но не потому, что знали, куда их ведут, а потому, что есть хотели. Я подгонял детей, плачущих от голода. Мир, в котором дети плачут от голода, – это неправильный мир. Но мир, в котором детей, плачущих от голода, убивают… Такому миру нет имени. Я смотрел на них как в тумане, все больше теряя чувство реальности. Одна девочка спрашивала другую: “Что будет, когда мы вернемся в школу? Успеем ли нагнать других учеников? Мы уже столько всего пропустили…” Она не знала, что все в своей жизни пропустит. Она пропустит самую жизнь. Другая кроха, необычайно красивая девочка лет пяти, все попискивала – плакать, видать, уже не было сил, – все дергала брата, ведущего ее за руку. Я прислушался. Она просила у него эклер. “Один, всего один, помнишь, как мамочка делала, с желтым кремом, можно даже без шоколада и клубничного джема, просто один мамочкин эклер, один, маленький, и я больше ничего не буду у тебя просить, никогда, Йонас, обещаю…” А брат уже не слышал, что она там бормотала, шел, уставившись пустым взглядом перед собой, ничего не соображая от голода, невменяемый от постоянных страхов, совершенно неположенных ему по возрасту. Я видел такой взгляд тысячи раз. Впервые я увидел его еще в Дахау, когда меня отправили сопровождать сельскохозяйственные команды в поля. Униженные, истощенные, грязные, потерянные, они обратились после смены в лазарет, и на стертые до мяса руки им наложили повязки. А на следующий день мы их сорвали и велели работать без них. Зачем мы это сделали? Ведь производительность от этого только страдала. Но нам было важно причинить им как можно больше боли. И снова я спрашиваю себя: зачем? Даже звери причиняют боль, лишь когда чувствуют опасность. Чувствовали ли мы опасность на самом деле, а не внушенную? Никогда. Но нам говорили, что она есть и несут ее эти несчастные голодные твари. И я вставлял им в глотки шланг и пускал воду на полную, глядя, как они мучаются и падают без сознания. Я дичал вместе с ними. Но не считал себя больным.
Я помню тех, с которых мы сорвали повязки. К вечеру они уже ничего не соображали. Один из капо стал лопатой подгонять их к черте, которую узникам запрещено было пересекать. Мы спокойно ждали, глядя, как они пятились на трясущихся ногах. Заранее вскинули винтовки. Едва первый ступил за линию, мы открыли огонь. Но все же они опередили нас – успели полоснуть своим последним взглядом.
Я рад, что тот мальчик, бредущий к своей черте, в отупении не слышал, что ему говорила сестра. Иначе он представил бы тот мамочкин эклер и, думаю, тут же рухнул бы на дорогу, испугал бы младшую. Зато Вагнер услышал и среагировал: “Будут вам и эклеры, и шоколад, и джем – все будет после душа”. Дети посмотрели на него как на доброго волшебника. Представляете, гауптштурмфюрер фон Тилл, в их глазах эта жестокая скотина Вагнер, ведущий их на смерть, был добрым волшебником.
Вот тут я понял, что этот мир окончательно разрушился, все в нем исказилось. Этот мир умер. Нет больше ни убийц, ни жертв. Мы все мертвы. Мы все без будущего. У меня и у Вагнера не больше будущего, чем у мальчика Йонаса. Он брел в газовую камеру, но до последнего не отпускал ладошку сестры. В раздевалке он аккуратно снял с нее одежду, сложил грязное мятое платьице, трусики и чулочки на скамью, взял крепко за руку и вместе с ней взошел на газовый алтарь великого Третьего рейха. Я смотрел им вслед, всем этим голым исхудавшим детям, испуганно жавшимся друг к другу, я ждал гомона, криков, плача, толкотни, это же дети, черт бы их побрал, но ничего! Они просто ждали, запрокинув головы… Я взмолился у того, кто попустил это, чтобы все случилось быстро. Этот маленький Йонас, он словно что-то почувствовал: он обернулся и посмотрел на меня. И я увидел Ад… Я хотел отойти, но не мог, я хотел закрыть глаза, но я не мог…
Чего стоит мир, в котором ты молишься о быстрой смерти для детей? Это запределье человеческого извращения. Я стоял у смотрового отверстия, пока дверь не открыли вновь. И тогда я закрыл глаза и увидел их живыми, в этой же комнате, испуганными, измученными, истощенными, но живыми, что-то шепчущими друг другу, аккуратно складывающими одежду на пол, такими, какими они были еще несколько минут назад… Я открыл глаза: трупы уже растаскивали. Зондеры смывали кровь и экскременты на полу и на дверях. Дети были мертвы, но я чувствовал, что более мертв, чем они.
Когда вы будете читать это письмо, гауптштурмфюрер фон Тилл, посмотрите в окно. Вы видите дым, который валит из пылающей трубы крематория? Это горят маленький Йонас и его невероятно красивая златокудрая сестра. Я убивал детей. Расскажи об этом, фон Тилл. Расскажи так, чтобы помнили, то есть – просто расскажи правду.
Я долго молил Его избавить меня от бремени отбирать жизнь у таких же, как я. Он не услышал моих молитв. Я молил Его, чтобы в этот раз в этой камере все закончилось быстрее обычного. Он не услышал моих молитв. И я усомнился. Мы сами создали Его по своему разумению и хотению, чтобы вопрошать, взывать, вопить, обвинять того, кто всесилен, но бессловесен. Того, кто живет лишь в воображении всего человечества. Бога нет, фон Тилл. Его просто нет, а потому мне не страшно.
Прощайте».
Я медленно двигался в каком-то плотном чадящем тумане. Едва показывался просвет, как новый клуб дыма налетал и обволакивал голову, тело и самый разум. Мысли стали такими же вязкими и серыми. Даже свет лампочек на будках часовых не мог прорвать эту вязкую завесу. Я не видел, куда ступал. Но я знал, что каждый шаг ведет меня к бездне, из которой уже вырывается пламя, требующее все новых и новых жертв. Искры его выжирали мои покрасневшие глаза. В очередной раз раздался крик. Совершенно дикий, непередаваемый, полный ужаса. Борясь со слезами, я посмотрел вдаль. Сквозь дым я видел фигуры в отблесках огня. У них были вилы и лопаты, которыми они ворошили горы трупов, растаскивали тела, кидали их на решетки и обливали какой-то дрянью, от которой огонь вспыхивал до самых небес. Где-то застонала женщина, раздался визг ребенка, послышался топот ног, отрывистые приказы прорывались сквозь эту вязкость к моему заторможенному сознанию. Вместе с ними и звуки аккордеона. Играет музыка? Значит, уже время ужина? Или все еще день? Я задрал голову, но неба не было видно. Все пожрал дым. Мимо проплыли черные фигуры с застывшими взглядами, они несли дрова. Как и те, с вилами, – порождение адского пламени. Я в ужасе отшатнулся, боясь их задеть. Грязные от пыли, прокопченные погребальными кострами, они медленно шли вперед, не замечая ничего вокруг.
Хотелось проснуться, выбраться поскорее из этого ночного кошмара, но сон не отпускал, обволакивал тошнотворным чадом и сажей. Едкий дым заполонил все мое ночное виденье. Неожиданно из дыма показалась знакомая фигура.
– А, гауптштурмфюрер фон Тилл, вот вы где, – проговорил Габриэль. – Осторожнее, не наступите, здесь труп выпал из машины.
Я опустил голову. У моих ног лежало что-то обугленное, изломанное, раскинувшееся, словно подбитое животное.
– Что это за крики?
– Накануне не хватило газа, Молль велел сталкивать в рвы живыми.
Я не спал. Я шел по лагерю наяву.
– Я искал вас, чтобы сообщить невероятную новость, – продолжал говорить Габриэль, не обращая внимания на крики, – впрочем, очень даже вероятную. Вторжение! Англичане и американцы высадились в Нормандии! Хваленый Атлантический вал, который Геббельс надорвался расписывать как непроходимую преграду, союзники прорвали за несколько часов! Они просто сбрили наши войска. Это определенно начало конца. Нужно признать: катастрофа неизбежна.
– Высадка в Нормандии… Катастрофа, да… – Я медленно кивнул, механически повторяя за Габриэлем, но до конца не осознавая, что он говорит. Пелена дыма, застилавшая все вокруг, была слишком плотной, чтобы сквозь нее могла пробиться важность того, что происходило где-то там, вне ее пределов.
– Мне сообщили, что не хватает тележек для перевозки трупов и одеял для еще живых, – говорил я, уставившись потерянным взглядом в Габриэля, но даже не пытаясь сфокусироваться на его лице.
Он внимательно посмотрел на меня.
– Вы слышали, что я вам сказал, гауптштурмфюрер фон Тилл? – с тревогой произнес доктор.
– Нормандия – это там, а реальность – это здесь, – словно оправдываясь, пробормотал я.
По планам к концу июля Венгрия должна была быть полностью очищена. Но шестого числа внезапно пришла новость: Хорти лично вмешался в процесс депортации венгерских евреев и потребовал остановить эвакуацию. Спустя три дня транспорты и в самом деле перестали прибывать. Возмущаясь политикой Хорти вслух, все мы втайне вздохнули с облегчением. К этому моменту лагерь принял не менее четырехсот тридцати тысяч венгерских евреев, из них триста двадцать тысяч были признаны нетрудоспособными и уничтожены сразу же по прибытии, и лишь сто десять тысяч были отправлены на работы.
– А что еще Хорти оставалось делать? Запад доходчиво объяснил ему свое видение ситуации – массированной бомбардировкой Будапешта! Сейчас Эйхман еще может что-то требовать, но не сегодня завтра в ворота Будапешта ткнутся танки русских, – рассуждал Габриэль за обедом, который все мы теперь поглощали быстро и нервно.
Накануне я получил гневное письмо от Эйхмана. Судя по всему, он был в ярости.
«Два еврея, сбежавшие из Аушвица, написали подробнейший отчет о происходящем в лагере со всеми деталями и точным планом крематориев. А другие евреи вмиг распространили эту писанину по всему миру. Копии тут же оказались в Лондоне и Вашингтоне – все главы государств негодуют. ВВС не переставая трещит в своих эфирах об Аушвице. “Нью-Йорк Таймс” публикует статью за статьей об Аушвице. Уверен, во всех американских и английских гостиных только и разговоров, что об Аушвице. Мне сообщили, что Рузвельт лично отправил Хорти ультиматум. Из-за двух сбежавших ублюдков, накропавших свой отчет, у меня возникли серьезные проблемы. Я гоню эти чертовы транспорты, а ваши растяпы дают им сбегать. Чертовщина и черная неблагодарность… А что касается Хорти, если он думает, что таким образом обелил свое имя, то глубоко ошибается. Он уже внес свою неоценимую лепту в решение еврейского вопроса. В его случае будет благоразумнее идти с Германией до конца…»
В конце июля Хёсса неожиданно вернули в управление, а его место занял Рихард Баер. Всем стало понятно, что на этом наша венгерская миссия завершена.
В управлении быстро осознали потерю территорий, которые молниеносно захватили высадившиеся союзники, и примирились с этим. На днях был отдан приказ приступить к эвакуации Герцогенбуша[15]15
Герцогенбуш – концлагерь в Нидерландах, находившийся в городе Вюгт, провинция Северный Брабант. Существовал с января 1943 г. по сентябрь 1944 г.
[Закрыть] и Нацвейлера-Штрутгофа[16]16
Нацвейлер-Штрутгоф – концлагерь во Франции в 50 км к юго-западу от Страсбурга. Функционировал с мая 1941 г. по сентябрь 1944 г. Поблизости от главного лагеря располагалась эльзасская деревня Нацвейлер, давшая ему название. Представлял собой систему из более чем пятидесяти лагерей, расположенных на границе между Францией и Германией.
[Закрыть]. Под распоряжение попали без малого десять тысяч заключенных.
– Куда их? – с тревогой спрашивали охранники друг у друга.
– Дахау собираются «осчастливить».
– Слава богу, не к нам.
В конце июня началось и наступление русских на Центральном фронте. Буквально за несколько дней наша армия «Центр» была разбита, и русские хлынули в прорыв к границам с Польшей. Эвакуации лагерей начались повсеместно. В июле были окончательно опустошены бараки Майданека[17]17
Майданек – лагерь смерти в Польше на окраине Люблина. Первые заключенные прибыли в октябре 1941 г., освобожден в июле 1944 г.
[Закрыть]. В начале августа составы пошли из Плашова[18]18
Плашов – лагерь в Польше в южном пригороде Кракова. Изначально открыт как лагерь для принудительного труда, но впоследствии преобразован в концентрационный. В этом качестве действовал с ноября 1942 г. по январь 1945 г.
[Закрыть].
В это же время в Балтии царил хаос: СС были попросту сбиты с ног стремительным наступлением русских. Спешно чистились лагеря в Риге, Вайваре – самом северном лагере – и Каунасе. Не успевая эвакуировать всех, в панике уничтожали оставшихся прямо на месте, устраивая бойню за бойней. Самую большую партию расстреляли в Клооге[19]19
Клоога – концлагерь на территории оккупированной Эстонии. Находился недалеко от поселка Клоога, в 38 км к западу от Таллина. Освобожден вместе с выжившими заключенными (по некоторым данным, примерно 80 узников) частями Красной армии в сентябре 1944 г. Был частью комплекса из двадцати эстонских лагерей, главным из которых был концлагерь Вайвара.
[Закрыть]. Почти две тысячи заключенных загнали в лес и уничтожили пулеметами. Тех, кого смогли вывезти, отправляли в Штуттгоф[20]20
Штуттгоф – концлагерь в Польше в 37 км к востоку от Данцига (польск. Гданьск). Эксплуатировался в период с сентября 1939 г. по май 1945 г. Эвакуация заключенных началась 20 января 1945 г.
[Закрыть], и не только поездами, но и пароходами. Как рассказывали очевидцы, многим из охранного сопровождения стало дурно, когда в Данциге открыли забитые под завязку трюмы, – страшная вонь немытых, больных тел, экскрементов и гноящихся ран, сдобренных рвотой от морской болезни. На баржах их перетащили по Висле в Штуттгоф. Но лагерь уже трещал по швам: в бараки, рассчитанные человек на двести, умудрялись запихивать до полутора тысяч душ.
В Аушвице с содроганием ожидали того же.
– Говорят, у них там на ночлег даже в сортирах кладут, больше некуда. На нарах в два слоя лежат.
– А коменданты?
– А что коменданты? Все понимают, что надо избавляться, а как? Такое количество… А они до сих пор расстреливают или инъекциями! Гарантирую вам, скоро от них пойдут транспорты с излишком.
– Бардак повсеместный… да… А начнется настоящая паника – вот тогда попляшем!
– Ждем чудо-оружие. Оно всех спасет, доктор активно заверяет по радио.
– Ага, говорят, что чудо-оружие выпустили по Лондону, а оно от избытка чудесного сбилось с курса и на наших же и рухнуло.
Раздался рваный и саркастический смех.
– Что с вами сегодня, гауптштурмфюрер фон Тилл? Вы с утра сам не свой, – озабоченно проговорил Габриэль за завтраком.
Я ничего не ответил, продолжая думать о событии, которое случилось утром. Доктор пожал плечами и вновь вернулся к общему разговору. Очередной день прошел в зыбком тягучем тумане, пока не перетек в такой же тягучий сон.
Я стою и смотрю в глубокий колодец, я не вижу дна, там черная пустота, из которой дышит стылый холод. Чернота разъедает глаза, но я не отвожу взгляда. Я слышу легкие шаги. Она подходит и становится рядом. Заглядывает через мое плечо. Она должна знать.
– Что там? – спрашиваю я, не поворачивая головы в ее сторону, я все еще силюсь рассмотреть.
– Люди падают, разве не видишь? Дна там нет, потому падение вечное. Падай и ты, Виланд, уже не страшно.
Я в ужасе цепляюсь за колодец, чувствуя, как меня неодолимо тянет в его зияющую пустоту. Я молю мысленно, чтобы она ухватила меня и оттянула от него.
– Посмотри, они уже здесь. Уже здесь. – Голос ее становится все тише, будто свет, растворяющийся в темноте, и я с трудом разбираю последние слова: – Тихо, Виланд…
Я все-таки оборачиваюсь, но ее уже нет. Вместо нее появляются две тени. Без эмоций, без чувств, без лица, без дыхания.
– Посмотри в зеркало. Кого ты там видишь? – спрашивает первая.
– Нелюдя, – отвечала вторая.
– Где хороший, которым ты родился?
– Закончился. Начался нелюдь.
– Почему начался нелюдь?
– Потому что любовь к себе только.
– Почему к себе только?
– Рожден таким.
– Неправда это. Все вы рождены в любви и с любовью ко всему. Она у истока всей вашей жизни. Когда слилась первая клетка с другой и две части стали единым и появилось живое и сознающее воплощение – любовь запечатлелась в материи. Но не позволяешь ей объять себя всего – не позволяешь себе соединиться с самым древним и сильным состоянием, которое доступно человеку. Состоянием, из которого рождаются истина и всякий смысл. Гонишь, возлюбив себя одного. Когда вы возлюбили себя только?
– Когда слово сказали.
– Какое то было слово?
– Дай! – изрыгнула из себя тень.
– Дай мне землю, дай воздух, дай золото, дай внимание, дай власть, дай мне славу… – опустившись на колени, исступленно шепчет Виланд, которым я себя уже не ощущаю.
– Не бери, но отдавай. И закончится нелюдь… А пока пожинай.
Темная тень возросла и обвила того Виланда вокруг головы. Он чувствует, что его хватают за волосы, поднимают и бросают в колодец. Но падения нет, его лицо тут же бьется о грязный заплеванный бетон. Виланд лежит на ступенях в темном пыльном подъезде. Рука продолжает крепко прижимать его голову, не давая отстраниться от пола. Натыкаясь на засохшие плевки, экскременты крыс и тараканов, Виланд вылизывает их. Обильная рвота извергается из него. Чувствуя, что власть руки ослабла, он в изнеможении приподнимается. И видит, что вокруг люди с карабинами, а перед ними бледные бесполые фигуры, ожидающие молчаливого приказа. Люди с оружием кивают, и белесые торопливо убирают его рвоту своими губами. Снова тошнотворный ком рвется к горлу и изрыгается на грязные ступени, и так продолжается снова и снова, пока, опустошенный и обессиленный, он не падает в эту горячую липкую жижу. Раздаются выстрелы. Его расстреливают тут же, на ступенях, и кровь его смешивается с рвотой. Смерть позволяет ему прикрыть глаза, чтобы он открыл их уже в новом месте. Виланд лежит на слое трупов во рву. Он ощущает запах хлорки и выделений. Медленно поворачивает голову и видит что-то цвета хлеба. Это труп с пшеничными волосами. Он поднимает голову и тихо говорит: «Всего семнадцать». «Что, семнадцать?» – шепчет Виланд. «Лет». На краю рва, свесив ноги, сидит человек с винтовкой. Он курит и лениво сплевывает в их сторону: «Прекратить разговоры». Виланд измученно закрывает глаза и взрывается новой болью: его кожа пузырится и брызжет сукровицей – он в горящем доме. Кровь на животе, стекающая со срезанных пластов кожи, закипает от нестерпимого жара. На голове оплавляются волосы, травя запахом жженого пера. Сквозь огонь просачивается тень и вновь обволакивает его. Виланд уже на улице. Разлепляет вздувшиеся веки и обреченно смотрит, как его окружает стая человекообразных существ с черными птичьими головами. Он снова закрывает глаза… Насытившись, они скидывают его изуродованное тело в глубокий черный колодец. Виланд лежит на дне, освещенный блеклым светом от круга серого неба, мерцающего высоко над его головой. Он знает, что сейчас будет самое страшное. Наконец является ее лицо. Свесившись, Бекки внимательно рассматривает его:
– Что там, Виланд?
– Тут ничего нет.
– Понимаешь… мы столько испытали, а там ничего нет… Совершенно ничего. Упустили всё тут, и ничего не будет там… Ничего… Даже ответов. Все было здесь… Жить нужно было здесь.
Она продолжает смотреть на меня, глаза ее ширятся и ширятся, пока она не вбирает всего меня своим страшным сумасшедшим взглядом. Обволакивает и швыряет в тень, в которой я слышу какое-то скребущее бормотание. Каждое слово будто царапает по тишине и полосует ее мелкими порезами, из которых сочится знание: «Что нужно, чтоб одолеть то? Убить всех убийц. Нет… Ложное… Убереги себя и другого, и так одолеешь то…» Что то?!
Я открыл глаза и уставился в темный потолок. Дыхание было ровным, но смятая простыня была насквозь мокрой. Волосы слиплись на лбу. Я перевернулся на бок и пошарил рукой по столу, пытаясь нащупать в темноте портсигар.
Выкурив сигарету, встал и начал одеваться.
Я замер, поражаясь тишине, царившей вокруг. Я хорошо помнил из той, прошлой, почти детской жизни, как случайная смерть сопровождалась душераздирающим воем, суматохой и скорбью, и видел сейчас, сколь беззвучна запланированная смерть. Тиха, отлажена, без суетливого траура. Еще несколько минут назад двор был полон эсэсовцами с собаками и перепуганными заключенными, а теперь тишина. В этой тишине я хорошо расслышал шаги. Освещаемые фарами от машины с красным крестом, к крематорию шли дезинфекторы из санитарной службы. Они уже были в масках, в руках держали банки с «Циклоном». Я наблюдал за ними, постепенно мой взгляд соскользнул с их фигур на цветы в окнах крематория. На ночном ветру красивые крупные красные соцветия тревожно колыхались над приоконными горшками. Их красный цвет в свете фар был темным, почти бордово-черным, словно запекшаяся кровь. Неожиданно я захотел понять, о чем думал человек, который отдал приказ посадить цветы в окнах крематория.
Я прошел внутрь и сразу направился вниз, в раздевалку. Она была огромна, не меньше двухсот пятидесяти квадратов. На стенах висели таблички: «Сдать вещи на дезинфекцию перед душем!», «Мой руки!», «Всегда оставайся чистым!», «Вши – твоя смерть!», «На дезинфекцию!». Я внимательно разглядывал группу голых людей, которых должны были вот-вот отправить в газ. Кто-то еще стыдливо прикрывал наготу, но большинству было уже все равно. Это были лагерные, а значит, они обо всем догадывались. Меня пронзила мысль: неужели я, осознав, что через минуту меня умертвят как скотину, не сделаю ни единой попытки противостоять? Не буду бросаться как цепной пес на своего мучителя, пытаясь хотя бы раз укусить его перед смертью? Тут скрывался какой-то подвох, но какой? Неужели в том, что сказал Эйхман, есть хоть крупица правды?
Я продолжал разглядывать их, стараясь не привлекать к себе внимания: они смотрели, озирались вокруг. И я вдруг понял, о каком взгляде писал Хуббер в своем письме. Этот особенный взгляд человека, молодого, не имеющего смертельной болезни, но обреченного на смерть, – его ни с чем не спутаешь. Он бессознательно обшаривает все пространство вокруг, блуждает с точки на точку, с предмета на предмет, впитывая каждую деталь, он вбирает напоследок все, что еще касается мира живых, ищет хоть что-то, за что можно уцепиться и остаться или хотя бы отсрочить уход. То, что этот молодой и здоровый должен был впитывать до самой старости, он пытается вобрать сейчас, за оставшиеся драгоценные мгновения. Он знает, что насытиться и пресытиться этим миром у него уже не выйдет, потому надо сейчас, сейчас… напоследок… Скамейки, таблички и крючки на стенах, своды этого подвального зала, опоры – все обласкано их взглядом, все впитано без остатка. Я вижу, что они цепляются… но больше ничего. Просто отступаются от жизни в газовую камеру.
Я подошел к охраннику. Тот вытянулся и отсалютовал.
– Вчера в женском была селекция, с ними уже закончили?
– В процессе, их во втором.
Я кивнул и пошел прочь. Но на ступенях вдруг замер, услышав нечто странное. Кто-то запел. К первому источнику звука присоединился второй, потом подхватил третий, и вот уже вся толпа как один выплакивала песню. Я медленно обернулся. Это было странное зрелище: десятки обнаженных людей, вскинув головы к подвальным сводам, пели. Ровно, слаженно и чисто. Охранники переглянулись, вскинули на всякий случай винтовки, но прервать не решились. Слишком невероятно было происходящее, оно сбивало с толку и вызывало оторопь одновременно. Я молчал. Слушал. Закончив, они так же слаженно опустили головы, поникнув окончательно.
Выйдя на улицу, я припал к стене крематория. Голова раскалывалась. Не стоило так долго находиться в помещении, куда открывались двери газовых камер. В последнее время их проветривали отвратительно. Я услышал глухие хлопки – дезинфекторы вскрыли молотками жестяные коробки. Я знал, что уже в эту секунду голубые гранулы летят в отверстия, ведущие в «душевую». Лязг – отверстие тут же закрыли затвором. Яд для уничтожения паразитов начал свою работу. Перед крематорием вновь воцарилась мертвая тишина. Не было ни охранников, ни машин, ни прожекторов, ни узников. Гулкая холодная пустота, растекавшаяся вокруг, становившаяся все больше, занимая место живых, ушедших безвременно на самом пике того, что природой было преподнесено как величайший дар.
Я пошел во второй крематорий. Там подозвал охранника и назвал ему номер.
– Мою работницу по ошибке отправили сюда, – солгал я. – Если ее еще не уничтожили, то отделите от остальных и верните в лагерь. В списке сделают соответствующую пометку.
Он кивнул и заторопился в крематорий передать мои указания.
Я вышел и закурил, глядя в небо, пытаясь понять, зачем сделал то, что сделал. Зачем я явился ей? Зачем вообще попросил о переводе, когда увидел ее здесь? Идиот, поставивший крест на своей карьере, а возможно, и на самой жизни, учитывая, как быстро приближались русские к этим территориям. Достаточно было лишь одного взгляда, чтобы ее образ вновь просочился через глаза, вцепился прямиком в душу и с тех пор не отпускал, пожирая и во сне и наяву, трепля, истязая и заставляя просыпаться поутру уставшим и измученным более, чем я был накануне, когда ложился с твердым намерением дать, наконец, отдых своему разуму; чтобы, проснувшись, торопиться на поверку и следить со стороны, снова и снова убеждаясь: здесь, живая. Я не боялся, что она узнает меня: она всегда стояла во второй шеренге и смотрела прямо перед собой, в спину другого номера. Я не мог рассмотреть ее так, как мне бы того хотелось: жадно, пожрать всю взглядом, убедиться, что дышит глубоко, что руки теплые, что стоит твердо на ногах, не покачивается, не бледная, что теперь, после перевода, сытая и здоровая. Мимолетный, безэмоциональный взгляд, не вызывающий подозрений, – вот и все, что было дозволено мне обстоятельствами. Лишь пару раз, скользя глазами по шеренге, я позволил себе задержаться на ней на пару мгновений дольше обычного.









































