Текст книги "Мои слова под дождем не мокнут, или Повесть о потерянном солнце. Книга, основанная на музыке, снах и воспоминаниях"
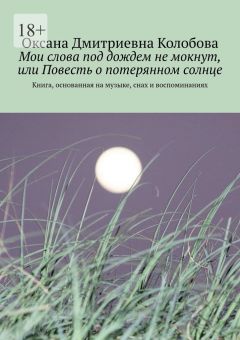
Автор книги: Оксана Колобова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Тебе интересно?
Я вздрогнула. Она смотрела на меня.
– Хочешь переключить?
– Да вот думаю, может, лучше диски?
– Давай лучше послушаем.
Она передернула плечами и похлопала по рулю, мол, ладно, как скажешь. Диктор все продолжал гундосить. Слушать его было тяжело – представьте, что перед вами стоит человек с большим прыщом на лбу. Как долго сможете смотреть ему в глаза? Тут было почти то же самое.
– В тысяча восемьсот семьдесят пятом году Петр Иванович Чайковский получил неожиданный заказ от дирекции императорских театров. Они предложили ему взяться за «Озеро лебедей», вот только, как правило, оперные композиторы в то время почти не работали в жанре балета. Однако, он решил не отклонять заказ и попробовать свои силы в новом для себя жанре. Для работы ему был предложен сценарий Бегичева и Гельцера (в микрофон зашуршали фольгой). Он с головой окунулся в работу и очень ответственно подошел к каждому шагу.
Мы ехали в тишине. Ее вытеснял голос нудного радиоведущего и тихое позвякивание стекла – изредка в лобовое стекло прилетал камешек. Птица-провожатый размеренно двигалась у моего окна, упершись в мое лицо одним глазом. Вот кто всегда смотрит в один глаз. Отнюдь. Я не была уверена, что она действительно меня разглядывала. Не думаю, что ей было хоть сколечко интересно.
– Как думаешь, когда они летят, они смотрят вперед или вбок?
– Композитору пришлось изучать танцы, их очередность, а также какая именно музыка должна быть написана для них. Ему даже пришлось подробно изучить несколько балетов, чтобы отчетливо понимать их композицию и структуру.
– Не знаю. Я думаю, они никуда не смотрят.
– Думаешь, им пофигу?
– Касаемо партитуры, в балете «Лебединое озеро» раскрываются два образных мира – фантастический и реальный – однако, зачастую границы между ними стерты.
– Нет. Им точно не пофигу.
3
Километры соплей и гудков
Уроки закончились в 13:50. Последним было ИЗО. Татьяны Юрьевны опять не было и за нами присматривал физрук. Кто делал домашку, кто заполнял дневник, кто садился в круг и играл в города, а мы с Лехой доигрывали в бумажные шахматы. Звонок звенел долго – уж не знаю, что с ним такое случилось. Звон стоял пронзительный и долгий – того гляди затрещат стены. Но стены не затрещали. Затрещала моя голова. Все начали быстро укладывать свои вещи в ранцы, кричать – тогда голова затрещала еще сильней – и выбегать из здания, разбросав в раздевалке вещи ребят, оставшихся на продленку. Я на продленку не ходил. Я был самостоятельный малый – так раньше говорил папа. Я мог сам подогреть молоко и пожарить картошку. Мог сам себя занимать и следить за оценками. А кроме этого что еще нужно? Ничего. Так говорила мама…
Я любил подолгу укладывать вещи. Любил пустые коридоры. Любил тишину. И еще – неспеша плестись домой. На улице было славно – дождь давно закончился, оставив после себе густое облако озона, которое тяжелым камнем проваливалось в легкие. Тем не менее, дышалось все-равно почему-то свободно. Пыль с песком намокли и налипли на тротуарах. Я любил размазывать их кроссовками и шлепать по лужам. Потом сильно ругалась мама. Но я научился мыть кроссовки перед ее приходом.
Дома мамы почему-то все еще не было. Я подумал, что она задержалась на работе. А телефон молчал. Он был новый, светло-зеленого цвета. Один стоял в прихожей, другой в комнате сестры. Когда я сам был помладше, и когда сестра еще жила с нами, мы часто созванивались. Я звонил ей из коридора, а она поднимала трубку у себя в комнате. Еще у нас была другая игра. Стены в нашей квартире были тонкие, почти картонные, как в каком-нибудь кукольном домике. Я придумал специальную систему букв и цифр, почти как в азбуке Морзе. Мы с ней использовали этот шифр для передачи тайных посланий. Например, я сообщал ей, что мама с папой уснули, тук-тук, и она тогда она уходила на дискотеку. А я все это время не спал, чтобы следить за обстановкой в доме. Сестру я очень любил. Когда она возвращалась, я слышал едва-едва слышное тук-тук-туктук, а с утра находил под дверью здоровенную плитку шоколада.
Примерно такого же цвета у нас были и лампы. Всего две штуки – тяжеловесные, с длинными шеями, они напоминали мне старых лебедей. Одна располагалась на столике в коридоре. Другая стояла в моей комнате. Их металлические «шеи» можно было гнуть как угодно. С ними было удобно читать и делать уроки. Верховой свет я включал редко – почему-то очень болели глаза. А мама любила включать везде сразу все. Не знаю, по какой причине. Может, так она боролась с одиночеством после смерти папы. А я с ним никак не боролся. Мне думалось, что так я предаю его память. И наоборот – я подолгу сидел в темноте, если она долго задерживалась на работе. Мне казалось, что так я могу поглубже погрузиться в свою тоску. Темнота успокаивала и гладила меня по голове. Я думал, что в ней я могу найти остатки своего папы. Мне казалось, что только в темноте я могу почувствовать его рядом. Темнота хранит в себе слишком много, вы не думаете? При свете этого всего не видно. А должно же быть наоборот, верно? Я так не думал и был прав. Наверное, этого всего, что в ней сидит, и боялась мама. Но я не боялся. Я же самостоятельный и храбрый малый. Так говорил папа.
Мама позвонила в 16:21. Я резал огурцы. Когда есть не особо хотелось, я зачастую ужинал ими и ржаным хлебом с маслом и солью. Потом заваривал чай и садился читать книжку до прихода мамы. На сегодня у меня был сборник чеховских рассказов. После ее прихода я обычно делал уроки. Я не могу сказать, что мама была строга со мной, но вместе с папой в ней умерло что-то живое. Какой-то огромный кусок ее нутра. Живого. Мягкого. Осязаемого. Осталось безликое. Бесцветное. Вязкое. Оно заливало собой все вокруг и таскалось за ней мертвым грузом куда бы она ни пошла. Когда она приходила с работы, мне казалось, что этого становилось все больше и больше. Может, разносила это самое туфлями, шлепая по полу туда-сюда. Я представлял, что от ее прикосновения пачкалось все, начиная кухонным полотенцем и заканчивая моими волосами – обычно она гладила меня по голове. Раз – она нарезает картошку. Два – по картошке ползут черные линии. Три – срезанная кожура падает в черную воду. Четыре – по ножу и ее рукам текут черные ручейки. Пять – она треплет меня по голове. Шесть – я говорю ей что все будет хорошо. Семь – она поджимает губы и вытирает руки полотенцем. И восемь – оно пачкается черными разводами от ее пальцев. Девять – поджимаю губы уже я. Кроссовки я не мыл целую вечность. Мама больше не ругалась.
Она позвонила и сказала, что будет дома через час. Голос как обычно шероховатый и плоский – никакой былой упругости, когда она заливалась смехом и он отражался от стен и зеркал. Сколько рассказов я мог прочитать за шестьдесят минут? Наверное, три. Вместо этого я уставился в стену и начал думать о папе. А потом – об учительнице по музыке и ее огромных штуках в ушах. Интересно, мочки со временем не оттягиваются? Мне кажется, с ее-то мочками все было в порядке. Я вспомнил о портрете Чайковского и захотел плакать. Глаза драло. Я уставился в стену, растопырив их настолько широко, насколько только мог. Я же сильный и храбрый малый, да? Слезы текли по подбородку и капали за шиворот. Я сильный и храбрый малый, да, папа? Слезы текли безудержно, и я то и дело размазывал их по лицу рукавом. До этого момента я не понимал выражения «наматывать на кулак сопли» – зачем и с какой целью их наматывать и уж тем более на кулак? В тот момент я понял. Сопли были такими длинными, что я мог с уверенностью сказать – в жизни на физре столько километров не бегал. Да даже в совокупности. Ни– ко-гда. В голове играла музыка с сегодняшнего урока. В такт ей гремели ее сережки и какие-то взрывы снаружи – их я, похоже, сам придумал. Вы не думайте, что я слабый малый – мне казалось, что тоску я уже как-никак прожил, и осталось всего-то ничего. С горошинку, не более. Я и подумать не мог, что во мне этой тоски целые километры. Я залпом выпил остывший чай. А потом понял, как сильно я одинок. И это было как гром среди ясного неба. Как взрыв за окном. Как слезы Чайковского. Как громадные штуки в ушах. Как окопы, в которых нашли моего полуживого деда. Как число тридцать семь и последняя строчка написанного текста. За ней – еще много-много пустых страниц. Вы можете представить на этих страницах меня, наматывающего на кулак сопли.
Белье так и осталось на улице. Я вспомнил про него, когда небо подернулось серым. Мама домой так и не вернулась – ни через час, ни через два, не через три. Вообще не пришла. Кто-то на небе шуршал фольгой, пуская по небу росчерки грозовых молний. К пол десятому брызнул дождь – долгий, как ничто и мои сопли. Юбка молча висела и колыхалась на ветре. Из окна ветра было не видно, и мне казалось, будто ее без конца треплют маленькие человечки. Юбка все висела и висела. Я оставил ее там специально – напрасно думал, что она найдет мою маму и приведет домой. Она придет и поругает меня за то, что я забыл про белье. В особенности – про юбку. Я думал, что специально забытая юбка поможет мне что-то исправить. Я знал, что ошибался. Я почувствовал это через дождь и через юбку, которую туда-сюда кто-то колбасил. Нет, ветер все-таки был – соседские деревья гнулись в стороны. И мне стало их жаль. Мне было жаль, что я не могу забрать их домой. Потом мне стало жалко папу. Потом мне стало жалко маму. Ну а потом мне стало жалко себя.
Я так и не нашел в себе силы взяться за рассказы. Уроки я решил вообще пока что не трогать. В девятом часу позвонил Леха спросить про домашку по математике. Тоже мне, нашел времечко, да? И когда же он только уроки собрался делать? На ночь глядя? Я нехотя полез в дневник и сказал ему номера – 289, 290, 300. Был май. И был конец учебника. Я сказал ему, что вывихнул ногу по дороге домой и что меня завтра не будет. Он расстроился и пожелал мне счастливой и здоровой ноги. Я сказал спасибо. Было славно его услышать. Я так и сказал ему.
Ближе к десяти часам мне захотелось есть. Я пожарил себе батона с яйцом. Потом налил молока точно до середины кружки и заполнил оставшийся промежуток водой – похоже, теперь придется экономить. Разогрел молоко и посыпал гренки сахаром. После того, как поплачешь, еда кажется немного вкуснее. Мне показалось, что на время еды – она отняла у меня всего пять минут – я забыл о маме и ее юбке. А потом вспомнил опять, когда к окну прислонилась птица, и глядя мне в один глаз, принялась мне что-то настукивать. Я был уверен, что именно мне. По асфальту с силой бил дождь, будто бы наказывая за какую-то детскую шалость. В такую погоду птиц за окном не встретишь. И вправду, куда они все девались? Но одна из них все же была здесь, под моим окном. Вся промокшая, она визуально делалась маленькой. Я прикинул, сколько моей ладони она могла бы занять – треть, половину? Что же должно было произойти, чтобы она оказалась здесь? Почему она не спряталась от дождя? Почему прилетела к моему окну? Что она хотела мне сказать? Она долбила по стеклу клювом, выстукивая одну и ту же комбинацию звуков в примерно одном и том же ритме. Туктук – пауза – тукту-тук, ту-у-у-к, туктук, туктуктук. Согласно нашему с сестрой шифру, она сказала, что мама ко мне не вернется. В ту же секунду зазвонил телефон, и я на мгновение потерялся, не зная за что схватиться в первую очередь. Вы не встречали такой психологический тест? Звучит это примерно так – зазвонил телефон, закричал ребенок, постучали в дверь, к тому же вы оставили на гладильной доске включенный утюг. К чему вы побежите в первую очередь – к телефону, к двери, к утюгу или ребенку? Про тот тест мне когда-то рассказывал папа. Называется «расставление приоритетов». Кстати, слово «приоритет» я тогда услышал впервые в жизни. Разумеется, позже я уточнил его значение в словаре Ожегова. Вернемся к той ситуации. Звонит телефон. Но моя птица все еще ждала меня за окном. Сперва-наперво я открыл форточку и она тут же прошмыгнула внутрь, будто только того от меня и добивалась. Я подбежал к телефону и снял трубку. На телефоне висела моя сестра.
– Алло, Васенька.
– Алло.
– Добрый вечер.
– Добрый вечер.
– Уроки сделал?
– Да. Как дела?
– Хорошо.
Я промолчал.
– А у тебя?
– Мама не пришла.
– У вас тоже дождь?
– Да.
– Сильный?
– Очень.
Я покосился на птицу. Она уселась на холодильник и сложила крылья. Почему-то мне вспомнился папин перочинный нож. Он брал его с собой когда мы ходили за грибами и он учил меня правильно срезать сыроежки – так, чтобы корешок оставался в земле. Я тогда чуть не захныкал. Делать это было категорически нельзя – пусть сестра думает, что я в полном порядке. Слово «категорически» тоже было новым и время от времени я использовал его неправильно. Точнее сказать – повсеместно. Так я пробовал слово на вкус – понравится, не понравится, а там посмотрим.
– Придет. Пережидает где-то наверное.
Я очень хотел верить ей, а не птице, дождю и юбке. Я правда-правда хотел ей верить.
– Угу.
– Ты ужинал?
– Да.
– Точно?
– Ага. Гренки делал. Помнишь, ты учила меня их готовить?
– Конечно, помню. Как твои друзья? Ходишь гулять?
– Не особо.
– Не особо друзья или не особо ходишь гулять?
– И то, и другое.
– Ясно.
Она вздохнула. Я чуть не сказал ей, что вывихнул ногу.
– Как четверть закончил?
– Одна тройка.
– Ну ничего.
– Угу.
– Сколько дней осталось учиться?
– Четыре.
– Понятно. Я приеду к вам на каникулы.
– К нам? Разве не к себе домой?
Она замялась. Я услышал голоса. Когда я был маленький, я не понимал – как так? Как человек мог убраться в эту зеленую штуку? А трое? Четверо? Кошмар. Интересно, что бы я подумал тогда, услышав все эти голоса поверх голоса сестры. Наверное, я бы был в ужасе. Однажды, когда-то давно, у нас был другой телефон. Серый, старенький. Чей-то. Помню, папа обжег себе ногу и случайно столкнул его с тумбочки. Вот тогда я и был в ужасе. Это что получается, все, с кем разговаривали родители, тоже разбились? И где их теперь искать? В обломках? Видно, и они сами в этих обломках остались. Мне бы только найти эти обломки и сложить воедино где-нибудь на простыни. Вот и все.
– Я случайно. Отвыкла уже, понимаешь?
– Понятно. Как оценки?
– Нормально.
– Сложно учиться?
– Да как тебе сказать… Наверное.
– Ты куда-то торопишься?
Голосов стало только больше. Она нервничала.
– Монетки заканчиваются.
– Ясно. Ну пока?
– Пока.
Пока. Трубку я от уха не убрал и все стоял так, как идиот, не желая оставаться совсем одному. И я почему-то подумал, что ей тоже грустно, и что она стоит с этой трубкой в руке как самая настоящая идиотка. Гудки были долгими. Почти километровыми. Птица сидела на холодильнике. Гудки оборвались и упали в бездонную яму. Я положил трубку на место. Птица открыла глаза, будто все это время ждала, когда я наговорюсь, и уснула – выглядела она уставшей и сонной, будто без продыху летела километра три. Может, на нее так тепло подействовало, кто ж ее знает? Я закрыл форточку. Оказалось, что под ней натекла целая лужа. Я вытер ее кухонным полотенцем – теперь чернота была и на полу тоже – и вылил остатки молока в блюдце. Птица пить не стала, лишь посмотрела на меня как-то искоса и стала поправлять оперение. В тот момент мне опять захотелось плакать. Мне казалось, что сестра была где-то здесь. Что она сидит в трубке и вот-вот напугает меня, издав звонкое и какое-то слишком взволнованное «Алло!». Но нет. Было тихо. Никаких «Алло!» и никаких «Васенька, ты меня слышишь?». Ничегошеньки. Куда же подевалась мама?… Я присел на табуретку. На улице было очень темно. Теперь мне стало жаль и юбку тоже. Как она там одна? А мама? У меня перехватило дыхание и я сжал его у рта, прикусив палец – так не убежит? Точно-точно? А птице, похоже, было все равно – и на юбку, и на маму, и на меня самого. Я тогда здорово разозлился. А она сидит себе и сидит на холодильнике, смотря куда-то мне в лоб, будто бы на нем что-то было написано. Что-то, может, и было, но никак не «приют для бродячих птиц». Это я знал на все сто.
– Что смотришь?
Птица продолжала смотреть мне в лоб.
– Почему молоко не пьешь?
Молчок. Было забавно ждать от птицы человеческой речи. И в конце концов, ну могла же она ответить мне шифром? Могла. Похоже, она сознательно отмалчивалась.
– Не хочешь? Или не нравится?
Она клювом поддела блюдце и то опрокинулось. Мне стало горько. И знаете про что я в тот момент вспомнил? Про старую мамину подругу. Она никогда не рассказывала, где и как они познакомились. Была Ирина. Она и была ее подруга. Это все, что мне было о ней известно. Складывалось ощущение, будто они вообще не знакомились, понимаете? Бывает же такое, в конце концов? – когда люди настолько долго друг друга знают, что уже и не вспомнить откуда. Кажется, что и не было того времени, в котором вы вдруг окажетесь незнакомы. А если оно когда-то и было, то его уже давно нет. Его вырезали или просто вычеркнули из какой-нибудь книги, в которой были бы зафиксированы все встречи и невстречи людей. Интересно, про нас с птицей уже написали? Я посмотрел на календарь. 27 мая 1945г. Потом – на часы. Минут пятнадцать назад она влетела ко мне в окно. Сейчас 22:55. Приблизительно 22:40. С погрешностью. Такая дата была бы записана в этой книге, если бы та, конечно, где-нибудь в мире существовала. 22:40, 27 мая 1945г. Я подумал: если такая книга есть, значит есть кто-то, кто наблюдает за людьми и ведет в этой книге записи.
Так, ладно. Подруга Ирина. Эта подруга вечно была беременна. Сама она не работала и сидела дома с детьми. Детей шесть у нее было точно. И живот у нее всегда был такой гигантский, что мне казалось – головы три, не меньше. Еще мне всегда думалось, что не беременной она никогда не бывает. Только-только родит и опять по новой. К нам на приходила всегда с животом, и я сравнивал этот живот с собственным телосложением, прикидывая, смог бы я там убраться или нет. Сдается мне, что смог бы. Раз в телефоне все эти люди убираются, значит мне в этот живот забраться – легче простого. Как два пальца обоссать. Ирина приходила и всегда гадала маме на картах. Они запирались в зале и я подсматривал за ними через стеклянную дверь. Помню, сидели они всегда в одной и той же позе. Мама ко мне затылком, блондинистым и пышным, а Ира напротив нее, уложив свои длинные хорошие груди на стол. Волосы у нее были редкие, как мои кисти для рисования – все обглоданные, ободранные. Но она была красива. И волосы ее ничуть не портили. Даже больше скажу, до нее я не встречал людей, которых такие редкие волосы могли бы украсить. Я подумывал, что ей суждено иметь такие волосы, и что отрасти она их, нарасти, покрась или еще чего – случиться что-то плохое. Еще она говорила, что быть беременной и рожать детей ей суждено тоже. Разумеется, говорила она это не мне – я любил подслушивать их разговоры. Мне кажется, я и в нее был влюблен. И не то чтобы я был влюблен во всякую женщину. Я был влюблен в тех, кто оставлял на мне отпечатки – подобно тому, как мама везде оставляла свои. Следы тех женщин были светлыми и желтыми – так видел их я. А мамины – черными. Так и получалось, что во мне был намешан черный и желтый. Папины следы были синими. И их во мне почти не осталось. Я очень не хотел, чтобы они уходили совсем, и поэтому самостоятельно вмешивал этот цвет себе в палитру. Достаточно было смешать желтый и зеленый – этот зеленый и был я сам. Я много раз думал, какой исходный цвет был у мамы. Больше я склонялся к белому. Белый цвет отталкивает от себя все цвета. Черный – поглощает. И не всегда хорошие. Он поглощает все сразу, как поглощают в себя мир глупые дети – они пока не понимают, что хорошо, а что плохо. А я-то хоть понимаю? – спросил я себя сейчас. Я знал, что плохо – «насилие», «браконьерство» и «садизм». О третьем слове я узнал совсем недавно. О первых двух со мной говорил папа. А мама говорила со мной о том, что хорошо – «любовь», «природа» и «поиск себя». Выходит, что мама с папой – это сплошное плохорошо. Жаль лишь только того, что чтобы найти себя, идти порой приходится обходными путями. Я искал себя через папу. Папы больше не было. Как и мамы. Я подумал – неужели все пути ко мне самому были отрезаны? И где теперь все это искать?
Птица смотрела мне в точку между бровей.
– Ну и что ты на меня смотришь?
Она наклонилась к блюдцу и помочила в молоке самый кончик клюва.
– Балуешься?
Я подумал, что она все-таки попьет, но вместо этого она опять принялась стучать. На этот раз это была такая комбинация. Туктуктук, тук, тук, тук, тук, тук, туууукккк, – завозила носом по блюдцу, издав неприятный скрежет, – тук, тук. И мигом посмотрела на меня, будто хотела сказать – ну что? Я поковырялся у себя в голове. Повешенный, жертва и божественный закон. Я выпучился на нее.
– И как это понимать?
Птица опять наклонилась к блюдцу, и я подумал, что в этот раз она мне точно все-все разъяснит. Вместо этого птица раскрыла клюв и принялась рывками заталкивать в себя молоко, изредка запрокидывая голову назад. Я угрюмо на нее посмотрел.
– Обманула меня, да? Все-таки нравится тебе молоко.
Я вспомнил, что про «Повешенного» я все-таки кое-где слышал. У маминой подруги была старинная колода карт, которую она всегда таскала с собой в мешочке. Таро Уайта или Уэйти… Или Уэйта. Что-то подобное, короче. Я помню, как подсматривал за ними через стеклянную дверь. Стекло было зеленоватое, как и почти все в нашем доме. А его покрытие – то выпуклое, то впуклое. Одним словом – неравномерное и в ромбик. В эти ромбики я смотрел на мамин затылок и грудь ее подруги. Она тасовала колоду карт и протягивала ее моей маме, чтобы та сдвинула ее на моменте, который больше всего подходил ее цвету. Потом она тасовала ее еще раз и выкладывала карты на скатерть как на витрину. Мама выбирала понравившиеся. Ее цвет выбирал понравившиеся. А Ирина их толковала, уходя в ее судьбу с головой. Я иногда думал – а как так? Как можно что-то узнавать по кусочкам картона? Уж не выдумывает ли она чего? Я знал ответ на вопрос. Не выдумывает. Страсть у меня такая, видите ли. Задавать вопросы и отвечать на них самому. Я думаю, что это окольный путь к самому себе – через Чайковского и окопы, в которых мог прятаться мой дед с оружием наперевес, птиц, карт таро и живот маминой подруги Ирины – и чтобы сразу к себе. Удивительно. Я не помнил в деталях, о чем тогда шел их разговор. Но я запомнил некоторые картинки на картах, искаженные от пухлых стеклянных ромбиков на двери.

Карта «Повешенный» мне сразу запомнилась своим изображением. Человек, за ноги подвешенный к дереву. Его ноги образовывали собой цифру четыре. Я не запоминал ее толкований. Сейчас-то я уж точно не вспомню что она тогда говорила. Но картинки на них были и вправду пугающие. Особенно для моего детского воображения. И все-таки, главную суть понять было несложно – женщины и мужчины, изображавшиеся на них как короли и королевы, были мужскими и женскими фигурами в реальности; карты с крупным и ярким рисунком были более сильные; карты с простым и мелким рисунком – менее; а по самому изображению можно было понять их хотя бы отдаленную суть. Я тогда и понял. Карту «Смерть» по ее названию. И еще – по черному скелету верхом на коне. Я тогда понял и влетел к ним в комнату. А потом расплакался. Мама успокаивала меня весь вечер. У нас дома они больше не гадали. А я так и не понял что эта «Смерть» означала. С мамой об этом случае мы больше не говорили. Месяца через четыре Ирина перестала у нас бывать. Больше не было ее ужасно большого живота и ужасно длинных титек, мешочка, карт таро и жидких волос. По жидким волосам я скучал больше всего.
Птица оторвалась от молока и продолжила смотреть мне между бровей. Я собрался с мыслями и пошел себе в комнату, погасив свет на кухне. Хватит с меня на сегодня этих мыслей. Птица осталась на кухне с ними наедине. Она сидела на холодильнике, сами мысли – на табурете. Мне хотелось, чтобы она утопила их в своем молоке. Мне очень не хотелось, чтобы они продолжали жить, и вдруг обернувшись человеком, ежедневно меня кошмарили, напоминая о том, как все это было до. Если бы я только мог найти ту самую нить, что меня с ними связывала, и перерезать ее папиным перочинным ножом! Однако же я знал: будь у меня такая возможность, я бы ей все-равно не воспользовался. Для этого мне нужно было лишиться зеленого цвета. Или наоборот – только потеряв то самое, я бы заодно и его потерял? Я этого не знал. Но факт остается фактом.
Птица пришла ко мне около двенадцати ночи. Я это понял по звону часов. В этот раз мне даже не было страшно. Я принял это как факт. Я дома один. И теперь я буду один всегда. И часы бьют потому, что уже двенадцать ночи. И я бы не слышал их, если бы крепко спал. Моя вина в том, что я все еще не сплю. Лишь моя вина, а не чья-то еще. Часы не виноваты в том, что вынуждены звонить. Это их функция. А моя функция – спать. Я свою функцию не выполняю. Это лишь моя вина. Я потерялся во времени. Она прилетела ко мне и я, вытянув ноги к изголовью кровати, уперся большим пальцем в ее оперение – наверное, я ее тогда чуть не столкнул. В конце концов птица окончательно улеглась у меня в ногах и за весь день мне первый раз стало по-настоящему спокойно. Мне показалось, что больше я одиноким не буду. Еще я подумал, что у меня наконец-то появился друг. С той мыслью я и заснул. Последнее, что застыло у меня перед глазами, были стеклянные ромбики на моей двери. Зеленое стекло, птица, мамина юбка… Все смешалось и придавило мои веки чем-то тяжелым.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































