Текст книги "История животных"
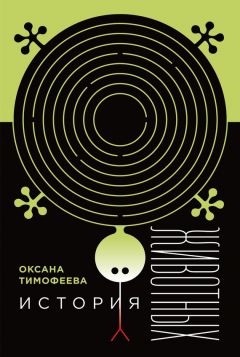
Автор книги: Оксана Тимофеева
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Безумец
Средневековье знало, однако, и другой довод в оправдание животных – их невинность. Перед нами вся двусмысленность христианской традиции, с одной стороны, сокрушающейся о греховности животной плоти человека, с другой – уповающей на невинность и наивность зверя, не ведающего добра и зла. Невинность и наивность, у которой на этот раз есть чему поучиться самому человеку. По мысли христианина Честертона, умиление перед святой простотой божьей твари возникает на месте вытравленных инквизиторами следов языческого поклонения природе. Честертон писал, что языческая цивилизация была не просто высокой, а «высочайшей из всех достигнутых человечеством». Древние греки изобрели непревзойденные способы и словесного, и пластического изображения мира; вечные политические идеалы; стройные системы логики и языка. Но они сделали еще больше – они поняли свою ошибку:
Эта ошибка так глубока, что нелегко найти для нее подходящее слово. Проще и приблизительней всего назвать ее поклонением природе. Можно сказать, что древние были слишком естественны. Греки – великие первооткрыватели – исходили из очень простой и на первый взгляд очевидной мысли: если человек пойдет прямо по большой дороге разума и природы, ничего плохого случиться не может, тем более если человек этот так разумен и прекрасен, как древний грек ‹…› Но тот, кто поклонился здоровью, не останется здоровым. Если человек идет прямо, его дорога крива. Человек изогнут, как лук; христианство открыло людям, как выправить эту кривизну и попасть в цель. Многие посмеются над моими словами, но поистине благая весть Евангелия – весть о первородном грехе[74]74
Честертон 1989: 87.
[Закрыть].
В отличие от средневековых людей, средневековые животные не знают греха, не различают добра и зла. Они никогда не покидали лона природы, или, скорее, как говорят христиане, никогда не покидали царства божия[75]75
Две эти вещи кажутся совершенно разными, но так ли это на самом деле? Рай, царство божие списан с природы и вместе с тем ей противоположен.
[Закрыть]. Но если они не знают греха, то не знают и благой вести. Святой Франциск Ассизский верил, что их можно приобщить к универсальному Божьему закону, но лишь освободившись от собственных грехов и через обретенное таким образом знание вновь приблизившись к их невинности и наивности. Он стал проповедовать птицам и лесным зверям; как рассказывают, его проповедь имела успех. По легенде, Франциску удалось обратить даже «брата волка», который был злым, а после стал добрым; животные собирались вокруг святого отца, слушали его и задавали ему вопросы, каждое на своем языке, чтобы затем – каждое на своем языке – бесконечно славить Бога. В этом славословии всякое живое существо, даже самое, как пишет Честертон, «бесформенное чудище» обретает смысл: теперь оно – частица нового единства веры, которая прокладывает себе дорогу через самую пропасть в сердце мира, расколотого пополам:
Если объяснять вещи, они становятся чудеснее, мы больше дивимся им, меньше их боимся; ведь вещи чудесны, когда они что-то значат, а не тогда, когда они не значат ничего. Пусть бесформенное, или глухое, или злое чудище будет больше гор – его, в полном смысле этого слова, можно назвать незначительным, если оно ничего не значит. Для мистика, каким был св. Франциск, любое чудище значит что-то, оно передает свою весть, говорит на знакомом языке. В этом и смысл преданий – правдивы они или нет – о том, что он как волшебник знал язык зверей и птиц[76]76
Честертон 1989: 101.
[Закрыть].
Для того, однако, чтобы разговаривать со зверями и птицами, необходимо было пройти нелегкое очищение, избавиться от всего лишнего, стать бедным, как звери и птицы. Проповедь животным, распахивавшая для них двери в праведную жизнь, была возможна в ту пору, когда бедность – и даже нищенство – не только не считались пороком, но, напротив, принадлежали порядку святости. Позже, с Реформацией и утверждением в своем господстве, говоря языком Макса Вебера, «протестантской этики и духа капитализма» причастность к благу, всеобщему и индивидуальному, станет измеряться скорее собственностью и богатством. Не случайно, как бы в противовес этому, некоторые современные философы провозглашают своего рода «францисканскую этику и дух коммунизма», все чаще оглядываясь на средневековое и раннее христианство, которое своеобразную духовную власть нищеты противопоставляло духовной нищете власти, замаскированной богатыми владениями официальной церкви и государства. Бедность, в этой традиции почитаемая, обещает раскрыть особые возможности коммуникации, послужить основой подлинного сообщества. Такого, в которое каждый волк мог быть включен как равный, как «брат».
Так, Дж. Агамбен анализирует регламентацию быта францисканских монахов, разрабатывая на основе этого анализа понятие формы жизни как «высшей бедности», которая состоит в одном только пользовании вещами без владения ими. Это жизнь по ту сторону собственности. Она не принадлежит тому, кто ее проживает, но скорее находится в общем пользовании[77]77
Agamben 2013: xiii.
[Закрыть]. Слово «общее» здесь является ключевым, так как задает мотив общности, совместного бытия, формирующегося посредством коллективных аскетических практик. В свою очередь, М. Хардт и А. Негри «радикализуют обратимость агамбеновской трансформации „голой жизни“ в источник трансцендентности, рассматривая эту „нищету“ и „наготу“ как обогащающую силу»[78]78
Noys 2011.
[Закрыть] и напрямую связывают францисканскую бедную жизнь с коммунистической утопией:
Пролить свет на будущее коммунистической борьбы могла бы одна старинная легенда – о святом Франциске Ассизском. Вспомним его деяния. Чтобы победить нищету масс, он принял ее как данность и открыл в ней онтологическую силу нового общества. Борец-коммунист делает то же самое: он видит в нынешнем положении масс условие их невероятного богатства. Франциск, в противоположность зарождающемуся капитализму, отверг любую инструментальную дисциплину, а в противоположность умерщвлению плоти (в нищете и смиренном согласии со сложившимся порядком) он проповедовал счастливую жизнь со всеми радостями природы и естества, со зверушками, сестрицей-луной и братом-солнцем, с полевыми птахами, с несчастными и измученными людьми, объединившимися против сил власти и разрушения. В период постсовременности мы снова оказываемся в тех же условиях, что и Франциск, противопоставляя убожеству власти радость бытия. Вот та революция, которую не сможет остановить никакая власть, поскольку биовласть и коммунизм, кооперация и революция объединяются – в любви, простоте и невинности. Это и есть безудержная радость быть коммунистом[79]79
Хардт, Негри 2004: 380.
[Закрыть].
В первой части своей знаменитой «Истории безумия» Мишель Фуко пишет о том, как в ходе Реформации в связи с возрастанием этической ценности труда вопиющая праздность подвергается моральному осуждению, а нищета утрачивает ореол святости и становится преступлением против общественного порядка:
…возникает опыт нового пафоса, когда человеку ничего не говорят ни о блаженстве страдания, ни о спасении, в котором соединятся Бедность и Милосердие, а лишь подсказывают его обязанности перед обществом и внушают, что убогий бедняк – это результат царящего в обществе беспорядка и одновременно помеха, не позволяющая восстановить порядок ‹…› нищета выпадает из диалектики унижения и славы; отныне ее место – в пределах соотношения порядка и беспорядка; внутри категории виновности. ‹…› Из сферы религиозного опыта, ее освящавшего, она соскальзывает в область моральных категорий, где подлежит осуждению[80]80
Фуко 1997: 74.
[Закрыть].
Такого чудака, как Франциск, в этот период, очевидно, сочли бы не святым, а безумным и поместили бы в изолятор вместе с бродягами и попрошайками за то, что он «по собственной воле преступил границы буржуазного порядка»[81]81
«Если и есть в классическом безумии нечто запредельное, некий отзвук иного, то уже не потому, что безумец приходит из чужих краев, из мира помешательства и отмечен его печатью, но потому, что он по собственной воле преступает границы буржуазного порядка и, лишенный рассудка, оказывается вне его сакральной этики» (Там же: 88).
[Закрыть]. Безумец, который, по словам Фуко, «с точки зрения средневековой идеи милосердия заключал в себе толику тайного могущества нищеты»[82]82
Там же: 78.
[Закрыть], перестает быть вестником сакрального мира, этой нищетой увенчанного, и отправляется в ад разнузданной животности, буйство которой для рациональной геометрии становящегося таким образом нового мирового порядка страшнее проказы: не случайно местом приюта умалишенных становятся бывшие лепрозории.
По мысли Фуко, преступные нищета и праздность сочетаются в фигуре безумца с животным, нечеловеческим началом, ведь человек, и особенно человек классической эпохи – это тот, кто мыслит. Тот же, кто не мыслит – не человек. Безумие обнажает бессмысленность звериной природы человека в ее агонии, бесформенности, болезненности, но одновременно и ее свободе:
Тот негативный факт, что «с безумным обращаются не как с человеческим существом», имеет вполне позитивное содержание; бесчеловечное равнодушие к умалишенному в действительности означает своего рода навязчивую идею, уходящую корнями в далекое прошлое, в те страхи, из-за которых животный мир со времен Античности и особенно Средневековья предстает привычно-загадочным, чудесным и угрожающим, несет в себе какое-то неясное беспокойство. Однако этот страх перед животным, который сопровождал восприятие безумия, привнося в него все разнообразие картин своего воображаемого, был уже не тем, что двумя или тремя веками ранее: превращение человека в животное перестало быть зримым признаком присутствия дьявольских сил или плодом адской алхимии неразумия. Явление зверя в человеке не означает больше его принадлежности к потустороннему миру; зверь – просто его безумие, не указывающее ни на что, кроме себя самого: его безумие в природном состоянии. Буйствующее звериное начало безумия лишает человека всего человеческого – но при этом не отдает его во власть иных сил, а лишь низводит на нулевой уровень его собственной природы. Для эпохи классицизма безумие в крайних своих формах – это человек в непосредственной связи с собственной животностью, безотносительно к чему-либо иному, постороннему[83]83
Фуко 1997: 161.
[Закрыть].
Как показывает Фуко, умалишенные практически приравниваются к животным. Даже места изоляции, куда их помещают для исправления, в своем внутреннем устройстве мало отличаются от зверинцев. Изоляция направлена на то, чтобы обезопасить разум от безумия, общественный порядок – от разгула беспризорной нищеты, а человека – от животного, которое снова перестает быть на него похожим. Животные, неработающие и неимущие, оказываются за чертой, рядом с низшими классами и отбросами социальной системы.
Фуко объясняет, что феномен исключения безумия (в форме изоляции) следует понимать как меру «правопорядка», что, конечно, напоминает об уже упомянутых батаевских «полицейских предписаниях» классической Греции – в противовес «забавам криминальных классов». Зачем, однако, нужна полиция? Какого рода порядок она должна охранять? Фуко непосредственно связывает полицейские меры с необходимостью принудительного труда. И безумный, и нищий не работают – как не работают и животные[84]84
Вспомним, какое изумление этот факт вызывал у Батая. Можно возразить, что некоторые животные работают на людей, – рассуждения об этом см. ниже, в главе «Безработная животность».
[Закрыть].
Изоляция как массовое явление, признаки которого обнаруживаются в XVII в. по всей Европе, принадлежит к сфере «правопорядка». Правопорядка в том узком смысле, в каком его понимала классическая эпоха, – т. е. в смысле совокупности мер, обеспечивающих возможность и одновременно необходимость трудиться для всех, кто не может прожить иначе; современники Кольбера уже задавались вопросом, который вскоре сформулирует Вольтер: «Как! Вы сидите на шее народа и до сих пор еще не постигли секрета, как обязать всех богатых заставить трудиться всех бедных?! Значит, вы не усвоили и азов „правопорядка“»[85]85
Фуко 1997: 79.
[Закрыть].
Однако, помимо этого, полицейские меры нужны человеку в первую очередь для того, чтобы защитить себя самого от собственных животности и безумия. Классическая эпоха видит такую опасность и верит в то, что ее можно предотвратить; безумие, внедряющееся извне, рассматривается в это время как социальная проблема. Социальные практики изоляции сопровождаются теоретическим сдвигом, представленным картезианской рационалистической метафизикой, или, как называет это Фуко, картезианским исключением. С него-то Фуко и начинает свою историю, вспоминая Декарта, который мог усомниться во всем, кроме собственного сомнения. Перед тем как установить истинное и достоверное основание знания, Декарт перечисляет главные формы иллюзий и заблуждений: чувств и чувственного восприятия, безумия и т. д. В конце концов он выдвигает гипотезу, в соответствии с которой все, что мы видим, это не реальность, а сон или обман, разыгранный злым гением, Богом-обманщиком. Но даже если все, что мы видим – это иллюзия, даже если все подлежит сомнению, я не могу усомниться в том, что сам я мыслю: такова достоверность cogito, основанная, по мысли Фуко, на исключении безумия.
Именно невозможность не мыслить отличает мыслящего субъекта, непоколебимого в достоверности своего cogito, от «сумасбродов», прежде всего чуждых истине: «мысль безумной быть не может»[86]86
Фуко 1997: 64.
[Закрыть]. Позволю себе добавить, что животное в системе Декарта представляет собой еще более чуждое человеку существо, чем безумный, поскольку даже из уст безумного можно услышать осмысленную речь, но из пасти животного – никогда. В «Рассуждении о методе» он заявляет:
…ибо замечательно, что нет людей настолько тупых и глупых, не исключая и полоумных, которые не были бы способны связать несколько слов и составить из них речь, чтобы передать мысль. И напротив, нет ни одного животного, как бы совершенно оно ни было и в каких бы счастливых условиях ни родилось, которое могло бы сделать нечто подобное ‹…› Это свидетельствует не только о том, что животные менее одарены разумом, чем люди, но и о том, что они вовсе его не имеют[87]87
Декарт 1989: 283–284.
[Закрыть].
Декартовское животное не может не только мыслить, но и чувствовать. Не имея мыслящей души, оно не способно ни желать, ни страдать, поэтому и становится объектом естественно-научных экспериментов, которые в перспективе современного экологического сознания выглядят, прямо скажем, кровожадными. Так, в одном из писем Декарт отмечает, что сердца рыб, «после того, как их вырезать, продолжают биться гораздо дольше, чем сердца любых наземных животных». Философ пускается в объяснения, как он опроверг взгляды Галена на функционирование сердечных артерий, «вскрыв грудь живого кролика и удалив ребра, чтобы стало видно сердце и ствол аорты ‹…› Продолжая вивисекцию, я отрезал половину сердца»[88]88
Waldau, Patton 2006: 123.
[Закрыть].
«Я хотел бы, чтобы те, кто никогда не изучал анатомии, потрудились рассмотреть сердце любого достаточно крупного животного, обитающего на земле…» – призывает Декарт в «Описании человеческого тела»[89]89
Декарт 1989: 425.
[Закрыть] и там же делится своими наблюдениями: «Если, например, вскрыть грудь какого-нибудь живого животного и недалеко от сердца перевязать его большую артерию так, чтобы кровь не проходила по ее разветвлениям, а затем рассечь ее между сердцем и перевязанным местом, то вся или по крайней мере большая часть крови через короткое время выйдет в это отверстие»; «Если у живой собаки отсечь верхушку сердца и ввести палец в одну из его полостей, то при каждом сокращении сердца ясно чувствуется давление на палец, а при каждом удлинении сердца – прекращение этого давления»[90]90
Декарт 1989: 432–433.
[Закрыть].
Собачьему сердцу недолго суждено пульсировать на анатомическом столе Декарта. Жизнь этого пса, вероятно бездомного, как и жизнь других декартовских зверей, длится до того момента, пока кровь полностью не вытечет из артерии. Эти животные почти уже мертвы, вернее они своего рода живые мертвецы, и, между прочим, именно этот зазор, это их короткое пребывание в серой зоне между жизнью и смертью является объектом пристального естественн-научного интереса.
Впрочем, категории жизни и смерти не вполне релевантны в отношении картезианских животных. В своих экспериментах ученый просто пытается исследовать работу машины, называемой телом. Причем человеческое тело является такой же машиной, как и тело животного. Понимая, как функционирует последнее, мы узнаем и о работе первого. В механистической вселенной Декарта животные движутся как автоматы, приспособленные к определенному типу операции, «…и природа в них действует сообразно расположению их органов, подобно тому, как часы, состоящие только из колес и пружин, точнее показывают и измеряют время, чем мы со всем нашим благоразумием»[91]91
Там же: 284.
[Закрыть].
Но что в таком случае отличает человеческое тело от животной машины? Мыслительная активность души, представляющей собой отличную от слепой машины тела непротяженную субстанцию, которая у животных попросту отсутствует. Бессмертная душа наполняет человеческое тело жизнью. Она расположена в маленькой шишковидной железе в центре мозга. А что наполняет ощущениями шишковидную железу, делая тело по-настоящему человеческим, то есть по-настоящему живым, в отличие от простой машины или мертвого тела, которое не может чувствовать? – Тончайшие волокна, или поры мозга, которые Декарт называет животными духами. Животные духи циркулируют по нервам и мускулам между мозгом и конечностями, сообщая человеку чувства – боль, желание и, конечно, страсти.
Понимая животное как механизм, неспособный чувствовать, желать, страдать и тем более мыслить, а только демонстрировать определенные реакции, подобно автомату, состоящему из органов, мускулов и костей, можно пытаться объяснить и сделать предсказуемым его поведение, а значит, оградить себя от его внезапного вторжения и непосредственной стихийной агрессии, которая таким образом оказывается нейтрализованной знанием. Звери не вхожи в буржуазный уют картезианского мира («то, что я здесь, сижу перед огнем, одетый в домашнее платье…»[92]92
Декарт 1950: 336.
[Закрыть]): сюда не залетит ни рассудительная аристотелевская ласточка, ни благословенная птичка святого Франциска.
Нет, однако, дела более простого и неблагодарного, чем критиковать Декарта за жестокое отношение к животным. Конечно, всем знаком Декарт – философ cogito, якобы чистого и свободного как от животности, так и от безумия. Но был еще и другой Декарт – тот, который, как замечает Жижек, сам себя неправильно понял, «ошибочно перейдя от cogito к res cogitans», поскольку «cogito не является отдельной, отличной от тела субстанцией»[93]93
Zizek 2012: 408.
[Закрыть]. Этот другой Декарт стоит на грани перехода от радикального сомнения к радикальному разрыву и, можно сказать, на самом деле имеет опыт безумия (а также животности) как невозможности – в той мере, в какой он к нему не просто негативным образом небезразличен, но вообще не может с ним сосуществовать.
С одной стороны, этот опыт может проявляться как нечто исключенное, нечто за границами разума, окружающее его рациональный мир, не просто угрожая ему извне, но активно конституируя самое что ни на есть внутреннее ядро субъективности. Двойник же ее, который безумен, подвергается исключению. Такова позиция Фуко: безумие, как и, собственно, разум, – это некоторая функция отношений власти и исторически обусловленный дискурсивный конструкт. Декарт пытается бороться с безумием посредством cogito и – в последней инстанции – заручается гарантией от Бога, который все-таки не может быть обманщиком: как в разных местах замечает Лакан, картезианское сомнение черпает силы из этого предельного доверия по отношению к большому Другому; cogito избегает того, чтобы остаться наедине с собой, и отдает себя на милость божества.
С другой стороны, это может быть по-настоящему внутренний опыт. Такова, скорее, суть аргументации Деррида, который в знаменитой полемике с Фуко заявляет, что «философия, возможно, есть не что иное, как эта обретенная в непосредственной близости от безумия застрахованность от его жути»[94]94
Деррида 2000: 78.
[Закрыть]. Жижек популярно объясняет позицию Деррида в этом споре:
В своей интерпретации «Истории безумия» Деррида сосредоточился на четырех страницах из Декарта, которые, по его мысли, дают ключ к пониманию всей книги. Посредством детального анализа он старается продемонстрировать, что, вовсе не исключая безумие, Декарт доводит его до предела: универсальное сомнение, когда я подозреваю, что весь мир есть иллюзия – это величайшее безумие, которое только можно вообразить. Из этого универсального сомнения и возникает cogito: даже если все на свете иллюзия, я все еще могу быть уверен, что я мыслю. Безумие таким образом не исключает cogito: cogito не то чтобы не безумно, но cogito истинно, даже если я совершенно безумен[95]95
Zizek 2012: 329.
[Закрыть].
Этот гиперболический момент безумия внутренне присущ философии и составляет ее основу, но, совсем как животное, он «одомашнен» и подверстан к «образу человека как мыслящей субстанции»: «разумеется, любая философия старается контролировать, вытеснять собственный избыток – но, вытесняя его, она вытесняет свою собственное глубинное основание»[96]96
Zizek 2012: 329.
[Закрыть].
Существует, конечно, некоторая асимметрия между исключением как эффектом исторически обусловленной совокупности социальных практик и дискурсивных процедур, с одной стороны, и вытеснением (подавлением, репрессией), которое обозначает скорее универсальную политическую операцию и вместе с тем субъективный опыт бессознательного. Однако в каком-то смысле оба подхода справедливы и даже дополняют друг друга. Следующим шагом будет предъявление третьей позиции, принадлежащей Лакану, которая, можно сказать, «реабилитирует» Декарта через Фрейда. По мысли Лакана, ego и cogito не совпадают; субъект – это не ego, субъект бессознателен, и все-таки он мыслит (и, что важнее всего для Лакана, говорит – бессознательное говорит телом):
Декарт не знал этого – для него субъект был субъектом достоверности и знаменовал собою отказ от всякого предшествующего ему, предваряющего знания. Мы же, благодаря Фрейду, знаем, что субъект бессознательного так или иначе о себе заявляет, что еще прежде достижения им достоверности налицо мысль[97]97
Лакан 2004: 43.
[Закрыть].
Декарт не знал, но мы знаем: за этой формулой маячит идея, что и Декарт, и Фрейд – и, конечно, сам Лакан – имеют дело с одним и тем же субъектом, который не совпадает с «я» и мыслит еще до его появления. Как пишет Младен Долар в статье, посвященной проблеме cogito у Лакана,
Лакан широко определял свой проект через лозунг, провозглашавший «возвращение к Фрейду», но впоследствии оказалось, что этот лозунг должен быть дополнен выводом: возвращение к Фрейду проходит через Декарта. Существует огромный разрыв, отделяющий Лакана от остальных представителей структуралистского поколения, которые определяли себя в основном как антикартезианцев[98]98
Dolar 1998: 14.
[Закрыть].
Если же, понимая под cogito скорее субъект бессознательного, мы вернемся к «Недовольству культурой», где Фрейд излагает свою теорию органического вытеснения, и вспомним о непростой, сопровождающейся отрицанием связи, которую он устанавливает между животным инстинктом и бессознательным влечением[99]99
Делёз и Гваттари, в свою очередь, не проблематизируют эту связь, а, наоборот, утверждают ее как чистую позитивную данность – особенно в их интерпретации случая Человека-волка, где они рассуждают о становлении-животном, множественности и животности бессознательного (Делёз, Гваттари 2010: 46–66).
[Закрыть], из которой рождается мысль, то сможем разглядеть затаившееся в глубинах cogito настоящее картезианское животное.
Для Фрейда, чей «…нарратив предполагает, что попытки отказаться от собственной животности произвели человеческое бессознательное»[100]100
Rohman 2009: 23.
[Закрыть], эволюционный процесс находит отражение в развитии человеческой личности, и успешное становление ребенка взрослым проходит через преодоление животного и стирание его следов. Сегодня это звучит совершенно очевидно и просто, но важно понимать, что животность, таким образом «преодоленная», подвергнутая отрицанию или вытесненная, не есть что-то, что наивно предшествовало органическому вытеснению, но возникает задним числом как результат этого процесса. Фрейдовский субъект всегда уже является человеческим и в качестве такового производит весь набор проекций того, чем он был или не был ранее, на каком-то предыдущем этапе своего развития: животное, вытесненное человеком, рождается вместе с этим вытеснением.
В «Интерпретации сновидений» Фрейд высказывает предположение, что работа сновидения включает некий процесс интерпретации, в котором само бессознательное пытается стереть собственные следы, заполнить пробелы в ткани значения, подвергнуть сновидение интерпретации внутри него самого – еще до всякой возможной интерпретации. И если, рассуждая о Лакане и Декарте, Младен Долар вводит фигуру cogito как субъекта бессознательного, то в другой своей работе, посвященной Гегелю и Фрейду, он говорит о «бессознательном философе, маячащем посреди сна». Этот философ пытается, но не может целиком «скрыть свои следы, он всегда „выпускает кота из мешка“[101]101
«Let the cat out of the bag» – идиома, означающая «проболтаться», «выдать секрет».
[Закрыть], по крайней мере какую-то часть кота»[102]102
Dolar 2012.
[Закрыть]. Бессознательный философ Декарта прячет в мешке cogito без «я», иннервированное животными духами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































