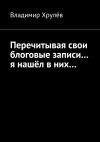Текст книги "Сгустки. Роман"
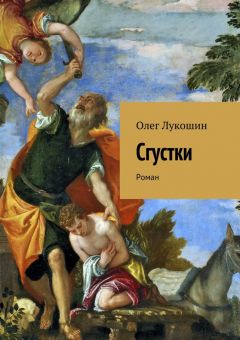
Автор книги: Олег Лукошин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Три старости
ОБЫКНОВЕННАЯ
Дверь открыла дочь.
– Ты? – бормотнула она и в нерешительности встала в проходе.
Появление отца застигло её врасплох – она была удивлена, обескуражена и даже напугана. Однако тотчас же взяла себя в руки: криво улыбнулась и распахнула дверь.
– Заходи.
Старик стоял молча и через порог переступил не сразу. Возможно и не ожидал он такого гостеприимства. Но шаг сделал наконец – он был нетвёрдый и сопровождался кривой усмешкой.
– Только… – начала было дочь.
Старик проникновенно смотрел на неё, всё ещё улыбаясь. Она засмущалась чего-то, но закончила.
– Только Вадим… он будет в ярости конечно.
Опершись рукой о стену, Андрей Николаевич стал снимать ботинки.
– Он вообще грозился тебя убить, – снова подала голос Галя, – если ты придёшь сюда.
Никак не отреагировав и на эти слова, старик снял плащ и кепку. Выражение его лица переменилось: он казался угрюмым теперь, хоть и старался представить это безразличием. В коридор вышли дети – его внуки, двое мальчиков, погодки. Увидев их, старик расплылся в улыбке во всю ширь своего морщинистого рта.
– Вот они, проказники, где. Ну, здравствуйте, что ли, – протянул он им свою грязную сухую ладонь и торжественно поздоровался с обоими пацанами. Те стеснялись дедушки и смотрели не на него, а в сторону.
– У меня для вас гостинец, – подмигнул им заговорщически Андрей Николаевич и, повернувшись к вешалке, полез в карман плаща.
– Ты уж пьяным бы не приходил, – почти жалеючи посетовала Галя. – Скоро Вадим придёт, тебя пьяным увидит – на самом деле убьёт ведь.
Улыбка на секунду сошла с лица старика, но тут же засветилась с новой силой – он достал из кармана шоколадку и дрожащими руками протянул её детям.
– Нате вот, разделите поровну, – сказал он им.
Пацаны всё это время молчали и смотрели на дедушку исподлобья; получив же шоколадку, убежали к себе в комнату.
– Я не пьяный, с чего ты взяла? – ответил наконец Андрей Николаевич дочери.
Основательно ставя на пол ступни, чтобы не шататься при ходьбе, он направился на кухню.
– Как не пьяный, я не вижу что ли? – двинулась за ним Галя. – Еле на ногах держишься.
– Ты меня накормишь, нет? – уселся старик на табурет, вальяжно закинув ногу на ногу. – Я есть хочу очень.
Потом пристально, насколько позволяли слезящиеся глаза, посмотрел на дочь, улыбнулся – совсем мерзко уже – и добавил для чего-то:
– Раскудахталась, раскудахталась… Наседочка потревоженная.
Яростно выдохнув, Галя схватила половник, достала тарелку и налила отцу суп из кастрюли. Поставила её перед стариком, пододвинула хлебницу и почти что швырнула ложку.
– Кушай, кушай пожалуйста, – выдавила она. – А то скажешь ещё, что родная дочь тебя не кормит.
– Во-от, – оскалился опять старик. – Я же знал, что ты добрая. Я же знал, что ты накормишь меня. Ведь ты же дочка моя…
Он взял в руки ложку и зачем-то отломил от уже отрезанного куска хлеба ломоть.
– Нет, ну сейчас действительно что-то страшное будет, – тряхнула головой Галя, оставляя старика одного. Он поморщился, брезгливо эдак, и не спеша принялся за еду.
Ел основательно и неторопливо, хоть и бескультурно. Поднося ложку ко рту, обязательно проливал несколько капель, а откусывая хлеб, безжалостно сорил крошками. Несколько раз ронял его: тяжело затем нагибался, подбирал с пола, сдувал с куска сор и засовывал в рот. Вытаскивал потом из кармана грязный, засаленный платок и шумно сморкался. Хрипло дыша, бессмысленно оглядывал стены. Отяжелевшие веки непроизвольно смыкались – с глупой гримасой он проводил по глазам ладонью, отгоняя сонливость.
Он съел тарелку и почти доедал вторую, когда раздался звук открываемой двери. Тяжёлой походкой в квартиру вошёл зять, и старик услышал, как выбежавшая в коридор Галя что-то зашептала ему.
– Понятно, – ответил на её шептания Вадим и прошёл на кухню.
– Явился, каззёл, – процедил он сквозь зубы. – А насвинничал-то, бля-а-адь! Ты посмотри на свинью эту, – кивнул он жене.
– А, батюшки! – выдохнула она. – Зачем уж ты по-свински так, папа? Нормально что ли есть не можешь?
Старик оторвался от тарелки, выпрямился и вытер губы рукой.
– Я к себе домой пришёл! – через силу, но с достоинством объявил он.
– Ого! Вот это заявочки! – усмехнулся криво зять. – Это с каких пор он твоим стал?.. Блядь, придушить хочется! – матюкнулся он и налил стакан воды.
Старик молчал какое-то время, лишь поглаживал себя по губам и подбородку и, выпучив глаза, медленно и дико водил ими из стороны в сторону. Потом стряхнул крошки с пиджака и брюк, замер на мгновение, уставившись в пустоту и, ударив вдруг по столу кулаком, крикнул:
– Это мой дом!
Посуда на столе задребезжала, Галя вздрогнула, Вадим развернулся с лицом, серым от ярости, и вломил тестю по морде. Удар пришёлся куда-то в нос: старик охнул, отлетел назад и, свалившись с табурета, грохнулся спиной об пол. Галя с криком отскочила от отца – он упал у самых её ног. Вадим ринулся за ним и остервенело, под вопли жены, принялся молотить старика. Тот закрывал лицо руками, воротил голову в сторону, но не издавал ни звука.
– Вадик! Вадя! – кричала Галя, оттаскивая мужа. – Не надо, Вадя, убьёшь ведь, не надо!
Посмотреть на побоище прибежали дети, но тут же, поймав бешеный взгляд отца, скрылись в своей комнате. Галя схватила мужа за руку и попыталась увести его в зал – Вадим позволил ей это, дал усадить себя в кресло и, тяжело дыша, принялся потирать ладони – несколько костяшек на них были сбиты в кровь.
– Ну зачем ты так, зачем?! – стояла над ним жена. – Он отец мне всё же.
– Я убью его на хуй, отца этого! Слышишь, кусок говна? – крикнул он старику, – убью я тебя когда-нибудь!
– Вадим, перестань, дети же слышат! – чуть не плакала уже Галина.
Муж изобразил какую-то малопонятную гримасу, подпёр щеку ладонью и уставился в окно, бессмысленно, но пристально. Кряхтя и охая, старик тяжело поднялся на ноги, открыл дверь в ванную, пустил воду и принялся умываться, бормоча что-то невнятное. Выйдя наружу, он прошагал в детскую и шумно повалился на кровать. Пацаны испуганно выскочили из комнаты.
– А чё он на кровать мою лёг? – подошёл старший к матери.
– Ну лёг и лёг, что теперь поделаешь, – отмахнулась она. – Не выгонять же его на улицу.
– А надо бы! – рявкнул Вадим. – Выгнать и не пускать козла этого. Сейчас там провоняет всё.
– Перестань! – сказала мужу жена. – Что о нас люди подумают?!
– Какое нам до людей дело, – выдавил он, но уже тише и менее злобно. – Люди, тоже мне… Не хуй на них смотреть…
Галя глубоко и тяжело вздохнула. Вадим молчал, притихли и дети. Перестал возиться в детской старик. Стало непривычно тихо. Все замерли и погрузились в собственные мысли. Это длилось несколько минут.
Вадим поднялся с кресла, пошёл в туалет. Оттуда в ванную, потом на кухню. Галя успела уже подтереть там весь сор и собрала для мужа еду. Позвала и детей: семья всё так же молча села ужинать. Поев, переместились в зал. Включили телевизор. Напряжение спало. Вадим даже улыбнулся на какую-то шутку с экрана, первый раз за вечер. Дети снова заёрзали, начали было баловаться, но родители строго их осадили: мальчишки надулись, но проказничать перестали. Галя подумала, что можно, наверное, перевести дух – самое страшное было вроде бы позади.
Андрей Николаевич, лёжа на кровати своего внука с разбитым лицом и ещё не выветрившимся хмелем, чувствовал себя ужасно. Неимоверно болела голова, тошнило и, что самое скверное – защемило вдруг в сердце. Он пробовал переворачиваться на другой бок, на спину – поначалу становилось легче, а после боль снова давала о себе знать. Вскоре она стала совершенно невыносимой. Нарастая и усиливаясь, она распространялась по всему телу: заболело вдруг где-то в боках, в спине, в паху даже, будто лопнуло что-то в голове, и неимоверная тяжесть, гнетущая, тошнотворная, заполнила собой всё. Старик закряхтел, застонал, не тут же, закусив губу, оборвал себя. Закрыл глаза, попытался дышать глубоко и ровно, но в этот миг боль в сердце стала такой огромной и пронзительной, что он не выдержал – крикнул, и понимал хотя, что не делать бы лучше этого, противиться уже не мог. Из последних сил он попытался осадить себя, но смог лишь крик изменить на стон – тягучий и страшный.
Отправив детей спать в свою комнату и решив лечь в зале на диване, родители тихо разговаривали на кухне.
– Всё-таки стыдно мне отчего-то, – говорила мужу Галя. – Перед самой собой стыдно.
– Ерунду ты говоришь, – вздохнул Вадим. – Ерунду, как всегда.
– Ну пусть он гадкий, пусть отвратительный, но ведь он отец всё же мой. Он на свет меня произвёл.
– А нужен ли тебе такой отец, скажи мне пожалуйста? Одни оскорбления тебе от него, одни унижения. Подумать только, какими словами он тебя называл! И это при мне, не стесняясь. Если бы мне мой отец что-нибудь подобное сказал, я бы его придушил на месте. Топором бы зарубил.
– Я не знаю, – теребила пальцами лоб Галина, – как относиться ко всему этому. Он ведь несчастный человек по сути.
– Все они такие – несчастные, богом обиженные… Раз несчастный – значит, по заслугам.
– Всё кошмарно так, омерзительно. – Когда же покой будет наконец?!
– Ты извини меня, Галь, конечно. Он отец твой и всё такое, но вот я, я его просто ненавижу. Таких людей не должно быть на Земле. Убивать их надо.
– Ты его и так чуть не убил.
– Из поганого ружья стрелять, ржавыми пулями.
– Ладно, хватит. Разошёлся больно… Смотри, как бы мальчишки к тебе точно так же не относились.
Вадим вскинул на неё глаза. Хотел сказать что-то и уже открыл было рот, но замер вдруг.
– Что там с ним? – бормотнул, услышав крик.
Поднялся с табурета, зашагал к детской. Открыв дверь, включил свет и нагнулся над стариком. Тот представлял собой жалкое зрелище. Скрючившись на кровати, с потемневшим лицом, с расширенными не то от боли, не то от ужаса глазами, тесть всеми силами сдерживал рвавшийся из груди вопль.
– Эге, – придвинулся к нему ближе зять, – да ты и в самом деле подыхаешь.
Старик взирал на него обезумевшим взглядом вылезших из орбит глаз. Они слезились.
– Ну как, – шепнул Вадим, – страшно умирать?
Старик закрыл глаза и отвернулся. Движение это принесло новый всплеск боли – хриплый стон вновь вырвался из гортани.
«Да… – мелькнуло у него в голове, – а ведь это действительно смерть… Смерть, которую я ждал всю свою жизнь, которую жаждал порой. Как это странно, как противоречит всему: меня не будет сейчас. Не будет! Я перестану быть!.. Быть здесь или вообще быть?..»
В комнату заглянула Галя.
– Что с ним такое?
Вадим выпрямился.
– Умирает он похоже.
– Господи! Что же делать?!
– Не знаю, что делать… Вызывай «скорую», пусть едут. Хотя поздно, наверное. Вот он, затрясся уже.
– Мамочка родная!..
Утро следующего дня было солнечным и тёплым. Весна, похоже, вступала в свои права самым серьёзным образом. Серая пелена облаков, скрывавшая все эти дни солнце, развеялась, и оно, яркое, слепящее, долгожданное, засияло наконец в безоблачном голубом небе. Запели птицы, улучшилось настроение… Галя варила на кухне суп и напевала себе что-то под нос. По радио передавали концерт по заявкам, суп получался наваристым и вкусным – она улыбалась чему-то всё время… Приглушённый шорох в коридоре заставил её выглянуть наружу.
– Пап, ты куда? – увидела она отца, уже одетого, обутого и водружающего кепку на голову.
– Пойду, – прошамкал старик, не глядя на неё.
– Куда пойдёшь?
– Куда-нибудь пойду.
– Да ты что! Тебе вообще вставать нельзя, да и куда тебе идти? Где ты кому нужен?
– Здесь я тоже никому не нужен, – хрипло бормотнул Андрей Николаевич, повернулся к дочери спиной и, решительно взявшись за дверную ручку, вышел из квартиры.
– Папа! – бросилась за ним Галя. – Папа! Вернись! Вадим согласен, чтобы ты остался, он и слова не скажет. Вернись…
Старик не ответил. Лишь нетвёрдые шаги гулко застучали по бетонной лестнице. Шаги были торопливы. Торопливы и решительны. Какое-то время Галя стояла на лестничной площадке, наблюдая сквозь сплетения перил спускающийся силуэт в сером плаще. Когда он скрылся из вида и до ушей её донёсся звук шумно захлопнувшейся подъездной двери, она в недоумении покачала головой и зашла обратно в квартиру. Квартирная дверь тоже захлопнулась шумно.
ТИХАЯ, ПЕЧАЛЬНАЯ
За обедом Андрей Николаевич позволил себе выпить рюмку коньяка. Коньяк был хоть и дрянноватым, но рюмочка прошла просто прекрасно. От неё или от солнца, нещадно палящего в окна, сделалось вдруг нестерпимо жарко. На лице старика выступил пот – он прикладывал ко лбу носовой платок и тяжело пыхтел. Тяжело, но и благодушно.
«Вот потею я, Галя, и аж стыдно мне. Ты смотришь на меня – сморщенного, потного, страшного – и думаешь, наверное: „Боже мой, с каким человеком я оказалась вместе!“ Нет, не думаешь? А ведь и в самом деле не думаешь – ты чиста, хрустальна, в тебе не могут рождаться брезгливые мысли. Это всё моя мнительность. Всю жизнь так – сделаю что не то, по моим понятиям не то, по человечьим-то, может, и то самое, и вот маюсь потом – „что же обо мне думают?..“ Глупость, конечно, а ничего с собой поделать не могу. Всё от неудовлетворённости – собой, в первую очередь; жизнью же удовлетворённости и быть не может, о ней и говорить не стоит. Просто где-то там, в глубине, одно гнусное желаньице всё никак не истребить. Гнусное, да, хоть и прекрасным кажется на первый взгляд. Воспарить хочется. Над жизнью, над миром, над собой. Переродиться во что-то сверкающее, слепящее, огненное… Хотелось, впрочем, сейчас-то – навряд ли уж. А гнусное, потому что от тщеславия идёт. Вот ты – другое дело. Ты – святая! Ничего, ничего не говори. И сверкаешь ты, и слепишь, и огнём жжёшь – страшно порой даже. Страшно, а другой тебя не хочу!»
Посуду он мыл тщательно и тарелки с ложками скоблил с каким-то остервенением даже. В вопросах чистоты Андрей Николаевич был вообще болезненно педантичен – единственная соринка на полу выводила его из себя. Выводила, но подобрать её он спешил не всегда. Чаще старик пытался закатить её под холодильник или под диван. Это его успокаивало. То же самое происходило и с посудой – рвения хватало ненадолго, он бросал всё на половине, и посуда оттого была, как правило, грязноватой. Но и тут он находил выход: тарелки погрязнее ставились на сушилку вслед за чистыми.
«Я всегда, Галь, старался отделиться от себя самого. У тебя такого не бывало? Бывало! Ну, так значит ты меня поймёшь. Старался отделиться от происходящего, воспринимать всё извне. Смотреть на себя со стороны? Да нет, себя я вообще во всём этом видеть не хотел. Быть внутри жизни и ощущать малейшие её колебания, помехи мельчайшие – это же ужасно. Я хотел отвести от себя этот ужас. Но не мог, конечно, не умел, да и можно ли научиться этому? В центре, в сердцевине так и так останешься – это я всегда понимал, а вот ощущения, переживания, думалось мне, можно воспринимать не так жароопасно и болезненно. Я заблуждался, я заблуждался во многом и заблуждался сильно. Создавал в оазисах призраков, химер, а в болота запускал лебедей. Даже сейчас, когда успокоиться уже пора, превратиться в тихого идиота, всё равно не сдаётся самонадеянность. Сам – готов уже, да и сдался, собственно, а она – ни в какую. Ты понимаешь меня, Галина? Ты понимаешь?»
Потянуло на воздух – Андрей Николаевич вышел на балкон. Присел на топчан – тот был мягким, удобным – расслабился. Было душно, и хоть редкие порывы ветра нет-нет да и достигали лица, освежали они слабо – порывы были ненастоящими, они шли из глубины жары и прохлады с собой не несли. На состояние и настроение старика это, впрочем, влияло мало. Он вытянул ноги и задумчиво уставился вдаль – в ту хрупкую голубизну небосвода, где ничего, кроме собственных мыслей, увидеть было невозможно.
«Мне вот кажется иногда, что я тебя не знал маленькой. Не качал на руках, не возил на спине, не гулял с тобой во дворе – будто ничего этого не было. Кажется, или хочет казаться? Не знаю… Ты-то сама себя маленькой помнишь? Ну да, конечно, как себя маленьким не помнить, даже мне порой вспоминается что-то… Я вот, веришь – нет, знал, что ты у меня будешь. Именно ты, именно такая! Должна, думал, должна явиться ко мне эта фея. Чтоб заворожила, околдовала сразу. Чтобы взглянуть и понять: „Вот она. Она – та, что моя. Та, что в унисон мне. Та, что откровение бескрайнего, та, что музыка вечности! Та, что тайна потустороннего!..“ Я знал об этом, знал…»
Он вернулся в квартиру и, помаявшись какое-то время в бездействии, взял с полки книгу. Улёгся на диван и погрузился в чтение. Чтение – единственная возможность занять себя. Других он просто не знал. Бывало, что читать ему не хотелось совершенно, он и не читал долго, но скука одолевала в конце концов и чтобы как-то скрыться от неё, он, нехотя, почти без всякого желания, снова брался за книги. Так произошло и на этот раз.
«Я тебя представлял скромной, пугливой. Ещё раньше, до тебя, мне казалось, что это будет так: вот будто слушаем мы музыку, а ты плачешь. „Ты чего?“ – шепчу я тебе и ловлю слезинки. А ты молчишь, ты печальна. Это музыка – она растрогала тебя. „Она рождается лишь на миг, – говорю я опять, – тут же умирает“. „Она не украдёт тебя, нет, – бормочу я снова, – в её мире нельзя жить, там небытие“. „Просто я люблю тебя, – изрекаю я наконец. – Просто я люблю твои слёзы, твою грусть, но всякий раз буду прогонять их – они могут увести тебя, безвозвратно…“ А потом я прикасаюсь губами к твоим глазам. Потом ощущаю лоб и прохладу щёк. И гладкость подбородка, и хрупкость шеи – она тонка и грациозна. И притяжение плеч, и чувственность рук, и опьянение грудей. Изгибы талии и бёдер, сумасшествие ног. Бездну души, что безмолвием заманивает вглубь. И дальше, и сильнее, и уже нет надежды…»
Потолок, стены. Потёртый ковёр, ветхий шифоньер. Прямоугольники оконных рам и зелёная батарея. И тиканье часов, конечно же тиканье. Это встречало тебя, это и проводит.
«В молодости я думал так: „Женщина… Загадочная прелесть женщины… В этом жестокое что-то: всегда тянуться туда, как к источнику, как к огню. В этом ограниченное что-то. Жар хочется черпать отовсюду: из земли, с неба, из пустоты. Но и истина, возможно, именно в этом – сквозь стихии людям не позволено, неизвестно – богам ли. Строение не то и дух. Потому-то и женщина. Лишь видения, лишь впечатления мимолётные, но они – из желаемого. Два пути – либо прорыв в золотое, лучистое, либо же опять в золотое, опять в лучистое. Оно везде – золото, они повсюду – лучи. И сейчас даже…“ И сейчас даже – я порой и сейчас так думаю».
Он отложил книгу в сторону. Что-то важное, значительное, но и ускользающее, болезненное, вертелось в голове. Нахлынувшее мгновение было чудно, и не было сил ему противиться. Потом отпустило, мозг расслабился, но странность не прошла, осталась. Всплыла пустота, она живёт в глубинах постоянно, её лишь надо научиться чувствовать. Она полезна иногда, она спасительна.
«Я знал, что буду старым. Я видел это по другим людям. Я даже знал, что умру, ещё будучи мальчишкой. Будучи мальчишкой… На самом деле я не был им. Я – старик, и старость – моё пространство. Тем мальчишкой был не я, кто-то другой, точнее – что-то другое. Оно умерло, ещё тогда, не успев подвергнуться воздействию времени. Я же родился недавно, родился старым, старым и умру. Тайна проста: кроме явной, финальной смерти человек умирает множество раз. Раз в год, может – раз в день, а возможно – и каждое мгновение. Умирает, и тут же рождается что-то другое, почти идентичное по форме. Почему-то остаются воспоминания. Это ошибка, их не должно быть. Всё, что вспоминается, происходило не с тобой, а с теми мертвецами; все промахи – их промахи, удачи все – их удачи. Память ладно, её можно стереть, но вот чувства, эмоции – почему же и они здесь снова? Какая-то жалость, какая-то радость. Какая-то надежда… Как это глупо – всё без повода, без причин. А сущее – лишь единственное мгновение: то, что переживаешь сейчас».
Старик укрылся валявшимся в ногах одеялом, но оптимального удобства достигнуть не мог долго: ворочался, подтыкал одеяло под бока, взбивал подушку. Наконец улёгся. Сон был близок, был явен, но являться всё же не спешил. Закрыв глаза, Андрей Николаевич ждал. С улицы доносились глухие, однотонные шумы – ездили машины, кричали дети. Где-то невдалеке дробили асфальт. Был день ещё.
«Мы не умрём, Галя, нет. Не пугайся этого слова – «смерть» и не вздрагивай всякий раз, услышав его. Это всего лишь слово и не более… Конечно, мы оставим этот мир, но оставим, когда станет он для нас совершенно неинтересен, совершенно блёкл. Но то будет не смерть, не конец, то будет переход в иную ипостась. Пройдут миллиарды безумных и мучительных лет, родятся и сгорят новые солнца, сущее изменит свои формы бесчисленное количество раз; на одной из планет неподвижный моллюск будет передавать своей подруге примерно следующее, примерно то же: «Не пугайся этого призрака, любовь моя, этого призрака, зовущегося смертью. Да, мы покинем этот мир, но то будет не смерть, не конец – то будет переход в иную ипостась. Разве не помнишь ты, как миллиарды лет назад я, странное, безобразное существо, говорил тебе, моей любимой, о том же. Не бойся смерти, это всего лишь звук и не более…» Так будет думать оно, то существо; я же, я говорю тебе сейчас вот что: «Галя, неужели не помнишь ты, как давным-давно, при другом солнце и в другом измерении, метались мы, два раскалённых шара, в бурлящей массе, две единицы жизни в полости гулкой сферы, и сообщал я тебе ту же суть, что и сейчас: «Не бойся этого колыхания, любовь моя, этого призрака смерти, это всего лишь иллюзия, и не более. Мы уйдём, уйдём из нашего мира, но не в небытие, а в мир иной, иную ипостась. Мы не исчезнем…» А ты не верила мне тогда, ты не веришь мне сейчас, ты не поверишь мне и в будущем. Что же, так тому и быть: не раз ещё, значит, предстоит мне донести до тебя эту истину. И я рад этому, я готов сообщать её всё бессмертие, всю бесконечность… Так не вздрагивай же ты и не пугайся. Закрой глаза, прижмись ко мне покрепче и усни. Сон укрепит твои силы и вернёт тебе радость, что утеряна была когда-то. А с тобой посплю и я: мы отрешимся, улетим ввысь и совершим маленькое, приятное путешествие по пажитям небесным. Давай спать, доча».
Он заснул вскоре, а проснувшись, обнаружил, что солнце клонится к закату. Спать на закате вредно: Андрей Николаевич почувствовал это на своей разболевшейся голове. Он поднялся с дивана, встряхнулся и отправился на кухню заваривать кофе. Хотелось и поесть – вместе с кофейником старик поставил на плиту сковороду с недоеденной за обедом картошкой.
Позже, когда совсем стемнело, он спустился за почтой. Пришла газета, журнал и письмо от Гали. Он в волнении распечатал его и принялся жадно читать. Дочь писала обо всём: о себе, о своих проблемах, своих маленьких радостях – обо всём, кроме того, что старику хотелось бы прочесть больше всего. Он перечитал письмо трижды, вглядываясь в написанные неразборчивым почерком фразы и пытаясь выделить из них скрытый смысл. Увы, он отсутствовал, всё было просто и понятно.
– Опять ничего… – оторвался он от чтения. – Как будто не было моих писем, моих объяснений… Ты умна, Галя, ты умеешь говорить ни о чём. Ты так и не захотела довериться мне…
СЧАСТЛИВАЯ
Кладбище было уныло и пустынно. Стояла осень, облетали деревья и листья лежали повсюду – на тропинках, на могилах. Некоторые цеплялись за кресты, ненадолго впрочем: первый же порыв ветра сметал их оттуда – плавно, неторопливо опускались они на землю. Могилы были большей частью старые: с почерневшими крестами, с осевшими оградами, с заросшими травой холмами. Даты на надгробиях свидетельствовали о том же – об их старости и ветхости: некоторым из них было по двадцать, по тридцать, каким-то и по сорок лет. Могилы недавние являли обратное: чисты, ухожены, красуются свежестью и молодостью. Свежесть их была недолговечна, однако – ветра, дожди и время делали уже своё упрямое дело. Скоро и они станут похожими на старших товарищей – осунутся, зарастут травой. Выветрят и вымоют буквы с надгробий. Сотрут последнюю память о существах, покоящихся здесь.
– Пап! – подала голос Галя. – А ты помнишь, как-то раз мы втроём – я, ты, мама – точно так же ходили на кладбище. Я ещё совсем маленькой была.
– Мы не раз так ходили, – отозвался старик, продолжая выдёргивать с холмика траву.
– Не раз, да. На тот ты должен помнить, – дочь помогала отцу. – Мне тогда лет шесть-семь было. Шли мы по кладбищу и увидели вдруг одну могилу с очень оригинальной оградой.
Красивая, темноволосая женщина смотрела на них с фотографии.
– Собственно, и не ограда там была, – продолжала Галя. – Болванки чугунные по периметру расставлены, а между ними цепь натянута. Массивная такая, здоровая. В чёрный с красным покрашена, да и надгробие тоже какое-то необычное стояло. Ты не помнишь?
– Нет. А что?
– Я тогда одну глупость сказала. Посмотрела на это и говорю: вот, мол, как умру, сделайте мне точно такую же.
– Да что ты! И что же мы тебе ответили?
– Ты – в своём репертуаре. Лучше, говоришь, я тебя в хрустальный склеп положу. А мама – отругала. Сначала меня, потом тебя. Глупенькая ты, говорит, глупенькая. Чтобы больше не было таких разговоров!
– Правильно сделала.
– Я тогда обиделась на неё даже – подумаешь, из-за чего крик подняла. Я ведь не понимала тогда по-настоящему, что это такое – умереть.
– Как бы я хотел вообще никогда не понимать этого, – сказал Андрей Николаевич после паузы, – но увы, понимание это гадкое приходит рано или поздно.
Дочь промолчала, и какое-то время они очищали могилу в тишине. Закончив, присели на скамейку.
– Ну слава Богу, – сказал старик. – Навестили покойницу. Давно надо было – а то вон тут какое запустение. Ладно хоть ты приехала.
– А один ты что не приходишь? Раз в год смог бы наверное.
– Я боюсь, – ответил он. – Вот этой фотографии боюсь. Не надо было её вешать.
– Почему?
– Нехорошо становится. Она вон тут такая красивая, улыбается…
Галя посмотрела искоса на отца, а потом подняла глаза вверх.
– Дождь сейчас начнётся, – сказала она. – Может, пойдём потихоньку?
– Ага, сейчас. Минуту посидим ещё.
Ровно через минуту он встал. Они вышли за ограду, дочь взяла его за руку.
– Ну, до свидания, Ирина, – сказал Андрей Николаевич могиле. – Пойдём мы…
Место под кладбище, как можно было понять, выбрали не совсем удачно. На склоне. Шагая по тропинкам, часто приходилось преодолевать многочисленные возвышения, впадины. Могилы тоже располагались на разных уровнях. Да и само по себе кладбище казалось неухоженным. Ни ровных, удобных дорожек, ни правильных, симметричных рядов захоронений. Могилы наслаивались одна на другую. Примыкавший к кладбищу лес призван был создавать величественную благообразность и смиренность – возможно, так раньше и было, но сейчас он поредел и создавать был способен лишь жалкое уныние. Кладбище казалось диким и заброшенным.
Проходя среди могил, отец с дочерью читали имена покойников и даты смертей. Даты рождений тоже. Ирреальная причудливость колыхалась вокруг. Робкая иллюзорность наполняла пространство пьянящей дрожью, болезненным головокружением, суть которого неясна и таинственна. Делалось это тихо и ненавязчиво, было почти приятно и желательно почти. В глубине же умиротворения зудела и нотка беспокойства: так бывает всегда – распознай сущность благостной ауры, что овевает и убаюкивает и сердцевиной её окажется тревога, окажется страх. Они изменили свою тональность, спрятались за ширмами спокойствия, управляют ими. А ещё – отрешенностью, надеждой. Её несложно распознать – сущность.
– Как у тебя сейчас с женщинами? – спросила отца Галя.
– С какими женщинами? – испуганно вскинул он глаза.
– Ну, вообще с женщинами. Ты ведь ничего не рассказываешь о себе. Мы столько времени не виделись, я и не знаю даже, как ты живёшь теперь. Та преподавательница из института, вы уже не встречаетесь?
– У-у-у, давным-давно. Она ведь уехала, в Сибирь куда-то. Лет пять как… А впрочем, ничего серьёзного у нас и не было. Мы были просто друзьями, точнее приятелями.
– Ты после смерти мамы так и не смог ни с кем сойтись?
– Сама видишь. Живу один, да и не жалуюсь, собственно.
– Я давно тебя хотела об одной вещи спросить… Вот скажи мне, кого ты больше любил – маму или первую свою жену, Таню? Таня ведь её звали?
– Таня, да… Но ты знаешь, тут просто некорректно сравнивать. Обе они, и Татьяна, и мама твоя были прекрасными женщинами. Я о них с благоговением думаю… С Таней поромантичней всё было, пострастней. С Ириной – поспокойнее, ну да мы тогда уж и в возрасте были. Без лишней чувственности, но зато и без глупого пафоса. Хорошие, хорошие отношения.
Погода ухудшалась. Небо затянулось тучами, усилился ветер. Первые капли застучали по земле. Отец с дочерью зашагали быстрее.
– Лучше ты мне расскажи о своих любовных приключениях, – повернулся Андрей Николаевич к дочери.
– Приключениях? Ничего приключенческого в этом уже не осталось.
– Как так? Неужели так плохи дела на любовном фронте?
– Если это ещё делами назвать можно… Так, поделки.
– Ого!
– Есть мужчина, с которым я изредка встречаюсь. Очень редко – и это всё. Да и то больше от опасения застояться.
– Вона как!
– О любви тут и говорить не приходится. Даже о дружбе. Так, барахтаешься по инерции.
– Тоже ты какая-то взбалмошная. Двух мужей сменила и ещё наверное два раза по два сменишь.
– Да нет, навряд ли, – засмеялась Галя, не очень весело, впрочем.
Показались кладбищенские ворота. Ветхие, ржавые, скрипучие – такие, какие и должны быть на кладбище.
– Смотри, – кивнула вдруг Галя отцу, – могила какая странная.
Старик взглянул, но ничего не увидел.
– Да и могила ли это? – подошла поближе дочь. – Да, могила. Только старая какая!
Наконец и Андрей Николаевич разглядел её. Под развесистой берёзой, в зарослях кустарника валялся – так показалось – камень, довольно больших размеров. Камень, судя по всему, надгробный и что-то написано было на нём, но от времени он позеленел, покрылся мхом и надпись свою засекретил. Могильного холма вроде как и не было вовсе, ограда тоже отсутствовала.
– Ну и древняя! – Галя счищала с камня плесень. – Да и детская как будто – маленькая какая-то.
Старик молча стоял в отдалении, лишь плотнее закутался в шарф и поднял воротник плаща.
– Ого! – воскликнула дочь. – Смотри, что здесь написано! Андрюша!
– Андрюша?! – удивился старик.
– Да, и ничего больше. Андрюша… Действительно детская могила.
Дочь отряхнулась и взяла отца под руку. Они вышли за ворота, приблизились к машине. Галя открыла дверцу, села за руль и кивнула отцу. Тот медленно и рассеянно водрузился на заднее сиденье. Дочь завела автомобиль, они тронулись.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?