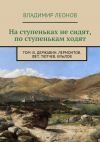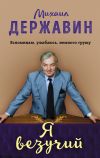Текст книги "Державин"

Автор книги: Олег Михайлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Как же! Почитатель вашего таланта, – поклонился Державин стихотворице, только что выпустившей сборник «Ироиды, музам посвящённые».
– Я тоже читывала ваши вирши… – осмелела княжна. – И толь звучные! «Эпистолу на прибытие из чужих краёв Шувалова» и «Петру Великому»…
– Небось и вы, Гаврила Романович, душечка, припасли для нас что-нибудь новенькое? – кивая страусовыми перьями, заиграла голосом Елена Никитична.
– Угадали! Приготовил пиесу и специально для хозяина сегодняшнего празднества, – ответствовал Державин. – Да вот и он сам. И с какою свитой!
Мельгунов появился в сопровождении князя Вяземского и его ближних – Храповицкого и Хвостова. Завязался ничего не значащий весёлый разговор, в коем не участвовал лишь Гасвицкий, смущённо поглядывавший на нимф и наяд – крепостных девушек с пупырчатою гусиной кожею и синими от холода коленками.
– Други мои! – провозгласил Мельгунов так зычно, что покраснело его скуловатое лицо. – Приглашаю всех за столы! Рассаживайтесь без чинов и званий – здесь, в нашей блаженной Аркадии, равны все[33]33
… здесь, в нашей блаженной Аркадии, все равны! – Аркадия – область в центральной части Пелопоннеса (Греция). В античной литературе и позднее изображалась райской страной с патриархальной простотой нравов. Здесь употреблено в переносном значении: счастливая страна.
[Закрыть]!
Мельгунов был ревностным масоном и не забывал повторить, где мог, масонскую идею братства – даже за весёлым столом. Он подал знак, и невидимый оркестрион заиграл русскую плясовую «Я по цветикам ходила…». Вельможи в камзолах, шитых золотом и шелками, голубого, малинового, светло-коричневого и светло-зелёного цвета (тёмных цветов не носили), перебрасываясь шуточками, расположились за обширными столами. Начался молодецкий попляс цыган в белых кафтанах с золотыми позументами.
После первого же покала музыканты по приказу хозяина смолкли, и Мельгунов оборотил к Державину своё скуловатое лицо:
– Братец, Гаврила Романович! Пока мы ещё не во хмелю и оценить прекрасное по достоинству можем, прочти-ка уже нам что-нибудь…
Державин поднялся при общем внимании и словно бы задумался. Говорил он обычно отрывисто и некрасно, но, когда дело доходило до чего-то близкого сердцу, преображался. Самые черты его простого лица, казалось, обретали особое благородство. Он начал тихо:
Оставя беспокойство в граде
И всё, смущает что умы,
В простой, приятельской прохладе
Своё проводим время мы.
Постепенно голос его окреп, стихи полились звучно, празднично понеслись над столами:
Невинны красоты природы
По холмам, рощам, островам,
Кустарники, луга и воды –
Приятная забава нам.
Мы положили меж друзьями
Законы равенства хранить;
Богатством, властью и чинами
Себя отнюдь не возносить.
Но если весел кто, забавен,
Любезнее других тот нам;
А если скромен, благонравен,
Мы чтим того не по чинам…
Кто ищет общества, согласья,
Приди, повеселись у нас,
И то для человека счастье,
Когда один приятен час.
Последние слова потонули в рукоплескательных одобрениях. Державин поймал восхищенный взгляд Урусовой, и ему стало не по себе. Только скрипунчик Вяземский был недоволен:
– Зачем чиновнику марать стихи? Сие дело живописцев!..
Но бубнежа его никто не слушал.
Постепенно хмель брал своё. Кто-то неверным голосом затянул песню, кто-то пошёл к нимфам щипать их за голые коленки и стёгна. На другом конце стола меньшой из братьев Окуневых, забияка и задира, громко начал рассказывать о некоем питерском проказнике, одержимом скифскою жаждою, в коем все тотчас же признали сенатского обер-прокурора при Вяземском, входившего уже в большую силу Александра Васильевича Храповицкого. Тот нахмурил красивое, с тонкими чертами лицо:
– Остроты ваши забавны, но не колки!
– Александр Васильевич, – не унимался Окунев, – а правда ли то, что некий помещик в трактирном споре с вами оставил под каждым вашим глазом источники света?
– Да вы, я вижу, нескромный проказник и смутник! Хватит вам содомить! – вспылил Храповицкий и, вынеся из-за столов своё тучнеющее тело, дал знак Окуневу отойти с ним в сторонку.
– Уж и сказать ничего нельзя! – бормотал, подымаясь, пьяноватый юноша. – Экой он таки спесивенек!
Предчувствуя неладное, Державин порешил пойти за спорщиками, но его перехватила княгиня Вяземская:
– Голубчик, Гаврила Романович, вот я сижу и думаю: чем тебе не пара княжна Катерина Сергеевна? Знатна, богата, умна, да и стихи славные пишет…
– Вот-вот! – нашёлся Державин. – Она стихи пишет, да и я мараю. Так мы всё забудем, и щи сварить будет некому.
Из кустов, раскрасневшись, выскочил Окунев и бросился к Державину:
– Гаврила! Будешь моим секундантом! Мы в лоск рассорились с Храповицким и решили ссору удовлетворить поединком! Посредником от него будет сенаторский секретарь Хвостов…
Что делать! Короткая приязнь к Окуневым препятствовала от сего предложения отказаться. Но смущало соперничество против любимца главного своего начальника Вяземского, к которому едва только входить стал в милость.
– Соглашаюсь… И даю тебе слово… – наконец сказал отрывисто Державин. – Только ежели этому не попротивуречит начальник мой прокурор Рязанов…
– А если он будет против?
– Тогда попрошу секундировать дружка моего – майора Гасвицкого.
Незаметно набежало облачко, стало тучкой, и на пирующих обрушился по-летнему крупный, но по-апрельски ледяной дождь, который несколько остудил хмельные головы и разбавил вино в покалах. С визгом кинулись искать защиты от тешившейся стихии фальшивые богини и мордастые гении. У краснощёких сильфид ветер срывал тюники, курносые амуры теряли башмаки, а ядрёные телесами нимфы вязли в грязи. У иных богинь не только распустились кудри, смоклые от дождя, но от холода мокро стало и под носом.
– Значит, завтра в Екатерингофском лесу в шесть пополудни! – крикнул, убегая, Окунев.
Державин махнул ему рукою, позвал Гасвицкого и поспешил с ним на поиски прокурора Рязанова.
Вымокнув до нитки, нашёл он своего начальника обедающим у старшего члена Герольдии Льва Тредиаковского, сына стихотворца, в его доме на Васильевском острове. Уже был вечер. Вызвав Рязанова, предоброго человека, изложил Державин своё дело.
– Эх, молодо-зелено! – вздохнул прокурор. – Да что же с вами поделаешь! Отправляйся, только постарайся не давать поединщикам потыкаться на шпагах. Авось все кончат миром!
В сей миг в прихожую вышла из зала госпожа Бастидонова, а за ней легко впорхнула та, о которой все эти дни мечтал поэт. В ожидании кареты мать и дочь постояли несколько в прихожей, а когда вышли, Державин сказал Рязанову с обычной своей прямотой:
– Коль эта девушка пойдёт за меня, я на ней женюсь…
4
В лесу снег был глубок и рыхл, и поединщики с секундантами шли гусем, стараясь ступать след в след. Державин, чувствуя, как хлюпает у него в башмаках, мысленно сетовал на Гасвицкого, которому поручалось привезти оружие на выбор: «И куда запропастился?..» Протрезвевший Окунев скоса бросал на шедшего с мрачным видом Храповицкого вопрошающие взгляды, и Державину подумалось: «Пожалуй, соперники сии, не будучи столь уж отважными дуэлянтами, будут примирены без пролития крови…»
– Господа! – крикнул он, останавливаясь. – Да полноте вам дуться! Эко дело, право! Ну погорячились, а теперь-то что дурь разводить? Тем более в прощёное-то воскресение, когда господь велит грехи друг дружке прощать! Как ты, Миша? – оборотился он к Окуневу.
– Признаю, братец, – краснея, проговорил тот, – что наплёл вчера лишнего.
Храповицкий, казалось, только и ожидал от него первого шага.
– Да и я на вас не сержусь особо, коли вы сами согласились, что были неделикатны…
– А ежели так, – подхватил обрадованно Державин, – то не худо бы вам повиниться друг перед другом, расцеловаться, да и решить всё миром!
Поединщики тут же исполнили его просьбицу.
– Вот те на! – смуглолицый, острый на слово Хвостов, возглавлявший процессию, остановился и развёл руками. – Благородные люди нешто эдак-то поступают? Надобно хоть немного поцарапаться, чтобы потом стыдно не было!
– Помилуй, Александр Семёнович! – начал было урезонивать разошедшегося посредника Державин. – К чему ты призываешь? Увечить друг друга и из-за чего – говорённой вчерась спьяну пустоши? Статимое ли это дело?
– Вы, Гаврило Романович, видать, пуще всего страшитесь, как бы из-за дуэли расположения нашего генерал-прокурора не потерять, – насмешливо процедил Хвостов.
– Ах так! – Державин одновременно с отпрыгом в сторону выхватил свою шпагу. – Извольте, сударь, стать в позитуру.
Хвостов снял и бросил перчатки, блеснул солитер на пальце.
– Я готов!
Оба они были почти по пояс в снегу.
– A-а, побелел смугляк! – наливаясь яростью, прошептал Державин. – Сейчас я тебя проучу!..
– Стойте! Братуха! Обожди!
Не разбирая пути, медведем по снегу катился Гасвицкий, держа в охапке палаши и сабли. Он бросился между рыцарей и отважно пресёк битву, впрочем, едва ли могущую быть смертоносною. Бормоча друг другу извинения, забияки вернули шпаги на перевязь. Примирение секундантов завершили Храповицкий и Окунев.
– Тут неподалёку имеется знатный трактир, – заметил Храповицкий, – там мы выпьем чаю, а охотники – пуншу…
На том и порешили.
На возвратном пути в Питербурх Державин с Хвостовым ехали в карете, нанятой Гасвицким. Тот признался, что задержала его самая прекрасная женщина в столице – паркая баня.
– То-то, Петруха, ты, словно пламень разгоревшийся, на нас наскочил! – обнял Державин друга. – А меня вот совсем иная пленира волнует. Постой-ка! – вдруг в полный голос крикнул он. – Ведь сегодня последний день масленицы! В Императорском дворце машкерад, на который и Бастидонова с дочерью непременно припожалует! Я хочу, Петруха, чтобы ты беспристрастными дружескими глазами сию девицу посмотрел…
Державин и Гасвицкий, в масках, с трудом пробирались сквозь веселящуюся толпу. Многолюдство объяснялось просто. Куранты били первую четверть после девяти пополудни, и сама государыня, по своему обыкновению появившись на маскараде в седьмом часу, уже поговорила с некоторыми вельможами, сыграла партию в вист и удалилась во внутренние покои. Ещё беззаботнее стало во дворце, и среди бархатных и атласных кафтанов, расшитых золотом или унизанных блестками, с большими стальными или стеклянными пуговицами, среди атласных робронов и калишей на проволоке, среди пышных полонезов и длиннохвостых роб с прорезями на боку замелькали простые платья: купцы с жёнами и дочерьми из своей, особливой залы перешли почти уже все в дворянские.
– Вот она! – с неумеренною громкостию воскликнул зачарованный поэт, хватая друга за рукав.
Бастидоновы степенно беседовали с сановитым толстячком – управителем Ассигнационного банка Кирилловым. Девушка обернулась на возглас, и лицо её покрылось милым румянцем.
Во всё время маскарада, следуя по пятам за Бастидоновыми, друзья примечали поведение молодой красавицы и с кем и как она обращается.
– Знакомство степенное, и натура, видать, скромная и благородная! – пробасил Гасвицкий.
– Люблю! Люблю! Петруха! – пылко ответствовал Державин.
– Тогда за чем дело стало? Ищи сватов…
Назавтра за великопостным, но всё равно обильным блюдами столом у генерал-прокурора Вяземского насмешливый Хвостов завёл речь о волокитствах, бываемых во время карнавала, а особливо в маскарадах.
– Не глядите, Александр Алексеевич, – обратился он к Вяземскому, – что новый экзекутор наш кажется скромником. Вчерась он целый вечер шашнями занимался.
– Правда ли это? – заинтересовался генерал-прокурор, глядя на Державина.
– Правда, и истинная! – волнуясь, ответил тот.
– Кто же сия красавица, – проскрипел Вяземский, – которая вас толь скоропостижно пленила?
Державин назвал её.
Пётр Иванович Кириллов, сидевший рядом с генерал-прокурором, нахмурился, но промолчал. А когда все встали из-за стола, отвёл влюблённого.
– Слушай, братец, – начал он, – нехорошо шутить насчёт почтенного семейства. Сей дом мне знаком коротко. Покойный отец девушки мне был другом, он был любимый камердинер Петра III, и она воспитывалась вместе с великим князем Павлом Петровичем, которого и называется молочною сестрою. Да и мать её тоже мне приятельница. Посему попрошу при мне насчёт сей девицы не шутить!
– Да я и не шучу! – отрывисто возразил Державин. – Я поистине смертельно влюблён!
– Когда так, что же ты хочешь делать?
– Искать знакомства и сватать!
Толстячок приподнялся на цыпочки и доверительно ответствовал ему пошептом:
– Я тебе могу сим служить…
Ввечеру оказались они с Державиным возле небогатого одноэтажного домика Бастидоновых. Босоногая девка, встретившая их в сенях с сальною свечою в медном подсвечнике, провела гостей в комнаты. Матрёне Дмитриевне Бастидоновой Кириллов объяснил, что, проезжая мимо с приятелем, захотел напиться чаю и упросил господина Державина войти с собою. По обыкновенных учтивостях гости сели и, дожидаясь чаю, вступили в общежитейский разговор.
Появилась живущая у Бастидоновой сестра Анна Дмитриевна с невесткою и племянницами, бойкими молодайками, которые непрестанно балабонили и хохотали, пересуживали знакомых, желая, видимо, показать гостям остроту свою и умение жить в большом свете. Поэт отвечал им невпопад, не сводя глаз с предмета своей любви. Она прилежно вязала чулок и в отличие от сестёр с великою скромностию лишь изредка вступала в общую беседу.
Черты её лица выказывали южное происхождение (отец девушки – покойный Яков Бастидон родом был португалец). Бледность лица ещё более оттенялась чернотою кудрей и бровей, блеском тёмных, как маслины, глаз, всегда добрых и доверчивых. Ей было семнадцать лет.
Меж тем, как та же босоногая девка начала подносить чай, Державин делал примечания свои на скромный образ мыслей матери и дочери, на опрятство и чистоту в платье, особливо последней, на её трудолюбие и здравые рассуждения и заключил, что хотя они люди простыв и небогатые, но честные, благочестивые, хороших нравов и поведения: «Коли я женюсь, то буду счастлив!» Посидев часа с два, гости отправились домой, испросив позволения и впредь быть к ним въезжу новому знакомому.
Дорогою Кириллов спросил Державина о его сердечном расположении.
– Ощущаю я, милейший Пётр Иванович, – пылко ответствовал поэт, – что обняла меня весною весна!..
Так решена была для Державина его судьба. Уже на другой день Кириллов сделал от имени Державина настоятельное предложение. Матрёна Дмитриевна попросила несколько дней сроку, чтобы порасспросить о женихе у своих приятелей. Сведения могли быть только самые благоприятные. Державин в те поры был в милости у сильного вельможи, имел множество связей и порядочное состояние – всего около шестисот Душ.
В свой черёд, и Державин выслушивал слухи о будущей своей тёще, вполне пристойной женщине, овдовевшей уже вторым браком. Поговаривали, правда, о ней разное – что она будто бы злобна и жестока, особливо со своими крепостными.
Державину достоинства и недостатки мамаши Бастидоновой, понятно, были не так уж важны, он рвался к дочери. Вскорости, нарочно проезжая мимо их дома, увидел он Катю Бастидонову, сидящую у окошка, и решился зайти. Он нашёл её одну, за пяльцами, и, поцеловав ручку, спросил, знает ли она через Кириллова о его искании.
– Матушка мне сказывала, – потупила Катя свои тёмные глаза.
– Что ж вы сами о сём думаете?
– От неё всё зависит…
– Но ежели от вас, могу ли я надеяться?
– Вы мне не противны… – прошептала девушка, закрасневшись.
Державин бросился перед ней на колена, осыпая её руки поцелуями.
– Ба, ба! И без меня обошлось! – воскликнул вошедший в этот момент толстячок Кириллов. – Где же матушка?
– Поехала разведать о Гавриле Романовиче, – простодушно ответила Катя.
– О чём разведывать! – всплеснул короткими ручками управляющий Ассигнационного банка. – Я его знаю, да и вы, как вижу, решились в его пользу. Кажется, дело и сделано. Пора обвещать о помолвке…
Появилась наконец и Матрёна Дмитриевна, сделали помолвку, но на сговор настоящий она не решилась без соизволения великого князя Павла Петровича.
Через несколько дней великий князь велел представить себе жениха, ласково принял его в кабинете, обещав хорошее, насколько в силах будет, приданое. По прошествии великого поста, 18 апреля 1778-го года был совершён брак. Счастливый Державин писал:
Хотел бы похвалить, но чем начать, не знаю:
Как роза, ты нежна; как ангел, хороша;
Приятна, как любовь; любезна, как душа;
Ты лучше всех похвал: тебя я обожаю!
5
– Гаврило, дорогой, пойми же, что стихи сии прекрасны, но в них мало життя! – Капнист, волнуясь, часто вставлял малороссийские словечки. – Они пишномовны и лишены простоты. А ведь стихи должны литися живо и легко…
– Васенька, друг любезный! Рази ж я сам не чувствую, что негодный стихоткач!
– Погоди, погоди! Зачем на себя зря плескати! Стихотворец ты изрядный, токмо бундучнисть твоим виршам мешает…
Разговор происходил на квартире у сенатского секретаря Хвостова. На низких, покрытых узорчатыми коврами оттоманках (хозяин привёз их, будучи при посольстве в Царьграде) рядом с Державиным сидели его новые друзья – советник посольства при Главном почтовом правлении Николай Александрович Львов[34]34
Львов Николай Александрович (1751–1803) – деятель русской культуры, поэт, переводчик, архитектор, график, ботаник. Член Российской академии с её основания; почётный член Академии художеств. Вокруг Львова формировался литературный кружок (Хемницер, Капнист, Державин, Дмитриев), а также кружок художников (Левицкий, Боровицкий и др.), музыкантов. В поэзии испытывал влияние отчасти сентиментализма, отчасти зарождавшегося русского романтизма. Писал также тексты для комических опер.
[Закрыть] и служивший по горному ведомству отставной поручик Иван Иванович Хемницер[35]35
Хемницер Иван Иванович (1745–1784) – поэт. Служил рядовым в русском Нотебургском пехотном полку, участвовал в походах периода Семилетней войны, потом был офицером для «курьерских посылок» при генерал-аншефе А. М. Голицыне. В 1769 г. познакомился с Львовым, вошёл в его кружок, оставил службу, начал работать в Горном училище. В творчестве следовал поэтике классицизма, но при этом ценил превыше всего принципы простоты и верности натуре. В его баснях сквозь традиционную дидактическую форму пробивалась свойственная сентиментализму чувствительность.
[Закрыть]. Сам Капнист, чернобровый, с резкими чертами южного лица, полетаем носился по кабинету, размахивая листком с последними стихами Державина «Успокоенное неверие».
– Бери пример, друже, с древних – Горация и Овидия! Толь изящны и широсерды их вирши…
«Бери пример, – горько усмехнулся Державин. – Хорошо говорить так любезному другу Васеньке, когда он шпарит на французском, как по-российски, знает и латынь, и греческий, и теории искусства!»
Впрочем, все собравшиеся здесь были отмечены незаурядной учёностию. Все, кроме Державина. И сам Хвостов, и Хемницер, только что выпустивший без подписи книжицу басен, и, разумеется, Львов, разносторонностию своих знаний, интересов и дарований превосходивший прочих. Самобытный архитектор, он работал над проектами Невских ворот Петропавловской крепости, собора святого Иосифа в Могилёве; учёный-геолог, он мечтал о промышленной добыче каменного угля в Центральной России; поэт, он сочинял басни, вирши и намеревался попытать силы в «вольном» русском стихосложении в подражание народному творчеству; теоретик литературы, живописи, архитектуры, музыки, он штудировал Винкельмана, Дидро, помогал советами славным уже художникам Д. Г. Левицкому, А. Е. Егорову, композитору Е. И. Фомину и пропагандировал античную классику.
Поклонник Руссо, Львов избрал себе образцом благородного и незнатного Сен-Пре[36]36
…избрал себе образцом благородного и незнатного Сен-Пре. – Сен-Пре – герой романа Руссо «Новая Элоиза».
[Закрыть]. И когда отец пятерых красавиц сенатский обер-прокурор Дьяков отказал ему по его бедности в соискании руки дочери Марии, он совсем в духе Руссо решил тайно соединиться с ней браком, вернуть её в родительский дом и добиваться признания своего права на любовь.
– Истинная красота, – вставил Львов, прерывая очередную темпераментную тираду Капниста, – конечно, в чистом источнике природы…
– А великий Ломоносов? – возразил Державин. – Он находил красоту в силе духа, в громогласном парении и высоких словах!
Львов в споре не щадил никого:
– Конечно, Ломоносов – богатырь. Трудности он пересиливал дарованием сверхъестественным. Но знаете ли, какие увечья нанёс он родному языку!
– Он указал широкую дорогу нашей словесности! – отрывисто возразил Державин.
Большие серые глаза Львова вспыхнули насмешкой:
– Дорогу высокопарности! Нет, в изящной словесности превыше всего естественность и простота.
Державин в душе был уже во многом согласен с Львовым. Сохраняя прежнее, благоговейное отношение к поэзии Ломоносова, он чувствовал, однако, как устарело витийство торжественных од. Давно уже испытывал поэт безотчётную потребность быть верным истине и природе. А познакомившись с теорией французского философа и эстетика Шарля Батте, который главным требованием искусства называл подражание «изящной природе», и главною целью – «нравиться» и одновременно «поучать», он окончательно решил, что непременное следование строгим риторическим правилам и украшениям, господствующим в русской поэзии, сковывает и обезжиливает его стихи.
Слуга внёс шандал с зажжёнными свечами – быстро надвигался долгий питербурхский осенний вечер.
– Друже, Гаврила! – Капнист снова забегал по кабинету. – На Парнасе талант твой далеко переваживает наши. Но ему не хватает толь небогатого – шлифовки, отделки, замены поодиноких слов. Мы с Иваном Ивановичем Хемницером, ежели ты не против, чуть прошлись по сиим стихам. А советами та увагами помог нам чудо Львов…
– Васенька! – с полной искренностию сказал Державин. – Чем, кроме горячей благодарности, могу ответить я тебе и друзьям моим?
– Пустяшные поправки, – продолжал Капнист, подсаживаясь ближе к свету, – но как заиграло самоцветное твоё слово! Вот послухай…
– Сыми-ка, Вася, нагар со свечи, – бросил ему Хемницер.
– Да возьми съёмцы с каминной подставки, – подсказал хозяин.
Капнист сощикнул свечу, другую. Пламя ярче осветило друзей: смуглого, с продолговатым окладом лица Хвостова, большелобого, в светлых кудрях Львова, подвижного, живоглазого Капниста. Лишь Хемницер оставался в тени.
С чёткой скандовкой Капнист начал читать:
Когда то правда, человек,
Что цепь печалей весь твой век:
Почто ж нам веком долгом льститься?
На то ль, чтоб плакать и крушиться
И, меря жизнь свою тоской,
Не знать отрады никакой?..
Младенец лишь родится в свет,
Увы, увы! он вопиет.
Уж чувствует своё он горе;
Низвержен в треволненно море,
Волной несётся чрез волну,
Песчинка, в вечну глубину.
Се нашей жизни образец!
Се наших всех сует венец!
Что жизнь? – Жизнь смерти тленно семя.
Что жить? – Жить – миг летяща время
Едва почувствовать, познать,
Познать ничтожество – страдать…
Так ли уж могуч разум человека, приносящий ему разочарование неверия? Надо ли испытывать судьбу, подвергая всё сомнению? И где же выход?
Над безднами горящих тел,
Которых луч не долетел.
До нас ещё с начала мира,
Отколь, среди зыбей эфира,
Всех звёзд, всех лун, всех солнцев вид,
Как злачный червь, во тьме блестит, –
Там внемлет насекомым бог.
Достиг мой вопль в его чертог,
Я зрю; Избранна прежде века
Грядёт покоить человека;
Надежды ветвь в руке у ней;
Ты, Вера? – мир души моей!..
Капнист умолк, но слушатели зачарованно молчали. Какие копившиеся силы вдруг вырвались наружу! Откуда в этом добродушном, малообразованном чиновнике, бывшем гвардейском офицере, этот напор, этот накал мысли! Капнист первый очнулся.
Львов тихо сказал:
– Гаврила Романович! Верно, что Ломоносов по широте гения и образованности превосходит вас, но силою поэтического дара вы, ей-ей, выше! Вы первый поэт на Парнасе российском.
Державин смутился. Видя это, Хвостов подал знак, и слуга тотчас появился и расставил на столике изящный фарфоровый виноградовский сервиз – налепные цветы и гирлянды на белых чашечках, сахарнице, сухарнице; медный, пышащий жаром турецкий кофейник.
Хозяин разлил кофий и провозгласил нарочито дурашливым голосом:
– И я, и я хочу оставить след на Парнасе! Зацепиться хоть краешком! И вот он, мой скромный букетец цветов парнасских, –
Хочу к бессмертью приютиться,
Нанять у славы уголок;
Сквозь кучу рифмачей пробиться,
Связать из мыслей узелок…
Друзья уже не раз слышали шуточную оду «К бессмертию» и одобряли её. Но Хвостов на сей раз недолго занимал их своим детищем. Едва кофий был выпит, он предложил:
– Едемте, братцы, к князю Александру Ивановичу Мещёрскому! Запамятовали? Он нынче ожидает нас!..
– Нет, не могу… – ещё не остыв от смущения, Державин скрёб ногтем налепную розочку на чашке. – Екатерину Яковлевну огорчать не смею… Года не прошло, как поженились – и холостяцкие пирушки. Негоже…
– Гаврила мой! Ведь мы с тобою одинакие молодята! – Капнист умоляюще поглядел на друга. – А дражайшая Катерина Яковлевна, верю, простит тебе, как простит мне сей малый грех моя милая Сашуля, моя Александра Алексеевна!..
Капнист женился вскорости после Державина, в 1779-м году. Жёны его и Львова были сёстрами, дочерьми Алексея Афанасьевича Дьякова.
Через час вся честная компания уже сидела за роскошными столами Мещёрского, весельчака, плясуна, хлебосола. Его ближний друг Степан Васильевич Перфильев в расшитом бриллиантами генеральском мундире самолично руководил слугами, следя, чтобы золочёные тарелки и хрустальные покалы ни у кого из гостей не пустовали.
6
Державин был счастлив, как может быть счастлив мужчина только единожды в жизни. Утрами, в ещё не истаявшем сне видел возле себя свою любовь, своё несравненное сокровище и тянулся тронуть рукою: так ли? Явь ли то? На службе, думая о ней, частенько забывался. А она! Была его мыслями, его плотью, его душою, его вторым естеством. Вникала во всё и во всём соучаствовала – в служебных тяготах, в стихотворчестве, в беседах с друзьями. Страстная, нежная, дарила его невыразимой радостию. «Люблю, люблю! – твердил Державин. – И не верю, что вся она моя! Вся! От смоляных кудрей и до тайных прелестей, до махоньких шишечек на титьках и нежных серёжек…»
Лилеи на холмах груди твоей блистают,
Зефиры кроткие во нрав тебе даны,
Долинки на щеках, улыбка зарь, весны;
На розах уст твоих соты благоухают…
Но я ль, описывать красы твои дерзая,
Все прелести твои изобразить хочу?
Чем больше я прельщён, тем больше я молчу:
Собор в тебе утех, блаженство вижу рая!..
– Гаврила Романович! – позвал его коллежский советник Бутурлин. – Тебя генерал-прокурор кличет.
Державин вздрогнул и очнулся от мечтаний о своей Афродите.
Правительствующий сенат, созданный Петром Первым в 711-м году, при Екатерине II ведал лишь финансами и хозяйством России. Державин о финансах имел представление самое отдалённое, однако благодаря природному уму, воле и настойчивости вскоре разобрался в запутанных делах и принялся предлагать одно за другим усовершенствование финансовой отчётности.
Прямой начальник Державина Еремеев был человек престарелый, выслужился с самых низов до действительного статского советника и по незнанию административных тонкостей, а пуще того – по робости характера ни на что не годился. Коллежский же советник Николай Иванович Бутурлин, игрок и гуляка, принят был в экспедицию токмо потому, что приходился зятем Елагину. Отдуваться надо было Державину.
– Николай Иванович, – сказал, собирая бумаги на подпись, Державин, – ты подготовил месячные ведомости?
Он добивался того, чтобы отчёты о суммах, поступающих из различных учреждений – адмиралтейства, провиантской конторы, комиссариата, – проверялись не раз в год, как было принято, а ежемесячно, что должно было сократить злоупотребления. Известно было, что чиновники казённых палат в губерниях задерживали у себя собранные деньги и отдавали их в долг под высокий процент. А казна тем временем испытывала недостачу в средствах.
– К чему они! – махнул Бутурлин рукою. – Я уже сотью говорил тебе, что поверка надобна токмо при годовых отчётах…
– Эка лень в тебе сидит, право! Казна страдает, да и дела запустим…
Тот скосоротил своё смазливое лицо:
– Работа не малина, чай, не опадёт. Пусть ужо нас с тобой его сиятельство рассудит…
Истинно, сякнет терпение! Мало что бездельник, так норовит ещё таем от него гадость какую сделать. Не раз уже ловил Державин Бутурлина на том, что он наушничает Вяземскому, к былям небылицы прилыгает.
Генерал-прокурор был явно не в духе. Одну за другою возвращал он бумаги Державину.
– Александр Алексеевич! Помилуйте! Ведь большая часть списков уже разослана в казённые палаты! – вознегодовал Державин.
– Ишь, какой прыткий! Здесь дело государственное… – ответил Вяземский. – Чай тебе не стихи марать…
– Верно, ваше сиятельство, – поддакнул Бутурлин, – спешить некуда!
Державин видел, насколько Вяземский переменился в отношении к нему. То ли князю не нравился его независимый характер, стремление докопаться до существа дела, то ли возмущало легкомысленное стихотворчество, а может, приязнь статс-секретаря при государыне Безбородко, с которым Державин спознакомился через Львова? Вернее всего, и то, и другое, и третье. Обидливый вельможа был недалёк и злопамятен.
– Я давно замечаю ваши придирки! – смело сказал поэт, приняв списки назад. – Не иначе, как сей господин вас на меня науськал!
Генерал-прокурор от возмущения захлебнулся и стал издавать ноздрями шипящий звук.
– Вы известный скалозуб и непочтитель! – вставил Бутурлин. – И как только его сиятельство вас терпит!
– Ах бездельник! Чья бы корова мычала! Молчал бы уж лучше! – пришепеливая, крикнул Державин.
– А вы, Гаврило Романович, дремучка! – скороговоркою бросил Бутурлин. – На службе, замечал я не раз, спите, да ещё с прихрапом! Оттого, видно, и списки дурно составили…
– Коли вы лучше умеете, пишите бумаги сами!
Державин в сердцах сунул Бутурлину списки и выбежал вон из кабинета.
В те поры Державин с женою жил на даче Вяземского Мурзинке: он занимал верх, а в нижнем этаже располагался столоначальник Васильев. На другой день, в субботу, Васильев навестил его и именем князя передал приказ подать прошение об отставке.
В воскресенье опальный поэт уже был на другой даче Вяземского, в Александровском. Как обычно по воскресеньям, генерал-прокурор отправлялся с докладами к императрице в Царское Село, а оттуда возвращался ввечеру. Приехав, Вяземский сел в кресла, окружённый семейством и многими его ласкателями. Державин вошёл в гостиную и голосом твёрдым и решительным сказал:
– Ваше сиятельство! Через господина Васильева изволили мне приказать подать челобитную в отставку. Вот она! А что изъявили своё неудовольствие на мою службу, то, как вы сами недавно одобрили меня перед её величеством и исходатайствовали мне чин статского советника за мои труды и способности, представляю вам в нынешней обиде моей дать отчёт тому, перед кем открыты будут некогда совести ваши!
Он отвесил поклон и вышел.
Глубокая тишина сделалась в комнате между множества людей. Молчание нарушила княгиня Елена Никитишна:
– Он прав перед тобою, князь! А Бутурлин обносит его, так как сам не способен к работе…
Вяземский заволновался. Завидя из окна, как Державин идёт через двор, он скрипуче проговорил:
– Конечно, он пеш. Подайте ему чью-нибудь карету…
Несколько прихлебателей кинулись выполнять его приказание. Но Державин, поблагодарив, карету не принял и пошёл в Мурзинку, лежащую от Александровского в двух вёрстах, где дожидалась его жёнушка.
Приехавший поздно вечером в Мурзинку Васильев рассказал, что князь раскаивается в своём поступке, но только не хочет сему придать публичной огласки. Он просит Державина сделать вид, якобы он пришёл с ним объясниться в своей горячности, и всё пойдёт по-прежнему. Посоветовавшись с Катериной Яковлевной, поэт на другой день так и поступил. После обеда, когда у генерал-прокурора было ещё много гостей, Державин подошёл к нему и попросил аудиенции с ним наедине в кабинете.
– Пожалуй, мой друг, изволь! – улыбнулся Вяземский.
В кабинете они перекинулись совсем не значащим, и благосклонное обхождение начальника со своим подчинённым возобновилось, хоть и ненадолго.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?