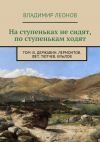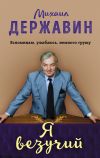Текст книги "Державин"

Автор книги: Олег Михайлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Высокопочтенный господа доброжелатель! Мы имель честь показать вам наш удивительный действий, а вы, нас похваляя, дариль нам денег по возможности, за что мы покорно благодарствуем! Но как насталь время наш отъезд, то я, Паячи, не могу отъехать без того, чтобы наперёд не проститься и почтеннейший публикум ещё не повеселить. Итак, я имею честь пригласить вас на пантомим и буду стараться представить всё наилучшим образом. Но Паячи покорно вас просит, чтобы вас быль побольше, дабы я побольше собраль денег. Вам же ведомо, как бедный Паячи дрожит на верёвке и чувствует со страху то жар, то холод…
– Сие Брамбилла, кунстберейтер из Италии, – пояснил Гасвицкому Державин. – Сам балансирует на двух проволоках и бьёт в барабан приятную слуху шотландскую тревогу. Потом берёт в рот рюмку, ставит на неё шпагу, а другой актёр, прозванный за небольшой росточек маленьким англичанином, балансирует на её эфесе… Может, зайдём?
– По сие время Паячи не излечиль своей болезни! – выкрикивал Брамбилла. – Поныне она становится чувствительною. И вот причина в чём, что Паячи стал забавлять себя вином для прогнания болезнь. За ваше здоровье, почтенный публикум, выпью ещё несколько полных рюмок и при всякой новой капле буду желаль вам полного благополучия…
В это время от Селезнёвских бань громыхнул выстрел, и народ, словно спугнутые галки, побежал из переулка на площадь.
– Эй, полубарыня! – остановил Гасвицкий старуху, одетую, несмотря на теплынь, в плисовый салоп. – Что за шум, а драки нет?..
Она оборотила к ним передряблое лицо.
– И-и, батюшка! Колодника отпустили в баню… Под надзиранием караульного солдата. А его незнаемые люди и отбили… Сказывают, разбойник великий… Какой-то Черняй…
Державин приметил, как появилась и тотчас же скрылась в толпе рябая рожа Ивана Серебрякова.
6
Сумароков доживал свои последние годы, мучимый острожелчием, чувствуя, что его талант так и не нашёл у соотечественников должного почтения и признательности. Кто, как не он, способный ко всему, населил российский Парнас элегиями, эпистолами, притчами или баснями, сатирами, любовными песнями, одами, хорами, куплетами, мадригалами, загадками!.. Но самая великая его заслуга, конечно, в ином: он лучший драматург России, коему великие французы – Расин в трагедии и Мольер в комедии служили образцами, – и директор первого Российского театра. Сколь умно его перо, о том и по худым переводам все учёнейшие мужи в Европе знают. И вот: ему, происходящему от знатных предков и имеющему чин бригадира и орден святыя Анны, грозила теперь нищета. А любление к стихотворчеству да словесным наукам ни денег, ни имений не принесло.
«Какая нужда мне в уме, коль только сухари таскаю я в суме?..»
Его ли, северного Расина и Мольера, равнять с прочими пиитами? Спору нет, Ломоносов покойный был в науках отменно сведущ и знаменит, сочинял и знатные оды, хотя все они напыщенностью грешат, особливо последняя – «Пётр Великий». Право, несусветная дерзость! Ломоносов тщился свою оду до Гомеровой «Илиады» раздуть, ан что вышло? Сумел написать лишь две песни, старался, тужился, да и преставился. Пускай по Москве лают, что Сумароков зол и несправедлив, но в сатире своей на автора «Петра Великого» он только истиною был озабочен:
Под камнем сим лежит Фирс Фирсович Гомер,
Который, вознесясь ученьем выше мер,
Великого воспеть монарха устремился,
Отважился, дерзнул, запел и осрамился:
Дела он обещал воспеть велика мужа;
Он к морю вёл чтеца, а вылилася лужа…
И ведь надо же, нашёлся писака безымянный, обративший против Сумарокова тупое своё перо! Нападает беззастенчиво и на самого автора, и на его комедии, в том числе на лучшую из них – «Опекуна»! Издевательски именует его новым Терентием – римским комедиографом Теренцием! Как там у пачкуна сказано?
Сумароков вскочил с кресел, поправил на лысеющей рыжей голове сползший парик и выдернул из шкапа связку бумаг. Стал нервно листать. Где, где она? Вот – «Вывеска»:
Терентий здесь живёт Облаевич Цербер,
Который обругал подьячих выше мер,
Кощунствовать своим Опекуном стремился,
Отважился, дерзнул, зевнул – и подавился:
Хулил он наконец дела почтенна мужа,
Чтоб сей из моря стал ему подобна лужа.
Темно, коряво, а, главное, как несправедливо! Впрочем, каковую справедливость можно по Москве искать, когда здесь Сумарокова ни в грош не ставят все, начиная от московского главнокомандующего Петра Семёновича Салтыкова и кончая актриской вольного театра Бельмонтия этой выскочкой Лизкой. Обходятся с ним точно с мёртвым! Два письма отправил он императрице Екатерине Алексеевне, моля её о заступничестве, но никакого ответа не получил.
Противу его договорённости с Бельмонтием Салтыков повелел разыграть на театре трагедию «Синав и Трувор». Зачем? Кто оценит теперь высокие страсти его пьесы, написанной двадцать лет назад! Актёры? Да они разучить как следует её не пожелали. Зрители? Им нынче подавай пакостную слезливую «Евгению» какого-то Бомарше, переведённую, сказывают, московским подьячим! Как же, публика в восторге: всё перемешано – смех и слёзы, высокое с подлым. Но возможно ли, чтоб на тулово скорбящей Мельпомены да голова смешащей Талии насажена была? Истинно, только подьяческий вкус таковое допустить способен. Нет, не безмозглым московским кукушкам понять дано смысл и слог его «Синава и Трувора»: «В победах, под венец, во славе, в торжестве спастися от любви нет силы в существе…»
А может, и его хулитель – какой-нибудь подлый приказный? «Чтоб сей из моря стал ему подобна лужа…» Ах, когда подьячие начинают о литературе судить, конечно, скоро преставление света настанет…
Старый слуга, тайный соучастник в горестном его куликовании, вошёл в кабинет с подносом. Письмо из Питербурха? Наконец-то! Может, государыня отменит сей позорный спектакль. Торопливо разодрал украшенный императорскою монограммою конверт, трясущимися руками развернул бумагу с водяными знаками.
«Александр Петрович! Письмо ваше от 25-го января удивило меня, а от 1-го февраля ещё более. Оба, понимаю я, содержат жалобу на Бельмонтия, который виноват только в том, что исполнил приказание графа Салтыкова. Фельдмаршал желал видеть представление вашей трагедии: это делает вам честь. Вам должно бы согласиться с желаниями особы, по месту своему первой в Москве… Я думаю, что вы лучше других знаете, какого почтения достойны люди, служившие со славою и украшенные сединою, а потому советую вам впредь избегать подобных ссор. Таким образом сохраните вы спокойствие духа, нужное вам для ваших трудов, а мне всегда приятнее будет видеть изображение страстей в ваших драмах, нежели читать их в ваших письмах. Впрочем остаюсь вам доброжелательная.
Екатерина».
Сумароков сжал бумагу в кулаке.
– Принеси, Прокоп, анисовой, да чтобы штоф был поболе…
Так-то ценят его в России и при дворе. Он спомнил недавнее послание Вольтеру и любезный ответ сего знаменитого француза с осуждением самоновейших, «незаконнорождённых» пьес, затем свою громкую славу при покойной монархине Елизавете Петровне. И вот письмо здравствующей императрицы! Куда как далеко этой хитрой и двуличной немке до дочери великого Петра!
Побежал к налою, спробовал пальцем очин у перьев: какое повострее. Строчки, несущие его боль, его муку, словно сами собой полились на бумагу:
Все меры превзошла теперь моя досада:
Ступайте, фурии, ступайте все из ада,
Грызите жадно грудь, сосите кровь мою!
В сей час, в который я терзаюсь, вопию,
В сей час среди Москвы Синава представляют,
И вот как автора достойно представляют;
«Играйте, – говорят, – во мзду его уму,
Играйте пакостно за труд на зло ему».
Сбираются ругать меня враги и други;
Сие ли за мои, Россия, мне услуги!
От стран чужих во мзду имею не сие:
Слезами я кроплю, Вольтер, письмо твоё.
Лишённый муз, лишуся я и света;
Екатерину зрю… проснись, Елизавета!..
Бесшумно вошёл старый слуга.
– Садись ужо, Прокоп… – Сумароков сам разместил па поставце штоф и рюмки.
Слуга был одновременно и его тестем: наперекор молве и материнской воле Сумароков женился вторым браком на собственной крепостной.
– Батюшка, Александр Петрович! Только не пей много, чтоб, избави бог, опять не понасуслиться… – с жалостию к своему барину-зятю сказал Прокоп. – Вечером велено тебе быть непременно в киятре…
Ещё гимназистом, в Казани Державин играл в поставленной Верёвкиным комедии Мольера «Школа мужей». А пристрастился к драматическим зрелищам в Питербурхе, где не было ещё вольного, по существовал придворный театр, в самом дворце. Места в ложах и партере назначались в нём по чинам, в райке же дозволялось быть всем прочим зрителям, исключая носящих ливрею. Приставленные к дверям придворные служители не возбраняли входа и гвардейским унтер-офицерам, лишь бы они были во французских кафтанах, в кошельке и при шпаге. Зрители за места ничего не платили, не то что в вольном театре Бельмонтия. Кабы при деньгах, а то последний двугривенный отдавать приходится…
Сержант сидел на своём любимом месте – у самого оркестра, где собирались порицатели вкуса и строгие судьи. Иные из них уже одобряли его как начинающего пиита, особенно после недавней эпиграммы на Сумарокова. Театр гудел, словно растревоженный улей, зрители шикали, топали ногами, выкрикивали бранные слова. Разозлённая колкими выпадами Сумарокова, публика освистала его «Синава и Трувора».
– Гляди-ко, твой крестник бежит – Терентий Облаевич! – оборотился к Державину длинный как жердь секретарь известного вельможи Елагина и драматург Лукин.
Сумароков в крайнем раздражении размахивал руками, увеличивая восторг жестокосердых зрителей.
– Сколь мне его лёгкие вирши приятны, столь трагедии кажутся надутыми и пустыми, – отрывисто отвечал Державин. – А уж наветы его на Ломоносова и вовсе смешны!
Сумароков не помнил, как выскочил из театра, как добрался до дому. О, позор! О, ужас! Что это? Освистать трагедию, написанную им по вечным законам возвышенного…
С великого горя всю-то ночь пьянствовал Сумароков со своим верным Прокопом, а наутро появились две его новые эпиграммы на москвичей и разлетелись по первопрестольной…
7
– Слышь, Пётр! Вторая эпиграмма, чать, больше удалась нашему Облаевичу. – Державин, сидя с Гасвицким в кабаке, громко прочёл:
На месте соловья кукушки здесь кукуют,
И гневом милости Дианины толкуют.
Хотя разносится кукушечья молва:
Кукушкам ли понять богинины слова?..
Гасвицкий смущённо махнул ручищей:
– Эх, милаша! Я в этих ваших виршах смыслю, ей-ей, что порос в цветах…
– Всё очень просто, дружище. Сумароков не хочет смириться с тем, что славный фельдмаршал Салтыков, словно орёл, облетел его перед царицей. Вот соловушка наш и закручинился и на московских кукушек осерчал.
– Ишь ты! Тебе-то всё тут понятно. А мне? – Гасвицкий оглушительно захохотал. – Кто я в сравнении с тобою? Охреян охренном! Мне бы погулять ещё немножко в Москве, да и дёрнуть назад к жёнке в Саратов… Чать, заждалась! – И он потянулся, захрустев своим могучим телом.
– Если на Москве жители кукушки, – в раздумье продолжал Державин, – то сам Сумароков к старости, видно, умом опростел и стрекочет словно пустая сорока… Надо бы ещё разок отдарить его. Эй, хозяин! Неси-ка очиненных перьев да бумаги отдирок…
– Это дело! – Гасвицкий положил ему ручищу на плечо… – А то вовсе ты отбился: стихи свои позабросил, да и дома тебя не застанешь. Я как знал, сюда ехал, что ты с Блудовым тут околачиваешься. Полюбил я тебя, сударка, за то, что ты правдуха и горяч как чёрт. И вот тебе мой совет: довольно ты в Москве помызгал…
Державин и сам был согласен с новым другом – здесь ему делать больше было нечего. В 1768 году началась война с Оттоманской Портою[23]23
В 1768 году началась война с Оттоманскою Партою… – Русско-турецкая война 1768–1774 гг. была начата Турцией после отказа России вывести войска из Польши. Разгром турецких войск при Ларге и Кагуле, турецкого флота в Чесменском бою заставили турецкое правительство подписать Кючук-Кайнарджийский мир в 1774 г.
Оттоманская Порта – принятое в европейских документах и литературе название правительства Оттоманской, или Османской, империи, как называлась султанская Турция.
[Закрыть], и Екатерина II повелела распустить Депутатскую комиссию, так и не составившую Уложения. В Москве становилось всё тревожнее: уже объявились по городу первые знаки грозного поветрия – моровой язвы.
Между тем прибывшая в первопрестольную мать прапорщика Яковлева обвинила Державина и Сергея Максимова в том, что они, презрев указ императрицы от 1766-го года о запрете особо азартных игр и уничтожении карточных долгов, её сына обобрали. Послан был солдат для отыскания этих господ, завертелось новое судебное дело. Гаврила пропадал в кабаках и игорных местах, но и в карты ему не везло, и последняя копейка шла у него ребром…
– Вот послушай: «На сороку в защищение кукушек…» – Державин оторвался от бумаги и тут же умолк.
В кабак ворвался Сумароков. Он был пьян, почти безумен. Верный Прокоп едва удерживал его. Хватаясь беспрестанно за эфес путавшейся в ногах шпажонки, Сумароков левою рукой обвёл сидящих за столами:
В дубраве сей поют безмозглые кукушки,
Которых песни все не стоют ни полушки;
Одна лишь закричит кукушка на суку,
Другие все за ней кричат: куку, куку…
Не обращая никакого внимания на поднявшийся шум и гам, стихотворец уселся за свободный стол и тотчас потребовал себе водки.
– Слышь, Петруха! Я ему сейчас свою новую эпиграмму отошлю, пусть почитает, – ухмыльнулся Державин.
– Да ты что? Скандала хочешь? – неодобрительно пробасил Гасвицкий. – Посылай, братец, токмо без подписи…
– Нет, я подпишусь, но одними инициалами – Глаголь и Добро…
Вместе со штофом хлебного вина на стол Сумарокову лёг листок со стихами. Тот взял листок, побледнел и откинулся на лавку. Поднявшийся из-за соседнего стола офицер с видимым наслаждением вслух прочёл через его плечо:
Не будучи Орлом Сорока здесь, довольна,
Кукушками всех птиц поносит своевольно;
Щекочет и кричит: чики-чики-чики,
В дубраве будто сей все птицы дураки.
Но мужество Орла Диана почитает,
И весь пернатый свет его заслуги знает.
Разноголосый гул прокатился по зале. Пожалуй, все поняли, кого считать Сорокой, а кого – Орлом, памятуя о славном военном прошлом победителя Фридриха II при Кунерсдорфе фельдмаршала Салтыкова.
– Назови автора сих стихов! – крикнул из дальнего угла, как всегда, хмельной Блудов.
– Мне неведомо. – Офицер бесцеремонно взял со стола листок. – Писано тут только: «Г» и «Д».
– «Глаголь» и «Добро»! – в бешенстве повторил Сумароков. – А! Я знаю, узнал, что за Добро сие глаголит! Сей поддевало непотребный – известный мне подьячий! Сейчас он попробует моей шпаги! Только бить его я буду плашмя – фухтелем! – и пулей вылетел из трактира.
Державин уже раскаивался в своей злой шутке. Не открывшись в авторстве возбуждённым гулякам, он решил ещё разок попытать счастия в игре и обратился за помощью к Гасвицкому.
– Нет, Гаврила, на игру у меня денег нет и не будет!..
Но упросил его Державин дать ему червонец и снова кинулся за карточные столы. Он нашёл Блудова в кружку куликовавших с ним дружков горланящим стихи известного Баркова[24]24
…стихи известного Баркова… – Барков Иван Семёнович (по другим данным – Степанович; ок. 1732–1768), поэт, переводчик. Переводил сатиры Горация, басни Фёдра. Автор «Жития князя Антиоха Дмитриевича Кантемира». Известность приобрёл фривольными стихами, расходившимися в списках.
[Закрыть]:
«Ударьте в бубны, в барабаны,
Удалы, добры молодцы!
В тарелки, ложки и стаканы,
Фабричны славные певцы!..»
Хмельную рожу, забияку,
Драча всесветна, пройдака,
Борца, бойца пою, пиваку,
Широкоплеча бурлака!..
Под чтение сих виршей Державин быстро попался на подборе карт, весь жалкий свой капиталец просвистел и снова предстал перед Гасвицким.
Друг, Петруша, не могу так больше! – понуро пробормотал он скороговоркою. – И как дальше быть, не знаю…
– Хватит пить, пора ум копить! – с назиданием в голосе отвечал тот. – Поналытался без дела и уноси отсель ноги, покуда не поздно.
– Так ведь даже доехать до Питербурха не на что!
– Коли, братец, не на игру, то я тебе хоть сколько ссужу. Хочешь сотню? – И добрый поручик потянулся за кошельком.
– Довольно будет мне и пятидесяти целковых.
Державин обнял Гасвицкого, полетел на Поварскую, покидал в сундучок бумаги, бросился опрометью в сани и без оглядки поскакал в Питербурх.
Прощай, Москва со своими трактирами и ремесленными игроками! Прощай, выпивоха Блудов и плутяга Максимов! Прощайте, пригожайки московские и ты, бедная Стеша! Прощай, добрый друг Гасвицкий!
Но почему «прощайте»? До свидания! Мы ещё свидимся, свидимся с вами, только вот с кем – это одной судьбе ведомо!
Мартовский вечер был тих, снег падал охлопьями. За столпами Тверской заставы в смутной пелене потянулись ближние барские усадьбы, мелькнул охотничий домик Петра Великого под высокою зелёной голландской крышей. После Благовещенья наступило оттеплие, но Державина знобило. Накрывшись повылезшей волчьей полостью, он снова и снова повторял написанные им опомнясь строки о непотребном своём московском житье, шевеля пересмяглыми губами:
Повеса, мог, буян, картёжник очутился
И, вместо чтоб талант мой в пользу обратил,
Порочной жизнию его я погубил…
Глава вторая
На родине
О колыбель моих первоначальных дней!
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей,
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?
Когда наследственны стада я буду зреть,
Вас, дубы Камские, от времени почтенны!
По Волге между сел на парусах лететь,
И гробы обнимать родителей священны?
Звучи, о, арфа! ты всё о Казани мне…
Державин. Арфа
1
В Андреев день, 30 ноября 1773 года, в Зимнем её величества дворце имел быть по обыкновению пышный бал, на который приглашались «все дворяне обоего пола, исключая лиц моложе тринадцати лет». Под громы музыки дамы в робах, вышитых шелками, с длинными, в полтора аршина хвостами, и кавалеры в цветном платье плясали и вертелись в весёлом хороводе, длинной вереницею разбегались по высокому беломраморному залу, залитому светом тысяч свечей в больших хрустальных люстрах. Начался англез – пантомима любви и ухаживанья. Женщина – набелённая, нарумяненная, с насурмленными бровями, в мушках из чёрной тафты величиною с гривенник, с перьями в причёске, – то убегала и уклонялась от ухаживанья кавалера, который её преследовал, то опять поддразнивала и кокетничала с ним в обольстительной позе, будто отдаваясь ему, но, когда он приближался, мгновенно ускользала.
Не верилось, что на южных окраинах России четвёртый год шла кровопролитная война с Оттоманскою Портой, – так беззаботно звучали на хорах скрипицы, флейтузы и гобои, так безмятежно-счастливо танцевала молодёжь, такой приятной важностию светились лица пожилой знати. В углу, за колонною гвардейский прапорщик-преображенец, наряженный во внутренний караул, жадно глядел на пёструю толпу и одними губами шептал:
– Дела, дела! Душа так и рвётся из груди, ан дела не находит. Живу словно пёс одинокий – ни кола ни двора, некуда и головушку пришатить. Нет уж, довольно прозябать, надеяться, ждать счастливого случая! Не на стихи же, в самом деле, уповать! Что стихи! Какой, право, с них прок?..
Прапорщик горько усмехнулся, спомнив, как, возвращаясь в Питербурх, проиграл в пути все бывшие с ним деньги приятелю, как занял у вёзшего из Астрахани виноград садового ученика ещё полёта, просадил и их в новгородском трактире, как наткнулся в Ижоре на карантинную заставу, учреждённую противу моровой язвы, и в ответ на объявление, что его задержат на две педели, в присутствии караульных, не задумываясь, сжёг свой багаж (причину задержки) – сундучок, где хранились все доселе написанные им стихи, начиная с времён Казанской гимназии.
За прошедшие три с лишним года Державин заметно исхудал. Пропала юношеская округлость и мягкость в чертах его доброго лица, и само оно стало жёстче, мужественнее. Бедность, преследовавшая его, сделалась причиною многих зол и представлялась тридцатилетнему офицеру чуть не пороком. Она едва не принудила Державина выйти из гвардии. К новому, 1772-му году собрание ротных командиров и прочих офицеров Преображенского полка нашло наконец его достойным производства в прапорщики, однако невзлюбивший Державина полковой адъютант предложил за бедностию выпустить его в армейские офицеры.
Бедность и впрямь была в те годы великим препятствием носить с пристойностью гвардейское звание. А когда друзья-преображенцы всё же добились для него офицерскою чина, то он обмундировался с грехом пополам: ссудою из полка, в счёт жалованья добыл себе сукна, позументу и прочих вещей, а затем кое-как исправился остальным нужным – продав сержантский мундир и заняв немного денег, купил английские сапоги, взял в долг у своих питербурхских друзей Окуневых небольшую ветхую каретишку и поселился на Литейной, в маленьких деревянных покойниках.
Он жаждал быть замеченным, выделиться. Но куда там, если блеск богатства и знатность безусловно предпочитались скромным достоинствам и ревности к службе. Рвался быть употреблён в каком-либо отличном поручении или в войне. Однако гвардию обыкновенным порядком, как прочие армейские полки, в войне не употребляли, кроме экспедиций на флоте, а ехать в действующую армию волонтёром он не имел достатку.
Думая о сём, Державин повергался временами в меланхолию, завидовал успехам всех воевавших, даже посмертной славе поручика и стихотворца князя Козловского, вместе с фрегатом взлетевшего на воздух в знаменитом Чесменском сражении, мечтал отличиться и пробиться наверх. Молодому человеку кружили голову примеры временщиков; ночами, внезапно проснувшись, он думал о тех, кто с самого низу взошёл и стал близ трона. Вот почему так жадно разглядывал он теперь великих бояр и вельмож – в разноцветных кафтанах, атласных кюлотах и туфлях с красными каблуками.
Ах, какие люди собрались здесь! Всех их можно бы назвать случайными, хотя, если разобраться, каждого не токмо слепой случай вывел наверх и помог там удержаться. Вон тот, чуть сутуловатый, седой и плотный красавец, опирающийся на трость, выточенную целиком из огромного агата и усыпанную алмазами и рубинами, – давний кумир гвардии, заступник солдатам и малоимущим офицерам Кирилл Разумовский. Простой казак и брат фаворита покойной Елизаветы Петровны, Кирилл Григорьевич в восемнадцать лет стал президентом Российской академии паук, а затем – гетманом Малороссии. По своему приятельству с Петром Фёдоровичем он был отодвинут поначалу Екатериною II, отрешён от гетманства, но затем вновь приближен и назначен председательствующим в чрезвычайном совете при дворе, где ценили его меткий украинский юмор и побаивались колкого, независимого ума… А круг него! Внимающие его остротам, произносимым с характерным малороссийским выговором, толпились вельможи один богаче и могущественнее другого. Вот этот великан с портретом государыни в петлице – сердцевидном медальоне, усыпанном бриллиантами, – Григорий Орлов. В пору многолетнего пребывания своего в фаворитах у Екатерины II он, внук солдата, был осыпан без меры наградами и чинами: директора корпуса инженеров, начальника конной гвардии и артиллерии, президента иностранного колонизационного бюро, главного директора фортификаций, князя и генерал-аншефа. А рядом – носящий за победу над турками имя Чесменского – его брат Алексей, лицо которого во всю щёку пересёк страшный сабельный шрам, полученный в кабаке на двадцатом году жизни. Дальше обер-гофмейстер и с недавней поры фельдмаршал граф Никита Иванович Панин. Президент Военной коллегии Захар Григорьевич Чернышов и его брат Иван Григорьевич, вице-президент адмиралтейсколлегии. Известный Державину по Москве генерал-аншеф Алексей Ильич Бибиков, попавший вследствие дворцовых интриг в опалу и получивший несколько дней назад повеление императрицы из главнокомандующего в Польше стать простым корпусным генералом на турецком фронте, да ещё под началом не расположенного к нему фельдмаршала Румянцева[25]25
Румянцев (Румянцев-Задунайский) Пётр Александрович (1725–1796) – граф (1744), русский полководец, генерал-фельдмаршал (1770). В Семилетней войне овладел крепостью Кольберг. С 1764 г. президент Малороссийской коллегии. В русско-турецкой войне 1768–1774 гг. одержал ряд побед. Впервые применил сочетание каре, колонн и лёгких батальонов, положив начало зарождению новой тактики колонн и рассыпного строя. Автор ряда военно-теоретических работ.
[Закрыть]. И непременный участник всех балов и церемоний, длиннолицый, с дряблыми щеками обер-шталмейстер Лев Александрович Нарышкин, хлебосол и арлекин, вечно прихехекивающий и паясничающий шут государыни, прозванный при дворе «шпынём»…
Оркестр грянул польский, но танцующие остановились и, расступившись, образовали широкий проход. Вниз по беломраморной лестнице шла императрица в голубом с зелёною епанчой (цветов ордена святого Андрея Первозванного) роброне. Волосы её были слегка припудрены, голубой роброн оттенял белизну полуоткрытой груди и ниспадал пышным колоколом.
Чуть сзади Екатерины II держался её фаворит Васильчиков, нежнолицый и ничтожный, сменивший всесильного Орлова. Улыбка на его кукольном лице казалась приклеенной: ходили слухи, что не долгому возвышению Васильчикова приходит конец.
Державин видел, как Григорий Орлов сделал несколько крупных шагов навстречу царице, но Екатерина мягким движением руки остановила его и прошла мимо. Васильчиков поймал на себе напряжённый и насмешливый взгляд своего предшественника и зарделся вишнёвым румянцем. Императрица рассеянно отвечала на приветствия и словно искала кого-то. Внезапно она решительно – как в воду – вошла в толпу придворных и взяла за руку Бибикова. Державин весь напрягся, чтобы расслышать её слова.
– Голубчик, Алексей Ильич! – в наступившей тишине зазвучал её грудной голос. – Видно, не придётся тебе к туркам ехать. Нашлись дела и поважнее…
Бибиков, склонившийся в полупоклоне, поднял удивлённые глаза.
– Чай, слышал ты, – продолжала царица с чуть заметным акцентом, – открылось возмущение на Яике. Боюсь, генералы моп вовсе обленились и разучились мышей ловить, раз какой-то беглый казак взял по Яику несколько городов, осадил Оренбург и разбил армию Кара… Бери-ко, голубчик, всю власть, да и наведи ужо там порядок!
Бибиков был добродушен, хладнокровен, прекрасно владел собою, но склонность к весёлости, смелой шутке одержала верх над его обычной сдержанностью. Он отвесил ещё один полупоклон и вместо ответа тихо, но явственно пропел тенорком куплет старой народной песни:
Сарафан ли мой, дорогой сарафан!
Везде ты, сарафан, пригожаешься;
А не надо, сарафан, и под лавкою лежишь…
Императрица внимательно поглядела в его карие глаза и улыбнулась:
– Что ж, ты прав, Алексей Ильич! Сей дорогой сарафан нам теперь надобен… Только спомнишь мои слова. Не под лавку бросать, а на все пуговки застегнуть его теперь придётся. Итак, – зная свою власть не только самодержицы, но ещё и красивой женщины, она придала лицу выражение величия и мягкости, – собирайся, голубчик, поскорей, да и отправляйся прямо в Казань!
Вот она, редкостная возможность поймать удачу! О волнениях на Яике шушукались по гостиным, открыто говорили в кабаках, хотя полиция и хватала болтунов. Слухи были противоречивы и вздорны – о будто бы воскресшем императоре Петре Фёдоровиче… Но всё равно куда, всё равно зачем, – только бы покончить с унижением бедности! Державин отступил за колонну и прижался к мрамору пылающим лбом. Он вовсе не был известей Бибикову, однако порешил, не откладывая, завтра же порану ехать прямо к нему и упросить взять с собой.
Поутру Державин так спешил, что позабыл даже продеть голову в пудреник: стал порошить волосы мукою – и кафтан весь запудрил. Кое-как почистившись, прикатил он в своей каретишке к дому генерал-аншефа и сенатора Бибикова на Гороховой улице, запрыгал по деревянным мосткам, метя мимо проступавшей топи, и сразу попал на приём к хозяину.
– Слышал я, ваше высокопревосходительство, по народному слуху, – начал Державин, представившись, – о поездке вашей с секретной миссией в Казань. А как я в сём городе родился и ту сторону довольно знаю, то не могу ли быть с пользою в сём деле употреблённым?..
Бибиков нахмурил продолговатое, с высоким лбом лицо. Кто этот безумный прапорщик, что без протекции и даже рекомендательного письма решился на такой дерзкий шаг? Дурак или наглец? Нет, сию развязь надобно пресечь!
– Очень сожалею, друг мой, – сказал он наконец. – Но я уже выбрал себе гвардии офицеров – людей, лично мне известных.
Оставалось раскланяться и уехать, но Державин не торопился. Он внезапно почувствовал в себе тот особенный прилив сил, какой всегда наступал у него в поворотные минуты судьбы.
– Любопытствую я, ваше высокопревосходительство, касательно ваших литературных опытов…
– Вот как? Каких же?
Державин понял, что сказал сие впопад.
– Ведомо мне, что переложили вы на русский язык поэму Фридриха Великого о военном искусстве…
– Это так, братец. А ты что, сам тоже к изящной словесности склонность имеешь?
– Признаюсь в сём грехе. И вирши Фридриховы переводил, и сам писать пробовал: складывал и лёгкие песенки, и торжественные оды в подражание великому Ломоносову.
– Любопытно, друг мой. Расскажи-ка о себе коротко…
Державин уехал, пробыв у Бибикова около часу, ощутил приязнь и ласку вельможи, но так и не дождался от него никакого обещания.
Огорчённый, зашёл он ввечеру в полковую канцелярию, которая помещалась неподалёку от его покойников на Литейной, и встретил у ворот шестнадцатилетнего капрала Василья Капниста[26]26
Встретил у ворот шестнадцатилетнего капрала Василья Капниста… – Капнист Василий Васильевич (1758–1823), поэт, драматург. Автор антикрепостнической «Оды на рабство» (1783; издана в 1806), сатирической комедии «Ябеда» (1798).
[Закрыть], недавно переведённого из Измайловского полка в Преображенский. Он успел уже полюбить этого живого, остроумного и образованного полтавчанина, отец которого, выходец из греков, в год рождения сына пал в битве при Гросс-Егерсдорфе. Быть может, юный Капнист заполнял ту пустоту, какая образовалась в душе Державина после кончины его младшего брата Андрея, таявшего в Питербурхе от чахотки и осенью 1770 года почившего в Казани на руках у матушки.
– Гаврило Романович, дорогой, что невесел? Ай журба какая напала? – стремливо обнял Державина тоненький живоглазый и горбоносый капрал.
– Не везёт мне, дружок! – махнул тот рукой. – В кои-то веки понадеялся на фортуну! Да рази её ухватишь, когда у этой капризной грации затылок голый! Просился в команду генерал-аншефа Бибикова, но, видать, не судьба…
– Примай свою судьбу без ропота, – не по-детски серьёзно сказал Капнист. – Постой, постой! Разгони хмару – ведь тебя в канцелярии ожидает какой-то приказ…
Гаврила опрометью бросился в полковую избу.
«Лейб-гвардии прапорщику Державину велено явиться назавтра к его высокопревосходительству и российских орденов кавалеру господину Бибикову…»
Генерал-аншеф при новом свидании говорил мало:
– Через три дни быть готовым к отъезду в Казань!
2
Как обрадовалась, расцвела и даже помолодела матушка Фёкла Андреевна! Не знала, куда усадить, чем потчевать дорогого гостя, и не могла на него наглядеться.
– Не обессудь за недостаточностью моей, сам знаешь, всё нынче кверху тормашками пошло! – Фёкла Андреевна сокрушённо махнула рукою. – Из именьиц в этакую смуту ничего не дождёшься!
Но стол был обилен домашнею снедью: на оловянных блюдах и талерках солёные огурцы и солёные сливы, капуста топаная, подовые пироги кислые с сыром и с груздями, копчёное мясо, приготовленное с деревянным маслом, чесноком и луком, караси с бараниной, душистый мёд (место, где стояла Казань, издавна было пчелисто), в кувшинах – полпиво, квас, сбитень…
– Ты что, подлец, подстылое принёс! – внезапно крикнула Фёкла Андреевна дворовому подростку, привычно награждая его крепким подзатыльником. Тот поглядел на барыню злобным волчонком и молча скрылся в поварню, унося блюдо пилава с бараниной.
– Вот, возьми их! – вздохнула Фёкла Андреевна. – Почитай, вся дворня от рук отбимшись ходит, только и норовят господ обмануть, да всё о какой-то воле промеж собой толкуют. Дался им Пугач! Да это непременно и не имя, а прозвище – дворян пугает. А имя… – Фёкла Андреевна оглянулась, хотя в низкой горнице, кроме них, никого не было, и зашептала сыну на ухо: – Отписала из Москвы сестрица моя Фёкла Савична, что Пугач этот есть на самом деле беглый казак Черняй…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?