Текст книги "Антиквар. Повести и рассказы"
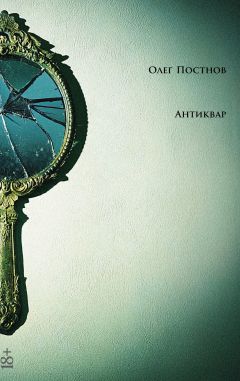
Автор книги: Олег Постнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Вход в ателье располагался на уровне полуподвала, к нему вели несколько узких ступеней, огражденных с трех сторон решетками. Как раз у этих решеток стоял припаркованный пикап – недавнее приобретение одного из Костиных напарников, которого Костя за глаза (а возможно, что и в глаза) укорял в легкомыслии. Сам он жил очень скромно, все свободные деньги тратя на фотоприборы, которыми – снова его черта – делился с друзьями по ателье. Но, резонно замечал он, что они будут делать, если он из ателье уйдет, а рано или поздно ведь это должно же случиться, верно? Не очень удивлюсь, если это «рано или поздно» уже давно приспело и он не уходил именно оттого, что не мог оставить своих незадачливых коллег на произвол судьбы. Каков будет этот «произвол», сомневаться не приходилось. Однако и тут положение вещей каким-то волшебным образом было мне на руку: пикап явно мог свезти любой предмет моей обстановки, причем привлекал к себе внимания куда меньше, чем грузовик, а зависимое от Кости положение его хозяина, весьма крупного и, судя по всему, сильного усатого хохла, сейчас еще занятого съемкой, давало мне все основания рассчитывать именно на этот транспорт – разумеется, в том случае, если Костя согласится мне помочь.
Потолковав о всяких пустяках, мы спустились вниз и расположились в костюмерной – небольшой комнатке, в самом деле увешанной кругом одеждой самой пестрой и к тому же уставленной множеством славных вещиц вроде больших песочных часов, моделей парусников из тех, что любил описывать Грин, стеклянных, глиняных и фарфоровых безделушек и прочего хозяйства в таком роде, ласкавшего мне глаз, ибо, кроме антикварных лавок, не знаю более уютного места в мире, чем мастерская фотографа. Живописцы должны уступить ей первенство: особенность этого вида искусства делает насущным разнообразие аксессуаров, и, хотя их уникальность ежечасно приносится в жертву божку объектива, сами они необходимо должны нести на себе печать неповторимого, необычного. Все это я изложил тотчас Косте, а затем, решив, что тянуть дольше незачем, рассказал об истинной цели своего визита. К моей радости, он согласился тотчас. Был немедленно вызван из мастерской и Иван, хозяин пикапа, и тоже посвящен в дело. Как я видел, особой радости это у него не вызвало, особенно когда Костя наотрез отказался от денег, но и он, в общем, не видел причин отказать мне. «Вот только время, – в полном согласии с моим планом заметил он. – Я работаю до двенадцати, а дальше площадка переходит к Косте. Вас устроит, если мы всё перевезем начиная, скажем, с полуночи и часов до двух? Вероятно, к тому же за один раз не управиться: нужно две ночи». Я сказал, что меня-то устроит, только вот придется не шуметь: боюсь, мол, мои старушки за стенками спят чутко. «Вот и отлично, – подытожил Костя. – Все уже упаковано? Нет? Ну так начнем послезавтра».
На том и сошлись – разошлись, вернее. Я дождался, пока Иван отбудет в своем пикапе, и уже один на один сказал Косте то, о чем теперь никак не мог не сказать: о якобы недавно доставшейся мне пластинке Талбота. Он пришел в восторг. Я в восторг не пришел, но, прощаясь с ним, по крайней мере был отчасти спокоен по поводу денег. Признáюсь, впрочем, что, как ни корил я себя в душе за жадность, мне все-таки было жаль, что Костя не позволил мне расплатиться ими.
XI
«Послезавтра»… Конечно, я сам дал понять, что спешу, и, мало того, с утра следующего дня (мне снова никто не позвонил) был вполне уверен, что, собственно, упаковывать мне предстоит не так уж много. Но я сильно ошибся. Все утро ушло только на то, чтобы раздобыть необходимые для книг и картин коробки, а также пенопласт для предохранения углов мебели. В тех же коробках уместился и весь прочий мой – простой – скарб. Часть вещей, к примеру одежду и ванные принадлежности, я никуда везти не собирался. Это касалось и кухни. Однако сама паковка оказалась долгой и трудоемкой. Когда-то, разъезжаясь с матерью, мы укладывали вещи целый месяц, и я до сих пор не могу понять, как же все-таки справился с ними теперь в один день: уже к полуночи в прихожей стояли стопкой увязанные и закрытые со всех сторон картины, в кабинете выросла пирамида из ящиков с книгами, затянутых скотчем, тот же скотч удерживал бесформенные подушки из пенопласта на полированных выступах и углах шкафов, все выемные стекла, проложенные картоном, поместились в еще один ящик, а фигурные были закреплены и тоже закрыты картоном. Фисгармония облеклась своим траурным чехлом так плотно, словно красавица, едущая на бал, бюро с подвязанными ящиками – внакидку, будто домино; ему не хватило лишь черной маски, вместо нее верх стягивал грубый шрам шпагата. И только диван да опустелый комод (фавн с своим виноградом – в ящике с ватой) и еще кровать да ковры на полу сохраняли память о прежнем убранстве. Зато обои отстали, кое-где висели клочьями, так что я вовсе успокоился насчет правдоподобия «ремонтной» легенды: я намерился и впрямь сделать ремонт. Да, кстати: нашлась-таки еще одна «мина», но не в полу или стене, а в тайнике самом подходящем – в черепе. Увы, бедный почтенный череп пращура пушкинского друга, с срезанным верхом и полированными краями, в котором другой пушкинский друг, еще в Дерпте, хранил табак! Именно в нем я нашел, лишь взяв его в руки, эту «заначку» замедленного действия. Не знаю уж, что там врал в своих мемуарах младший Дельвиг-племянник, но только из этого черепа пить вино – да и что бы то ни было – было вовсе нельзя. Он не был отделан, как тот, что попался Байрону: предок всех русских романтических черепов. Напротив, все полости, все пробитые людьми и природой дыры остались в нем открыты, так что тут и впрямь мог быть храним разве лишь табак, да и то, пожалуй, в мешке. Некий мешок обнаружил и я, но это был все тот же целлофановый сверток с порошком внутри. Что ж, символично. И ведь уже тогда, в ту пору, как он сюда влагался, велись, велись первые туманные беседы о соучастии мертвых в делах живых, о радости соучастия, о возможной их роли в заботах, забавах… И усатая тварь тоже маячила где-то, пока еще на горизонте, еще не приближаясь, еще только наведываясь порой по телефону, не здесь ли Инна (Инна, конечно, была здесь).
Вот чего я не учел: воспоминаний. Не этих, подмётных, отправленных тотчас по назначению (порошок в унитаз, мешок в мусор), а иных, случайных и действительно неожиданных. Их тоже следовало паковать, но избавиться от них было много трудней.
Фотоальбом: старый, с пожелтелыми от гадкого клея снимками. Отец в пору юности, отец на войне. Другой ветеран – не столь ветхий, без клея и даже с замашками на изящность: золотой обрез, пружинный замóк, горельефы львов и ростральных колонн на обложке. Мое детство. Отец и мать – явно младше меня теперешнего. Черно-белый пляж, липковатое море (закрепитель был все же плох). Я сам – такой, будто снимки готовились к будущей биографии: не то Борхес, не то Кафка, скорее второй, страдавший, как помню, от тесных костюмов, как и я страдал от колючих чулок, надетых под шорты. Наш класс. Фотографии разных лет. Снова отец и мать. Потом только мать – в один год постаревшая, с колючим взглядом. Такой она была долго: я успел окончить школу, провалить экзамены в МГУ, уехать к брату в Сибирь, поступить там в университет (брат – по линии матери, без нашей порчи в крови, просто геолог; он и теперь работает в тамошнем научном центре, и его интерес к прошлому совсем не схож с моим). Успел, пожалуй, даже окончить курс-другой. А то и третий-четвертый. Да, верно: вот он, тот класс, тот самый, с педпрактики. Если перелистнуть страницу, то…
Но я не стал перелистывать. Я сидел один посреди разгромленной, ярко освещенной квартиры, за окном была ночь, и я не хотел больше видеть совсем эти блеклые привидения.
XII
Проснулся я от звонка и, кое-как найдя шлепанцы, побежал к двери. Мой сон сбил меня с толку. «Сейчас, Ираида Петровна, сейчас», – бормотал я, ибо только что ей обещал не помню чтó, во сне. Дверь открылась, но это была не Ираида Петровна. Юный и очень приятный сержант милиции, улыбаясь, козырнул мне, переступил порог и вручил повестку. Прыгающие буквы в прыгающих руках кое-как сложились в надпись «Для беседы», число я нашел лишь после (конец недели), а прыгающий карандаш из всех сил пытался вывести мою подпись на корешке, пока я, припав всем телом к двери клозета и к ней же прижав бумажку, норовил унять дрожь в прыгающих коленках.
– Переезжаете? – спросил сержант, прозорливо глянув на спрятанные в картон картины.
– Ремонтируюсь, – солгал я, сумев как-то в этом длинном слове нигде не удвоить слог.
Уже не помню, сказал ли еще что-либо ему вслед на его вежливое «будьте здоровы». И не могу объяснить, от кого запер дверь на добавочный верхний замок и дверную цепочку: от собственной глупости, верно. Но повалился я прямо на пол. Потом кое-как встал и ушел в клозет: меня сперва вырвало, а потом пронесло. Бог мой, никогда не думал, что я такой трус! Или, может быть, это теперь у меня рефлекс на мундир?
Итог моих вчерашних усилий я оглядел при свете дня уже с кровати. Мне пришлось отлежаться. Накануне ночью беспорядок теней мешал мне уснуть. Теперь я никак не мог заставить себя встать в этот хаос, вернуться к нему, снова заняться им. Желтое паспартý с нагой девицей Талбота внутри лежало в изножье кровати: на столике à la Louis, который я забыл обвязать, свалив на него все документы (прежде они хранились в бюро). Изогнувшись, я взял его, открыл, и с какой-то самому мне непонятной жалостью стал рассматривать снимок так подробно, как никогда прежде. Странным образом он вернул мне часть сил. Эту мертвую девушку (впрочем, зазывно глядящую с пластинки) я был рад видеть и вспоминать всегда. Допускаю, что три поколения моих предков, изучавших ее, как и я, вдохнули в снимок жизнь, доступную мне по наследству. Во всяком случае, теперь я отложил паспарту, поднялся на ноги и привел себя в порядок. Еще раз – уже спокойно – прочел повестку. И нашел, что так даже лучше: вряд ли меня станут беспокоить до этой самой «беседы». А значит, у меня есть три дня. Даже и торопиться некуда. Я выпил чай, плотно позавтракал, но затем все же без промедлений приступил к сборам: нужно было завершить то, что я не успел вчера. И хоть я сделал много, на оставшуюся часть ушел весь день. К вечеру я сходил (как и планировал) на свою новую квартиру – собственно, явку, ведь я не собирался жить в ней, – и рассчитал, что и куда поставить. Места было мало. Мне, однако ж, пришло в голову, что кое-какие вещи из скудной ее обстановки можно будет перевезти, наоборот, ко мне: вот уж они не могли бы вызвать никаких подозрений. Мысль мне понравилась; я набросал план очередности перевозок, взяв в расчет габариты пикапа, и поспешил домой, боясь пропустить звонок Кости. Он позвонил вовремя.
Иван тоже не подвел, так что ровно в полночь я услыхал их голоса в подъезде. Зная, что чем позже мы начнем, тем меньше шансов попасться кому-нибудь на глаза, я пригласил их выпить чаю и в общих чертах обсудил с ними намеченный план. Объяснил свое желание перебросить «пару вещиц» оттуда сюда возможностью время от времени ночевать дома, а для этого кое-какая мебель мне все же нужна. Словом, дотянул до половины первого и только тогда наконец с почти искренним вздохом сказал, что пора начинать. Я, впрочем, рассчитывал, что кто-нибудь нас так-таки заметит; мне только не хотелось, чтобы это были соседи – их могли опросить. Но в первом часу ночи, как я знал, на моих старух можно было положиться: свет в их окнах гас около десяти. Так именно и случилось. Первым мы вынесли книжный шкаф и, кажется, привлекли к себе взгляд группки подростков, расположившихся в сквере. Но сквер был далеко, а выезд со двора находился в противоположной стороне. Костя залез в кузов, едва уместившись там, зато подстраховав груз, я сел в кабину, чтобы указывать дорогу, Иван мягко тронул с места отяжелелый пикап, и мы покатили. Когда вместо шкафа, мы привезли назад ободранный шифоньер, скверных подростков уже и след простыл. Я перевел тайком дух, но, как оказалось, рано. За шкафом должен был следовать комод, однако как мы ни пыжились, ничего не вышло: мы даже не смогли приподнять его с пола.
– Да, предки строили прочно, – заметил (очень верно) Иван.
Но делать было нечего: мы взялись за бюро. Теперь уж мне было не по себе, и я с великим трудом решился тащить в дом новую порцию рухляди (нечто вроде серванта без ножек). И в который раз спросил себя, уж не свихнулся ли я ненароком, нужен ли этот переезд? Не обманываюсь ли, думая обмануть? Однако дело пошло. Фисгармония вдруг оказалась легкой и маленькой, так что мы догрузили к ней еще пару ящиков со стеклом, диван застрял в дверях и потом торчал чуть не на треть из кузова, но тоже особых хлопот не доставил, за ним шли уже сущие мелочи – ширма, стулья, хорошо запакованный (в последний миг) столик, а там, хотя дело близилось к трем, Иван сам предложил закончить всё прямо сегодня, что зря время терять? Так что к утру квартира алкоголика напоминала мебельный склад, моя же походила на приют бомжа, особенно когда я решил под конец сделать рокировку кроватями. Моя уехала в разобранном виде и была оставлена на кухне, как раз над таинственным погребом, себе же я приволок на ее место две односпальные лежанки, которые сдвинул друг с дружкой и получил вполне сносное ложе. За окном был рассвет, мы выпили за переезд домашней настойки отменной крепости, я вручил Косте паспарту с Талботом, он дал знать взмахом бровей, что понял, чтó это, и мои приспешники отбыли, пожелав мне удачного ремонта. На сей раз мне не пришлось затемнять шторы: впервые после ночи в милиции я уснул, едва коснувшись головой подушки. И спал до вечера мертвым сном. Без сновидений.
XIII
Разбудил меня какой-то странный звук. Несколько секунд я лежал неподвижно в полутьме, потом соскочил с постели и отдернул штору. За окном бледно-серой стеной стоял дождь. Я вышел на балкон. Аромат земли и воды, совершенно лишенный чего-либо городского, поразил меня. Дом напротив – и тот не был виден сквозь толщу струй. Не было ни дуновения ветерка, дождь лил отвесно, даже перила балкона ловили лишь редкие капли. Бог знает почему, этот внезапный переход от гнетущей жары и яркого солнца к холоду (я продрог чуть не в миг) показался мне необычно важным, значительным. Однако я не мог бы ответить, спроси меня кто, что, собственно, он, этот переход, означал. Я стоял, обхватив локти руками, недвижно смотрел пред собой и, кажется, ни о чем не думал. Потом наконец понял, что могу простыть. Шевельнулся, двинулся назад в комнату и тут впервые почувствовал, как нестерпимо болит тело. Переезд не прошел даром: старинная мебель требовала крепких мышц. И древнее поверье о том, что на земле прежде жили гиганты, тогда как мы лишь пигмеи, в который раз пришло мне на ум. С грустью осмотрел я комод, так и не поддавшийся нашим усильям. Потом шагнул было к уборной, но поскользнулся и чуть не упал – какой-то листок подвернулся мне под ногу. Кряхтя, я поднял его и с удивлением обнаружил, что это была страница хроники дел нашей семьи: вчера впопыхах я бросил всю папку на пол (ее я не думал увозить) и не заметил, как листы рассыпались в том углу, где прежде стояла фисгармония. Теперь был виден бледный ее след, отпечатанный солнцем на паркете. Отпустив листок – он порхнул вправо-влево и лег почти там же, где и лежал, – я поплелся в клозет и затем в ванную с острым чувством душевной усталости, вдруг подступившей ко мне. Мне теперь казалось, что не только вчерашние мои потуги, но и вообще все дела жизни были напрасны, не удались мне.
Правду сказать, это чувство не было мне в новость, напротив, оно исправно посещало меня всякий раз, когда что-то кончалось в моей жизни, когда один ее период сменял другой. Когда-то, в детстве, я отделывался мечтами: мне виделась светлая, пестрая даль, где было место любви, тайне, знанию и мастерству. Я мечтал быть антикваром. И очень рано, как помню, стал задумываться над тем, каков подлинный смысл этой редкой и необычной профессии, смысл, ускользавший всегда от профанов, а порой, как мне казалось, и от самих торговцев стариной. Лучше них разбирались в тонкостях дéла поэты – по крайней мере, чувствовали его суть. Но из-под их пера выходили образы страшные, смутные, холодящие кровь. Продавец шагреневой кожи. Венецианский старьевщик, из чьих зеркал отражения похищали своих хозяев, обрекая их на зазеркальное рабство. Петербургский торговец оживающими портретами. Мадридский содержатель ломбарда, где фигуры мраморных граций вдруг обретали живую плоть, сводившую с ума их случайных владык. Очень скоро я стал понимать, что эти образы были лишь слепком, наброском чего-то другого, может быть, самого важного, но неявного, скрытого внутри, в ремесле. Антиквар – всегда тот, кто продает герою его тайную страсть, диво ли, что она тотчас порабощает его! Куда значительней покупателя стал мне представляться сам продавец, всегда отстраненный, всегда оставляемый – невзначай – в тени. Между тем именно его усильями были собраны все те причудливые творения безвестных рук, ума, интуиции, которые овладевали в некий миг платежеспособным вертопрахом, но – и это снова всегда в тени! – были бессильны пред их продавцом, посредником, временным держателем, хотя тот тоже ведь некогда получил их в руки, постиг своим умом или выбрал меж прочими силою прозренья! А много ли знали его случайные жертвы о тех вещах, которых он им не предлагал? Уж не там ли, не в этом ли противостоянии вещей и умеющего их ценить, понимать, обращаться с ними человека, крылся секрет профессии, мастерство и любовь постигателя тайн? Я был уверен, что угадал. Да, в ту пору я видел себя в мечтах антикваром – хотел быть таким, как поколения моих дедов. Отец, я знаю, всегда мечтал о том же. Но мне говорил (в редких, крайне редких беседах полушепотом, обычно на ночь), что это пустые грезы, что при нынешних временах это невозможно, да и вряд ли станет возможно в будущем. Он оказался не прав, во всяком случае, прав лишь отчасти, но в ту пору я, конечно, не взвешивал доводов в пользу его взглядов или против них. Куда важней виделось мне само ремесло, само дело: я желал противостать тайнам, в нем заключенным, как иные хотят, словно Артур Гордон Пим, противостать какой-либо стихии, даже гибнуть в единоборстве с нею – всё от экзальтированной меланхолии (по определению По): как я говорил, временами я действительно был подвержен ей.
Мое воображение погружалось в прошлое, которое представало мне в пышных и грозных тонах «осени средневековья», и там я готов был пребывать без конца. И, помню, рано стал замечать парадокс нашего (я не смел тогда думать – моего) ремесла: основываясь на древностях, само оно было явно юным – как бы ни клеили авторы своим антикварам накладные бороды, седину или плешь. Позже я не удивился, что истоки его – всё в том же ненавистном мне времени Реформации и Просвещения: оно было порождением этого времени, но порождением, враждебным ему, противоположным по своим внутренним целям, тоже тайным, тоже скрытым от непосвященных глаз. Да, следовало иметь в крови некий особый фермент, какую-то, может быть, порчу, чтобы не терпеть так, как не любил я, всего обычного, повторяющегося, похожего. Даже в мире людей меня раздражали подобия, и я с удивлением обнаружил как-то в исповеди Бердяева, что он, как и я, ощущал нечто сродни брезгливости при виде сходства родственников (особенно близнецов – в моем случае; даром что сам я рожден под знаком этого имени). Много позже я понял, что же именно так раздражало меня. Мне казалось (и продолжает казаться до сих пор), что умножение предмета или облика, его тиражируемость обесценивает оригинал. Словно некая патина, нанесенная множеством безликих касаний – касаний взглядами, – прилипает к вещам. В них тогда делается видна вереница их подобий, захватанных и опошленных, и именно таковы хищные вещи нашего века. Ибо они хотят отъять у нас то, что утратили сами: нашу неповторимость, нашу собь. Я утверждаю, что сто пар чайных приборов, розданных пассажирам авиалайнера, страшней и действенней (по своей незаметности) всех безумных призывов к равенству. Равенство же не только исключает братство, но, главное, уничтожает свободу, не ту глупую liberté революций, которой, собственно, не бывало и нет, а высшую свободу, дарованную каждому из нас как особому творенью Божьему, творенью, не сошедшему с конвейера, будь он даже небесный, а не земной.
XIV
Позавтракав, я приступил к уборке. Да, я люблю убирать. И даже при общей слабости, телесной и душевной, мне было приятно навести порядок, пусть новые вещи были много старее действительно старых и бесконечно безобразнее их. Все же из них можно было составить какое-то подобие уюта, особенно если не слишком к ним придираться. Оглядывая их, я вскоре довольно отчетливо стал представлять себе пожилую чету – верно, мертвых родителей моего алкоголика, – где кто-то страдал отложением солей или чем-то подобным. Две одинаковые кровати отличались тем, что одна была ровной и твердой (что-то положили поверх пружин), и то же касалось двух одинаковых кресел. Их я поставил в ряд у стенки, отделив от изножья своей постели кривоногим чудищем, заменившим мой изящный столик. Угол, прежде занятый фисгармонией, остался пуст, но туда я перенес из кабинета стол с компьютером – единственное, что не было увезено, помимо комода. Тут обнаружилось, что, кроме двойной книжной полки, взятой мною из той квартиры, появился откуда-то еще простецкий, в одну секцию, стеллаж, сколоченный из фанеры. Как ни старался, я не мог вспомнить, в который же раз мы привезли и втащили его сюда, но теперь решил, что он мне пригодится. Компьютерный стол я поставил в простенок между углом и балконной дверью, а этот стеллаж – как раз на место фисгармонии. Будь он чуть-чуть шире, он бы накрыл бледное пятно на полу, ею оставленное. Но и так вышло совсем недурно. Теперь осталось лишь замаскировать комод: это я придумал тотчас после того, как нам не удалось его сдвинуть. Я разыскал старую занавеску, постелил ее на него так, чтобы она свешивалась до середины первого ящика, а двухъярусной полкой надежно придавил ее. Получившаяся конструкция вышла, как мне казалось, достаточно уродливой, чтобы не бросаться в глаза. На середину комнаты я выдвинул свою тумбочку с телевизором и видеомагнитофоном, а на полках поверх комода разместил видеотеку: всякие новинки, особенно технические, казались мне совершенно безопасными, а главное, абсолютно чуждыми моей душе, всем моим вкусам и предпочтеньям. Надо сознаться, впрочем, что набор фильмов мог, конечно, навести на след. Джордж Ромеро, Дарио Ардженто, Йорг Буттгерайт…[3]3
Джордж Ромеро (George Andrew Romero, 1940) – американский режиссер, автор трилогии об оживших покойниках: «Ночь живых мертвецов» («Night of the Living Dead», 1968), «Рассвет мертвецов» («Dawn of the Dead», 1979; в русском кинопрокате – «Зомби»), «День мертвецов» («Day of the Dead», 1985) и др. Дарио Ардженто (Dario Argento, 1940) – итальянский режиссер, мастер фильмов в жанре хоррор; «Синдром Стендаля» («La Sindrome di Stendhal», 1996) демонстрирует специфическое восприятие произведений живописи, приводящее в итоге к расщеплению личности главной героини. Йорг Буттгерайт (Jorg Buttgereit, 1963) – немецкий режиссер; самые знаменитые фильмы – «Некромантик» («Nekromantik», 1989) и «Некромантик 2» («Nekromantik 2», 1991). К числу менее известных относится фильм «Шрамм» («Schramm», 1993).
[Закрыть] Но, с другой стороны, тут было легко оправдать себя: дескать, я люблю лишь авторское кино, не моя вина, что тот же Буттгерайт или, к примеру, Анджей Жулавский предпочитают ставить псевдохоррор и андеграундовскую эротику. Я их смотрю, но я им не судия. Что касается документов и бумаг, в том числе злополучной папки с хроникой нашей семьи (разумеется, аккуратно собранной, уложенной в порядке и завязанной прочной тесьмой), то все это я рассовал по полкам стеллажа с деланой небрежностью. Это, собственно, был последний штрих: теперь комната была именно такой, какой я хотел ее видеть. Такой, как должны были ее увидеть другие, особенно те, что добывают правду с помощью пинков. Пол я подмел, и теперь оставалось только начать ремонт в кабинете. Покамест – для антуража – я выставил там лишь стремянку: почти такую, как у Буттгерайта, только ниже – не те габариты, не Германия. Поставил ее прямо посередине, под голой лампочкой; плафон (пустяки, но все же рисовый китайский пергамент с рисунком птиц) уехал в запакованном виде на новую квартиру. В гостиной люстру я не тронул. Она меньше бросалась в глаза, ибо ее формы и хрусталь с невероятным упорством подделывали, пуская в ход то стекло, то пластик, в течение последних лет тридцати пяти, и конца этому новоделью не предвиделось. Я только обернул бронзу газетой и остался доволен этой подделкой под подделку: она позволила мне сохранить хотя бы привычный вечерний свет. Я также оставил одну трубку из своей коллекции: трубку-мундштук моего деда, разоренного Гражданской войной и умершего в тюрьме. Эта трубка намекала на его судьбу трехцветным набором черенка и точеной рожицей чорта на месте люльки. Я выставил ее на одну полку с Буттгерайтом, и на фоне броских цветов кинофутляров она тоже не привлекала к себе посторонний взгляд. И только теперь, когда все вещи оказались на местах, я вспомнил о замке.
Это был обычный врезной замок, которым я намеревался укрепить дверь снятой квартиры, бездумно купив его и только потом сообразив, что он-то, пожалуй, и есть самое тонкое место, наименее прочное звено в цепи событий, призванных оградить меня от постороннего вмешательства. Я мог его врезать сам; но я не мог сделать это бесшумно, не привлекая внимания соседей. А их внимание, неизбежные реплики, пусть самые краткие, вообще осознание ими, что в их подъезд вселился новый жилец, – все это было крайне нежелательно для меня. Конечно, было нельзя начинить квартиру антиквариатом и оставить в дверях ржавый щелкунчик из тех, что открываются ногтем и от которого у хозяина, ясно, был второй ключ; но и пускать в ход молоток со стамеской до переезда я не решился. А теперь не знал, как поступить.
Дождь за окном, хотя давно превратился из ливня в мелкую морось, прекращаться не думал, а, вернее всего, намерился идти всю ночь. Ночь, кстати, уже наступила, так что мне оставалось только положиться на случайность, на то, что в первые двое суток никто не поздравит меня инкогнито с новосельем. Все же я счел нужным, надев плащ и сыскав зонтик, дойти до снятой квартиры и хотя бы сделать видимость жилого присутствия в ней. Чуть раздвинув детали кровати на кухне, заглянул в погреб и убедился, что он никуда не ведет. Посидел средь своих ящиков, включив всюду свет. Затем выключил его и посидел в темноте, имитируя сон. Наконец тихо, как мог, выскользнул в дверь и снова нырнул под зонтик и дождь. Вернулся домой я за полночь и с изумлением, еще на лестнице, услыхал звон своего телефона. Невольно ускорив шаг, я, примерно звонке на шестом, добрался до трубки и тут узнал, что мог бы вполне без этого обойтись. Звонила мать Инны. И от того, что она мне сказала, я не сделался ни умнее, ни лучше. Я лишь точно узнал то, о чем и сам догадался раньше, еще в самом начале: в отличие от ее сообщницы Инне грозило принудительное лечение, а не тюрьма. Я, впрочем, был бессилен что-либо сделать – либо на что-нибудь повлиять. Да, кстати, и не считал, что каждый, кому не лень, вправе лезть в чужие могилы. Это я и сообщил старой гневной нанайке. В ответ она бросила трубку, так и не пожелав честно признаться мне, где раздобыла номер моего телефона.
XV
Дождь. Уже полдень, но кажется, едва рассвело. Боль в мышцах утихла, однако душевная вялость не желает никуда деваться. Снова звонок – мальчишеский голос с напускной важностью сообщает:
– С вами будет беседовать следователь Сорокин.
Что ж, очень интересно. Если верить депеше, от которой меня стошнило, он собирался говорить со мной завтра. Почему спешит?
– Степан Васильич? – уже знакомый голос, уже знакомый дружеский тон.
– Сергей Сергеич? – не могу удержаться от пародии, отзеркаливанья. Но все же волнуюсь и тотчас спрашиваю: – Я думал быть у вас завтра. Что-то стряслось?
– Завтра? Ах да… – (Что ж, может быть, и забыл: не один же я у него. А всё же. Я тут волнуюсь…) – Вот чтó: возьмите ручку и исправьте, пожалуйста, в вашей повестке двенадцатое на двадцать второе.
Занятно, занятно. Ну, допустим, исправил. Что ж дальше?
– Исправили? Хорошо. Ничего пока не стряслось, все идет своим чередом. Я только хотел задать вам пару вопросов.
Явно, явно косит под старика Порфирия. Может, у них это профессиональное? Литературный, так сказать, недуг?
– Слушаю вас.
– Скажите, Степан Васильич: где вы учились?
Я невольно вздрогнул. Однако тотчас ответил: номер школы, название вуза, факультет.
– Так-так, гуманитарный, значит. А когда окончили?
Совсем худо. Назвал и год. Неужто все-таки добрались до Городка? И если добрались, чтó могли вызнать?
– Вот, собственно, и всё: этого не было в вашем деле. Итак, жду через недельку. Всего доброго.
Отбой. Даже не дослушал ответ. Мое «до свида…» повисло где-то в эфире, в лабиринте кабелей, муфт, клемм. И тем не менее я ощутил внезапную легкость. «Через недельку», даже больше – это совсем не скоро. Это масса времени. Возможно, того самого времени, что так ценят смертники и которое Достоевский описал уже в следующем своем романе, но все равно. Неделю можно никуда не ходить, ничего не делать. А там – как знать? Там можно и простудиться и уже самому перенести – еще на недельку – дату гадкого этого рандеву. Почему бы не побороться? Да, борьба с миром… Это то, что затеяли французские канальи двести лет назад, заставив нас, немногих, уйти во тьму, затвориться в своих ломбардах, полюбить древность и начать другую борьбу: борьбу с будущим. В котором смерть.
Я вернулся на тахту, где лежал с книгой (какой-то пустой детектив) и попробовал сосредоточиться. Но это теперь не вышло. Что-то во мне окончательно размягчилось, мне было лень читать, понимать слова, вникать даже в очень простой смысл. Мысли путались, бессвязно сменяя друг дружку, и тут внезапно я обнаружил, что думаю о своей рукописи, о попытке создать историю нашего дома. Кажется, и она не будет увенчана успехом. А предпринял я это дело – тяжелое при моей нелюбви к писательству – именно тогда, когда понял, что антикваром мне не быть. В годы студенчества я все еще носился с этой мечтой, воображая возвращение в Москву и какую-то перемену в жизни, которая позволит мне держать свой собственный магазин (разумеется, антикварный). Как-то, познакомившись на одной вечеринке с неким юристом, почему-то внушившим мне доверие, я обиняками поделился с ним своими планами и неожиданно узнал от него, что и без всяких политических перемен (дело было в начале 80-х) частное предпринимательство – тот же магазин, к примеру, – дозволено действующим законодательством и не ведется лишь оттого, что установленный налог почти полностью поглощал бы прибыль. Я не мог поверить своим ушам, записал нужные статьи кодекса, прочел их, убедился, разумеется, что мой мимолетный знакомец был прав, и теперь уже стал размышлять всерьез, как возродить фамильное дело. На прибыль мне было плевать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































