Текст книги "Антиквар. Повести и рассказы"
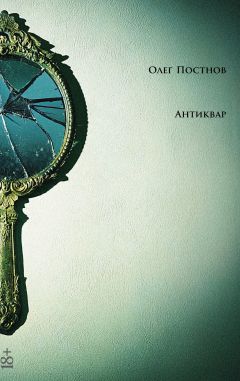
Автор книги: Олег Постнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
То есть, собственно, с прибылью все обстояло так: не поступив в первый раз в столице, я боялся обременить мать своим бездеятельным проживанием. По смерти отца она давала уроки (фортепиано; окончила некогда консерваторию), и мне было стыдно жить на ее гроши. Разумеется, она пыталась меня разуверить, но я твердо стоял на своем. И уехал к брату в сибирскую глушь, глушь, впрочем, очень цивилизованную – в энский научный центр, Академгородок, стоявший на берегу огромного пресного водохранилища. Тут-то впервые мне и пришло на ум заняться нумизматикой. В самой идее был заключен риск: по тем временам за монетный торг могли легко выгнать из университета. Но я был крайне осторожен и не столько торговал сам, сколько смотрел, вникал в ремесло. Я уже говорил, монеты всегда безличны, а потому были всегда безразличны мне. Но к концу курсов я сыскал в них прок и знал, что с таким навыком не пропаду и в Москве. Так потом и случилось на деле. Но еще раньше, еще в Городке, произошло нечто другое, то, из-за чего я не смог завести магазин, не смог вернуть утраченную семьей профессию, не стал антикваром. Ни тогда, ни позже, ни теперь. Никогда. Увы, я не антиквар! И этот мой выбор был подкреплен изрядно вескими причинами: очень здравыми, как вижу теперь.
XVI
Гуманитарный факультет в ту пору представлял собою девичник, «факультет невест». Наш курс считался «сильным», так как был по составу более «мужским», чем прежние и, кажется, следующие (за это не поручусь). Тем не менее, согласно официальной версии, всех нас готовили в школьные учителя: к счастью, эта ложь ни к чему не вела и не сказывалась на уровне преподавания, как, кстати, и на списке проходимых предметов. Ни логика, ни утонченнейшая лингвистика, читавшиеся нам, не были, конечно, нужны вовсе – если исходить из сугубых нужд будущего учителя. Нам же, словно нарочно, дали еще блестящий курс философии, истории литературы, а под конец и психологии. Вероятно, чтобы как-то скрыть явную брешь, вызванную отсутствием педагогических дисциплин, пятый курс мы, почти неожиданно для себя, начали прохождением полуторамесячной педпрактики в одной из четырех школ нашего Городка. Мне и моему напарнику, погруженному в исторические разыскания, связанные с судьбой Степенной книги в эпоху Петра, достался десятый класс: Островский, Гончаров, Тургенев. Не чая получить подножку судьбы, третьего или четвертого сентября 1984 года я явился в престижную – «английскую» – школу (с преподаванием ряда предметов на английском языке, как то: сам язык, технический перевод и, кажется, еще какая-то ерунда вроде уроков внеклассного чтения) и тут поступил под надзор бывалой школьной матроны, не возлагавшей, как видно, особых надежд на наши преподавательские таланты. Думаю, с ходом времени она лишь утвердилась в этом своем мнении. Не берусь спорить: возможно, она была права.
И, однако, помню, я приложил массу усилий к тому, чтобы новые мои подопечные не слишком скучали на уроках. В какой-то момент это даже стало чуть ли не самой важной заботой моей жизни: разумеется, далеко неспроста. Класс, доставшийся мне в опеку, с первого взгляда скорее отталкивал, чем привлекал к себе. Тут были, как на подбор, все персонажи «школьных» романов: прыщавая и шумная галерка, рыжий вундеркинд, похожая на букет Самая Красивая Девочка в классе (к моему изумлению, оказавшаяся не круглой дурой), середнячки-отщепенцы, девчушки-хохотушки, Самая Толстая Девица в школе, очкарик-отличник, главный забияка, увалень-флегматик (и, разумеется, математик) и – в довершение моих бед – две блондинки-близняшки, на третьей парте в ряду у окна. Их одних было бы довольно, чтобы лишить меня хладнокровия. Меж тем вся эта пестрая смесь смотрела на меня как на бесплатную забаву и сохраняла видимость спокойствия лишь под неусыпным оком дородной матроны, не спешившей, впрочем, приходить мне на помощь.
К своему счастью, я верно рассчитал и подготовил первый урок. «Рудин» спас меня. Его полагалось пройти обзором, как предисловие «Отцов и детей», я же посвятил ему все сорок пять минут, из которых две трети, не прерываясь, просто читал вслух спор героя с Пигасовым. Я помнил, что именно этот спор восхитил первых слушателей Тургенева. Что ж до меня, то Господь не лишил меня вовсе декламационных талантов. Мои ребятишки катались от хохота, понимая, верно, с пятого на десятое, но зато прочно усвоив, что классика – не синоним скуки. У матроны, однако ж, был свой взгляд на предмет. Когда я остановился, она срочно перехватила бразды правленья, пресекла невместное ликование и пошла выяснять, в чем же смысл прочитанного. Ох уж этот мне смысл! Я и теперь порой представляю с тоской скудную жизнь таких смыслокопателей, коих судьба к тому же обрекла на прилюдное вылущивание червивых его плодов из запуганных детей и книг. Но, уходя домой, я уже знал (и запомнил тотчас), что близняшек зовут Евгения и Наталья. И что отличить их друг от дружки нельзя – если сами они того не хотят.
Они же явно не хотели. Обе одинаково стриглись. Обе носили одно и то же – раздвоившееся для них – платье. Обе красили ногти одним лаком. Обе закидывали ногу на ногу, выказывая круглое коленко и узенький башмачок. Обе склоняли головы, вскидывали ресницы и поводили плечами так, как никто другой, кроме них. Обе смеялись, как двойной колокольчик. Ручаюсь, изо дня в день они менялись местами за своей партой и уж, конечно, учили уроки так, как им самим вздумается. Спросить с них обеих тот же вопрос не решилась бы, верно, и матрона. Я тем паче не мог. Меж тем трудно поверить, сколько за эту пару недель я выдержал их насмешек, скрытых и явных, их мастерских подмен, их упорного нежелания видеть во мне что-либо, кроме повода для коварства. Мои уроки они не учили обе. Если я спрашивал одну, другая корчила рожицу так, будто мой вопрос был итогом врожденной тупости и ей жаль сестру, чья судьба – буквально обязанность – дать мне это понять. Они изгалялись надо мной, хамили нежнейшими голосами, писали мелом на доске мой портрет (должно быть, похожий), а когда я гнал одну из них стереть безобразие, тряпка, коверкая линии, превращала шарж в жуткую личину, от коей галерка только что не дохла со смеха. Порой мне казалось, что я расплáчусь – или их побью. Прошла еще неделя – «Отцы и дети» неумолимо вбивались в умы моих безответных ребятишек, а я, выдумывая на ходу все что угодно, чтобы их развлечь и при этом хоть как-то спасти свой престиж от гадких двойняшек, уже не скрывал от себя главное и позорное: я был безумно влюблен. В кого? Я не знал сам: в Евгению или Наталью.
Лето меж тем выдалось знойное, яркое и пока что не думало сдавать прав едва ощутимой осени. В зелени берез то там, то сям мелькали желтые прядки, клен на школьном дворе ронял «багряный свой убор» крайне скупо, уж было несколько свежих студеных утренников, но к середине дня Городок вновь и вновь тонул в теплой истоме, сохранявшейся после заката и нéжившей землю чуть не всю ночь. Уроки литературы давались чаще после «серьезных» предметов, как то: физика или химия, как бы «на закуску», перед обедом, и я мог позволить себе не спать по ночам. Мое общежитие было теперь скучно мне, я уходил к брату (чего прежде всегда избегал), а от него шел гулять по сплетенью пустых улиц, выводивших меня всякий раз к оврагам, за которыми был ботсад.
В этом тоже, конечно, крылся свой тайный смысл. Ботсад был возглавляем институтом ботаники и граничил с крохотным поселком, названия которого не вспомню. Не знаю даже, назывался ли он как-нибудь. Но именно в нем, на дальнем от Городка краю, в сказочной, как чудилось мне, избушке как раз и жили те два удивительных существа, которые в моих грезах то сливались в одно, то насмешливо разбегались, как зайчики из пословицы. Однажды, дойдя до спуска в овраг, я увидал на его склоне, с той стороны, Наташу. Или то была Женя? Что-то она собирала, присевши на корточки, затем тоже заметила меня и, привстав, засмеялась, помахав над головой целым гербарием: в руке у ней был пук разноцветных листьев. Это был не подвох, впервые, хоть издали, я видел ее приязнь, привет. Я засмеялся и помахал тоже, потом сбежал по тропке к струившемуся вдоль дна ручью и пошел меж его извилин в гущу кустарника, заросшего сочным подлеском, полного тени, влаги и той буйной зелени, которую нельзя найти больше нигде в России. Здесь мне не случалось прежде бывать, и я с удивлением смотрел на кряжистые, узловатые ветви, на выразительную, хоть немую борьбу отростков, ползших по склону вверх, цеплявшихся за всякий уступ, вившихся средь корней деревьев, едва стоявших на краю оползня, но готовых выстоять, казалось мне, и в ураган, а в случае паденья пустить вверх, снова вверх новые ветви, образовать из них опять деревья, стволы. Дикая, скрытная мощь, почти угроза таилась в них, и было странно видеть покой кругом и голубое безмерное небо сверху. Я вышел под сень гибридных ив, раскинувших листья над ухоженными полянами, тут не было больше следов борьбы за свет, но я все не мог забыть виденное и долгой дорогой, залитой солнцем, весь погрузившись в необычную для меня в ту пору тоску, лишь под вечер воротился домой.
На следующий день страшная весть потрясла школу. Компания ребятишек, для забавы отправясь на лодке к острову, попала в шторм. Лодка перевернулась, и одна девушка погибла: Женя.
XVII
Дождь все идет – уже вторые сутки. Кажется, самый воздух так напитался водой, что никакой зонтик не защитит от влаги. Моя меланхолия, можно подумать, проистекает именно от него, от этого нежданного каприза погоды, но это так лишь на внешний взгляд. На деле корни ее иные, я ощущаю их, хоть не могу определить. Все еще не могу и читать: вместо того просматриваю время от времени фильмы, иногда одни и те же. Чаще других попадается под руку Буттгерайт. Словно в его ужасах спрятан секрет ужаса моей жизни, ничуть, между тем, не ужасной, скорее скучной. Да и что занятного в человеке, который перед лицом угрозы не может преодолеть лень? Даже Шрамм, безумный таксист, зарезавший двух проповедников без всякого повода, пытался закрасить кровь – что, впрочем, стоило ему жизни (упал со стремянки). Буттгерайт представил его вполне сумасшедшим: ему мерещилось, что ему оторвали ногу. А я-то как раз здоров. Тем не менее все еще не сменил и замок: он лежит там, где лежал, но у меня нет сил одеться, пройти под дождем три квартала, а потом в чужом подъезде что-то долбить, резать, винтить… Пожалуй, я бы еще мог пойти к часовщику: он держит маленький обменный пункт видеокассет в двух шагах от моего дома, сразу за поворотом на Онежскую. Там порой мне доводилось сыскать подлинные жемчужины. Или спуститься к прудам – просто так, чтобы размяться. Эти пруды всё приходят мне в голову – вряд ли случайно. Что ж, продолжу вчерашнюю свою запись. Это хоть слабый, но видимый повод не двигаться, никуда не ходить. И куда мне идти? Только вперед, в прошлое. Итак:
Тот, кто слыхал о пресных морях, хотя бы читал о них в «Следопыте» Купера, верно, помнит, что у них есть свой особый нрав, а их внешний мирный вид – лишь уловка. Увы, наше водохранилище в Городке вполне подпадало под это правило. Большое, но мелкое, оно раскачивалось ветром до очень серьезных штормовых баллов в считаные минуты, и навигация по нему была всегда опасной. Я тотчас узнал все подробности происшествия.
Не правда ли, странно? Мы всегда стремимся узнать эти подробности, уточняем время – время смерти, – обстоятельства, обстановку. Между тем все это праздная суета, не способная что-либо изменить. Но даже в самом глубоком горе, захлебываясь от слез, мы все же спрашиваем и слушаем, и снова спрашиваем и хотим знать, узнаём каждый штрих, каждую деталь. Что же нам так надо? Что именно мы на самом деле ищем? Для большинства этот вопрос навек останется безответным. Но я тогда очень скоро узнал что.
Женя захлебнулась не от слёз. Однако ж воды в ее легких нашлось с два наперстка: она, собственно, подавилась ею, и, если б не шторм, не общая паника, ее, верно, можно было бы спасти. Уже через десять минут вся компания добралась до узкой песчаной косы, на добрую милю вдававшейся в море; но на песок они вытянули из волны лишь мертвое тело. И то искусственное дыхание, которому их обучали на физкультуре – или, может быть, во время учебных игр, – было способно вернуть треклятую воду, но только воду: не погасшую от нее жизнь. Была и другая подробность, представлявшаяся мне особенно важной: Женя отправилась на морскую прогулку одна, без сестры. На дне лодки нашлись размокшие разноцветные листья: Бог весть почему их не смыло водой. Но теперь я точно знал, что махала мне ими и смеялась именно Женя. И так же точно – без объяснений и без малейших колебаний – я знал, что люблю и всегда любил только ее. Ее одну.
Мне даже странно было глядеть на Наталью (вот кто распух от слёз). Вместе с классной наставницей мы навестили несчастный дом, уже полный каких-то людей, то ли друзей, то ли родственников, кольцом стоявших возле отца и матери, будто оцепеневших от горя в самом углу кособокого, совсем маленького дивана. Мать никого не видела, только изредка вдруг вскрикивала и, давя рыдания, прижимала ладонь ко рту. По всей избе пахло нашатырем, валерьянкой. Даже моя матрона не нашлась что сказать и в замешательстве, словно ища поддержки, глянула на меня. К всеобщему удивлению, я шагнул вперед, присел на корточки близ бедных родителей и стал говорить. Я плохо помню, чтó сказал им. Но это был единственный раз в моей жизни, когда я прямо заговорил о Боге. Не думаю, что слова мои чего-либо стоили. Но и отец, и мать вскоре уже смотрели на меня во все глаза и, как кажется, всё кивали в такт моим словам, едва ли тоже хорошенько понимая, о чем речь. Потом они обнялись и как-то затихли, я же поспешил вон, услыхав позади себя: «Удивительно! Такой молодой…» – словно это я погиб. Тут-то на пороге я и встретил Наталью. И понял то, что понял. А именно: что все ненавистное мне в этих сестрах (а я, вопреки всему, не мог избавиться от отвращения к их близняшеству) осталось с ней, тогда как прочее и любимое ушло. Ушло к Жене. Я бы хотел видеть Женю. Но кто-то сказал мне, что родители отказались от вскрытия, морга, и теперь ее тело внизу, в подвале. Вернее, в погребе (да, страшное слово, если всмотреться). Я знал этот древний обычай в отношенье погибших – умерших «не своей» смертью – и только кивнул. Похороны послезавтра. Кто-то просил меня быть. Я снова молча кивнул и ушел.
Не помню, плакал ли я дорóгой, но, спустившись в овраг, к ручью, встал на колени и вымыл лицо. Ледяная, вызвавшая ломоту в суставах пальцев вода освежила меня, но вместе с тем я помнил, что это именно та стихия, которой я обязан всем: и тем, что случилось вчера, и тем, что случится сегодня. Я уже знал, чтó случится. Мне теперь хотелось пойти к брату, но у него я пробыл лишь до вечера, сказав, что ночую в общежитии. Три часа спустя, в полночь, мне предстояло сказать кому-то в общежитии, что я ухожу ночевать к брату. Эти три часа прошли необычно: зайдя в свою комнату, я увидал компанию приятелей, отмечавших день рождения моего roommate (не знаю русского эквивалента). Меня встретили смехом и тостами. Я не сразу сообразил, что тут, конечно, ничего не знают о моей школьной трагедии, а даже если и слышали, что кто-то где-то погиб, то вряд ли связывают это как-либо со мной. Однако, сообразив, тотчас понял, что мне это на руку. Правда, пришлось примкнуть к пирушке – и, к своему изумлению, я очень скоро заметил, что веселюсь без труда, уже без всякого притворства. Это открытие, впрочем, внутренне меня насторожило, так что я стал следить за количеством еды и вина и, как мне ни подливали, вряд ли выпил за вечер больше стакана. Тем не менее, сообщив, как и хотел, что иду к брату, и выйдя на улицу, я ощутил опасную легкость в ногах и общее ватное онемение в теле, причиной которому был, как скоро я понял, не винный дух, а страх. Но это вовсе меня не устраивало. Хладнокровие было необходимо для того, что я задумал, и потому я прежде всего сбавил шаг. Ноги меж тем, казалось, сами несли меня, так что когда мне наконец удалось вернуть походке обычный темп, кампус был давно позади, а впереди лежал прямой, совершенно пустой бульвар, и фонари отражались мутными пятнами в сухом и черном его асфальте. Вдали мерцал Дом ученых, «концертное» его крыло с огромным прозрачным фойе во втором этаже. Теперь я следил за тем, чтобы оно не приблизилось слишком быстро, – это значило, что я иду спокойно, не бегу. Но, когда я наконец миновал его и свернул направо, в лес, я понял, что меня трясет. Ночь была теплой, как обычно, стало быть, я не мог продрогнуть. Мне, однако ж, казалось, что я не ощущаю и страха, даже просто волнения. Я пересек сверток с Морского проспекта, главной артерии Городка, снова попал в лес, прошел и его до чреды коттеджей, это уже был последний жилой квартал. Лес за ним сделался сразу гуще, а тьма плотней. Я уже опять не шел, а почти летел, но ничего не мог с собой поделать. И, только услыхав впереди казавшийся очень далеким лай собак, кое-как перевел дух и даже, кажется, приостановился. Да, собаки! Это было единственное, что я упустил из виду. Днем они валялись в песке, грелись на солнце и вовсе не обращали внимания на людей. Но тут, среди ночи, одинокий прохожий, конечно, должен был их к себе привлечь. Делать, однако, было нечего, я решил рискнуть. И тотчас самообладание вернулось ко мне, а с ним вместе и способность соображать. И кое-что я действительно придумал.
Я шел к поселку не тем путем, что утром с матроной. Но и этот путь был мне отлично известен. Поколения школьников, как, впрочем, и студентов, торили его из году в год в своих ночных вылазках в ботсад за цветами. Я сам не раз совершал сей цветочный грех (в сущности, подпадавший под восьмую заповедь) и теперь чувствовал себя уверенно в темноте. Однако за теплотрассой, чрез кою бог весть когда был переброшен ступенчатый мост, мне пришлось забирать правей, чтобы действительно не попасть в ботсад, тропа под ногами сделалась ýже, незнакомые корни сбивали шаг, и теперь я шел медленно поневоле, стараясь из всех сил понять, где именно нахожусь и где поселок. Я не на шутку запыхался, когда наконец деревья отступили и стало видно начало той улицы, что как раз была нужна мне. Их, впрочем, было всего две-три в поселке, кривых, немощеных и не слишком длинных. Однако из-за собак, поднявших дружный лай, мне казалось, что я шел добрую четверть часа вдоль глухих заборов и спящих домов. Но, увидав во тьме дом Жени, я не только сбавил шаг, а попросту замер на месте. И так стоял до тех пор, пока не замерли и собаки: это и был маневр, заранее придуманный мной. И только когда тишина сделалась полной, я шагнул к калитке, перегнулся через нее, ощупью нашел засов и, как мог тихо, сдвинул его с места. Калитка подалась, и, хоть старые петли ее заскрипели, собаки пропустили это мимо ушей. Я шмыгнул внутрь, нарочно оставив ход приоткрытым, миновал совсем крошечный дворик и взошел на крыльцо. Теперь лишь две двери отделяли меня от подвала. И я знал, как с ними быть.
XVIII
Новый день – но не солнечный. Странно: трое суток дождя почти совсем не остудили город. Стоит влажная духота, все серо, недвижно. Недвижен и я – словно прирос к кровати. Почти не ем и лишь изредка развлекаю себя каким-нибудь фильмом. И хотя все они смотрены мною много раз, о том, чтоб идти к часовщику, речи нет. И бог с ним – пусть будет как будет. Продолжаю о Жене: это кажется мне важней всего. Впрочем, почему «кажется»? В убогой моей жизни это так и было, так и есть. Не к чему себе лгать.
Уже тогда, стоя на крыльце, я себе не лгал. Я понимал и тогда, что потом возврата к прошлому не будет, что, если я и не перейду грань – ту грань, за которой есть люди, но Бога нет, – жизнь моя все равно изменится, выберет другой путь. Словно мелкая, но капризная речка, точившая сто тысяч лет свое русло, которая вдруг покидает его и точит новое – быть может, еще сто тысяч лет. Бессмысленно, глупо. Я понимал сам, и все же – все же был согласен на это. А что касается дверей, то я загодя всё присмотрел.
Внешняя запиралась на большой крюк, но вела она в небольшую пристройку, вроде веранды, с узорным переплетом на окнах, похожих на крупный бесцветный витраж; одно из стекол, его составлявших, было разбито. Еще днем я понял, что сквозь эту брешь можно достать до крюка. Так теперь и случилось: он легко откинулся, я медленно вошел и не спеша огляделся. Летний круглый стол, два стула, совсем дряхлое пианино в простенке меж двух дверей, из коих левая, утепленная, вела собственно в дом, в жилую часть. Правая – как я понял вследствие одного кивка головой (странно: не помню, кто именно кивнул) – в погреб. И тогда же я заметил, что засов у нее снаружи. Все было просто. Я тотчас и открыл ее.
Не стану скрывать, я сразу втянул обеими ноздрями воздух. Но, как я и ждал, никакого особого запаха не было: только прохладная сырость плохо проветренного закутка. Можно было догадаться, что тут хранили картофель, да, пожалуй, еще чеснок и лук. Как я вскоре узнал, одна из стен представляла собой стойку полок с соленьями да вареньями – зимней снедью селян. Однако выяснилось это не раньше, чем я убедился, что электричества здесь нет. Я, впрочем, того и ждал, проследив – тоже днем – пути проводки, державшейся поверх стен на керамических изоляторах. И так как я это предусмотрел, а в то же время знал, что тут-то мне свет будет нужен, то и нашел самый простой способ добыть его. Его мне предоставило пианино. Оно было старым не только с виду – деку его некогда украшали подсвечники-близнецы. Из них, точно нарочно, как будто знак беды, остался только один – на месте другого чернели дыры от выломанных шурупов. Но в этом, уцелевшем, был огарок свечи. Я хорошо разглядел его днем и знал, что он довольно велик. Для моих дел его явно хватало. Теперь я выковырнул его из гнезда – стеариновая бородка сползла до его середины – шагнул с ним на верхнюю ступень погребной лестницы, закрыл за собой дверь и только тогда, уже в полной – окончательной – тьме, достал спички и подпалил фитиль. Снова не стану скрывать: сердце мое отчаянно билось, когда я вытянул руку с огнем и посмотрел первый раз вниз.
Мне открылось горькое зрелище. Крутая, подгнившая лестница спускалась на дно маленького, хоть глубокого погребка, но теперь он казался особенно тесным: почти все пространство пола было занято положенными на поленья двумя досками, на которых, вытянувшись, лежала Женя. Не было ни гроба, ни даже простыни поверх нее. Боясь упасть и нашуметь, я кое-как спустился к ней и поставил свечку в ее головах, на верхнюю полку, так, чтобы огонь коптил и жег лишь изгиб стены с следами давней побелки. И снова оглядел ее. Ее успели обрядить: на ней было то самое платье, в котором они с сестрой ходили в школу. Те же чулки и туфельки. Тот же лак на ногтях сложенных поверх груди рук. Та же, приведенная кем-то в порядок стрижка. То же кольцо с сердоликом на пальце. Кажется, тут я заплакал. Она была прекрасна – и она не могла быть моя. Именно это последнее и безумное противоречие наконец толкнуло меня к ней. Я вздрогнул, коснувшись в первый миг ледяной ее плоти, но потом, помню, вовсе перестал замечать холод, хотя должен был сделать многое, чтобы его побороть. Я поднял ей платье, быстро сдернул прочь трусы, надетые как-то криво, так, как не может быть что-либо надето на живой, и, наклонясь, стал греть ладонями, а после локтями сгибы ее ног. Она давно окоченела, и, полагаю, мне ничего бы не удалось, окажись погреб слишком холодным. Но он был скорее сырым, так что в конце концов ее ноги хоть и с трудом, но стали раздвигаться. Ободренный успехом, я решил продолжать. И так грел ее до тех пор, пока она не легла предо мной в доступную, нужную позу: ноги согнуты, колени врозь. Овал ее лона разошелся, как у живой, образовав колечко, и только тогда я разделся сам – я оставил себе лишь рубаху, – лег сверху (уже трепеща, уже замирая от невозможного, сладостного восторга) и наконец ввел ей. Вначале это было трудно, я даже пожалел, что не прихватил с собой мыла или крем (я просто не знал, что они могут пригодиться); но я был так возбужден, что собственной моей влаги хватило с избытком. Тут только я ощутил снова холод, но он был невыразимо свеж, он остужал безумный мой пыл, от которого, в свою очередь, ее лоно будто очнулось, принимая меня, и далее мне осталось лишь представить, что она спит (а не это ли тот вечный образ, в который рядим мы смерть?), я же делаю то, что и принято делать всегда с любимой…
Нет, я не прошу снисхожденья. В таких вещах ложь нестерпима. Я только желаю понять – или дать понять, – чтó это было. Этот погреб, словно фальшивый склеп, с пятнами плесени и селитры в углах и на сырых досках его стен, был уже могилой, пусть первой, пробной ее могилой, но тоже узкой, глубокой, уже отнимавшей у мира все, что было в ней, в Жене, в единственной и не похожей на свой живой повтор. Мне было страшно туда спускаться, крутая лестница скрипела, и я боялся, да, боялся; но видит Бог (ибо у Него все живы, это у нас все мертвы), я боялся лишь быть застигнутым с нею – и на лестнице, и потом, когда мой пыл помутил мне разум, и я не мог понять, слишком ли шумно дышу, двигаюсь, люблю. Я любил ее много раз, раз за разом, все не мог остановиться, хоть голые доски сдирали мне кожу с колен (и ободрали их в кровь), но я не смел прекратить, сдержать себя, позволить смерти забрать то, что уже никогда не повторится, что пришло к нам в мир – и внезапно ушло, верней, готово было уйти, но я и только я застал его на пороге. В этом истинный смысл, в этом значенье того давнего мига, который плохо понятен нам, теперешним, привыкшим не ценить ничего, штампующим деньги, вещи, детей, не умеющим даже заметить уют, тепло, будто они всегда обязаны быть с нами, меж тем как жалкий камелек средневековья был людям дороже наших коллективных печей и каждая вещь, добытая тяжким трудом, была ценима, любима, единственна. Да, я боялся, но не мертвой! Конечно же нет! Клянусь, если бы девочка вдруг шевельнулась, ожила, вдруг распахнула глаза – хоть от того, чтó я делал с нею, если бы, повторю, этот акт, назначенный человекам и всем Божиим тварям для продления жизни, если бы он каким-то чудом вернул жизнь, – я бы вскрикнул разве от счастья и уж тогда не боялся бы никого, ничего. Увы! я не был Тем, Кто один мог сказать «талифá куми́», «встань, ходи», и мертвые поднимались. Нет, мой жалкий спазм, хоть и нес мне блаженство – невиданное, небывалое, слишком долго я сдерживал себя, вот именно, слишком долго, – был бессилен вернуть дыхание той, для которой я не пожалел бы и своей души. Тут я был бессилен.
С трудом, дрожа всем телом, выбрался я наверх, кое-как приведя мертвую в прежний вид и одевшись сам, но забыл свечу, забыл запереть дверь – и подвальную, и входную, – ноги теперь не держали меня, я споткнулся на крыльце и повалился куда-то в траву, под забор, вероятно, наделав шуму. Правда, никто не вышел, но ближние собаки снова подняли лай и долго не замолкали, меж тем как я лежал в траве, словно пьяный, и был действительно пьян невыразимым счастьем, пониманьем своей удачи, своей правоты пред лицом жизни и правдой смерти, огромная звездная царская ночь плыла надо мной, и грела меня, и вливала силы – в меня, увы, в одного меня. И я снова рыдал, уже не боясь быть пойманным, рыдал в голос оттого, что Женя осталась в погребе, что теперь-то она уйдет, уйдет навсегда, без надежды на встречу там, где уж не будет ни мужчин, ни женщин, ни юных девочек, ни глупых студентов, ни этой ночи, ни жаркого дня в осеннем овраге, а только разве Божественный свет да тихое, как вздох, паренье ангелов. И почему тогда, вопрошал я, почему яблоко, этот эдемский плод, плод запретный, не спорю, почему его дóлжно рвать лишь с дерев? А поднятый, он уже плох, мертв, ибо подточен червем? И почему он вечно мучит нас всегда постыдными ролями? Стыдными… Боже мой! Разве тут стыд? Стыд – это слабое, глупое имя того разлома мира, попав в который душа, если не вовсе мертва, рвется надвое, пополам от боли, восторга, от невозможности продлить миг… Наконец я поднялся и побрел прочь. И, лишь дойдя до дома, вдруг что-то вспомнил, и остановился, и чуть не закричал, вдруг поняв горькую, почти ожегшую меня истину, с которой после пытался смириться, лежа в одиночестве, не одну ночь и которая тогда чуть было не скользнула вон, как русалка, как серая рыбка у прибрежных камней: я не изнасиловал мертвую девушку. Она уже была женщиной – до меня.
Заночевал я у брата.
XIX
Когда я пришел, он спал, а когда утром он собрался на службу, спал я. Это меня вполне устраивало. Мне, однако, было уготовано не совсем обычное пробуждение. Был полдень, когда настойчивый звонок в дверь прервал мой, как мне казалось, важный и интересный сон. Пытаясь задержать его в себе, поймать тающий смысл, я вскочил из-под простыни, шагнул в прихожую, очень узкую, и открыл дверь. На пороге стояла Женя. Меня так и качнуло к ней (не от нее!!), но тут-то я наконец пришел в себя и разглядел с немедленно сжавшей душу тоской, что то была всего лишь Наталья. Впрочем, кое-что в ее взгляде и, пожалуй, в одежде могло насторожить тотчас. Уж очень верно, до мелочей, до сердоликового колечка на безымянном пальчике, повторила она похоронный наряд сестры. Я это сообразил, пожалуй, прежде, чем то, что стою перед нею голый, и именно потому просто отступил вглубь, давая ей дорогу, невольно мотнул все еще полной грез головой и сказал:
– Проходи.
Она вошла, я захлопнул дверь, тут только поняв наконец, что на мне ничего нет. Но под странным ее взглядом я как-то вовсе этого не устыдился и лишь взял со стула трусы, натянул их, потом надел рубашку и домашние брюки, сунул ноги в тапочки и буднично заявил:
– Сейчас поставлю чай. Позавтракаешь со мной?
Мгновенье она молчала, глядя на меня. Потом тихо произнесла:
– Вы были у нас ночью.
Потому ли, что это была правда, или оттого, что взгляд ее непонятным образом лишил меня всякого страха, я просто спросил:
– Откуда ты знаешь?
К моему изумлению, она покраснела, а вслед за тем на глаза ей навернулись слезы.
– Я не спала, – сказала она, – не могла уснуть. И видела вас. Как вы пришли.
– А дальше? – Мой голос даже не дрогнул, ручаюсь. Я, верно, не был еще тогда трус, как теперь.
– Я… я всё видела, – проговорила она с запинкой, еще тише, выделив тоном лишь слово «всё». И опустила голову. Вернее было бы сказать – уронила голову, когда б мы сидели за столом, а не стояли у моего дивана против друг дружки. Я, помнится, даже задумался на миг над этим ее «вы» и над тем, до какой степени она все еще видит во мне школьного учителя, пусть только практиканта, прежде глупого и смешного (только было ли это и впрямь?), но теперь совершившего антипедагогический акт. Сейчас мне не кажется это забавным, но тогда я почти готов был усмехнуться. Однако вовремя понял, что все еще не восстановил со сна свой порядок чувств и что, собственно, тут нет места смеху.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































