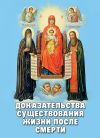Текст книги "Православие и творчество (сборник)"

Автор книги: Олеся Николаева
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Создание «новой реальности»
Существует распространенное суждение, что Церковь и творчество находятся в непримиримом противоречии по той причине, что церковная жизнь догматична и канонична, то есть якобы несвободна и регламентирована, в то время как творчество невозможно без свободы художника от каких-либо формальных обязательств: культура живет постоянным поновлением своих канонов, борьбой с автоматизмом, творческим отталкиванием от готовых форм, художественным переиначиванием традиции.
Действительно, культурное делание состоит в том числе и в борьбе с опошленными омертвелыми формами, со штампами и клише, со словами, слишком часто произносившимися всуе и утратившими первоначальный смысл. Ибо культура имеет непосредственное отношение к изменчивой человеческой ментальности, к определенному типу самосознания общества в ту или иную эпоху. Однако культурное делание не есть вседозволенность – здесь действует (как художественное чутье, как вкус, как чувство стиля) убеждение, весьма сходное с тем, которое было высказано апостолом Павлом: Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною (1 Кор. 6:12). Только человек, смотрящий на культуру извне и не имеющий опыта культурного делания, может полагать, что у художника, обладающего внутренней свободой, не должно быть никаких табу. Напротив, чем одареннее художник, тем больше у него внутренних запретов, тем уже путь, по которому направлена его творческая энергия.
Однако противоречие или антагонизм между Церковью и культурой более надуманные, чем реальные. Церковные догматы и каноны, так же как общий консерватизм церковной жизни вовсе не есть аналог какого-нибудь Art poetique или «Манифеста немецких романтиков». Это не есть нечто, навязанное Церкви извне: это тот позвоночник, без которого она выродится в мирское «собрание верующих», в клуб религиозных интересов.
Ложным является и утверждение, будто догматы сковывают человеческий дух; напротив, дух человека призван дорасти до высоты догмата, прозреть его красоту, и нет предела этому росту. Догмат незыблем и – всегда современен. Догмат метафизичен и – всегда актуален, в то время как методики по искусству и манифесты появляются как раз для того, чтобы их преодолевать, и как раз тогда, когда начинают иссякать источники творчества: как правило, точно по «методикам» творят эпигоны. При этом «методики» меняются, а эпигоны остаются. Но художественный канон есть нечто иное: он не рождается головным дедуктивным способом, но являет себя в художественном произведении как совершенная форма и сам участвует в формировании традиции.
Священник Павел Флоренский писал, что канон никогда не был помехой художественному творчеству, что трудные канонические формы всегда были тем «оселком», на котором «ломались ничтожества» и «заострялись великие дарования». «Поднимая на высоту, достигнутую человечеством, каноническая форма высвобождает творческую энергию художника к новым достижениям, к творческим взлетам… требования канонической формы есть освобождение, а не стеснение»69.
Творческим заданием художника остается постижение смысла и глубины канона (традиции): в этом его связь с историей человечества и потому – с истиной и реальностью. Художник, который полагает, что канон может ущемить его творческую оригинальность, и потому, прежде чем усвоить его, пытается его сокрушить, на самом деле попадает в полную зависимость от своей разрушительной задачи и начинает паразитировать на обломках чужих форм, подменяя творчество деструктивным дискурсом.
И все же художественные каноны, в отличие от церковных, остающихся непреложными и неизменными, имеют историю своего чередования: так, классицистический канон сменяется реалистическим или романтическим, рождающийся из их недр модернизм с течением времени сам ложится в традицию и становится классикой, как это произошло с творчеством Александра Блока и Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и Андрея Платонова.
Суть в том, что Церковь и культура относятся к разным планам человеческого бытия: Церковь хоть и пребывает в мире, но миру не принадлежит, культура же принадлежит миру и истории, вместе с которыми она и погибнет: земля и все дела на ней сгорят (2 Петр. 3:10) Хотя, как сказано, пшеницу уберут в житницу.
И тем не менее и в Церкви, и в христианской культуре совершается сходный процесс богоподобного человеческого творчества, цель которого – создание «новой реальности», и прежде всего – в глубинах души человеческой; чаяние нового неба и новой земли (ср.: Откр. 21:1), Царства Божия, преображение себя и мира.
Творчество как подвиг веры
Пушкин писал: «Цель поэзии – поэзия… Цель художества есть идеал, а не нравоучение». Идеал – это то, чего нет на свете, но что существует в идеальной реальности, онтологический образец, соответствовать которому может лишь преображенная реальность. Поэтому в творчестве особенно актуальной оказывается проблема веры. Вера же всегда находится в противоречии с данностями этого мира, с его очевидностью, – наконец, с человеческим ratio, опирающимся на эти очевидности и держащимся за них до последнего. Мирское «ведение» – доводы опыта, привыкшего ориентироваться среди причинно-следственных связей падшего мира и апеллировать к их логике, – сопротивляется устремлениям веры и пытается ее рационалистически разложить.
В творчестве такого рода помехой может стать чрезмерная рефлексия, убивающая непосредственный порыв к идеалу, то есть Красоте и Истине, а также и сам профессиональный навык, навязывающий свои приемы и опережающий своим знанием о том, как именно это должно быть сделано, творческую возможность того блаженного неведения и «хождения по водам», которые доступны лишь вере.
В самом человеческом бытии существенным препятствием к благодатной жизни «по вере» служит ведение принудительных законов природы, мира, человеческих отношений, социальных «раскладов» и т. д., которыми человек опутан, как паутиной. «Человек, сомневающийся, что Бог – помощник в добром делании, боится тени своей, и во времена достатка и обилия томится голодом, и при окружающей его тишине исполняется бури», – пишет преподобный Исаак Сирин70.
Размышляя о творчестве, нельзя не прийти к мысли, что оно родственно вере, которая, по слову апостола Павла, есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11:1). Творчество, по своей мистической сути, занято тем же самым и имеет дело с разысканием в идеальной реальности тех вещей, которые оно призвано воплотить. Здесь оно и встречается с эмпирическим, то есть не духовным, ведением как со своим противником. Ибо творчество освобождает мысль от пут детерминированного мира, за который так держится это ведение, будучи пределом естества, который и должен быть преодолен в творческом подвиге. Преподобный Исаак Сирин пишет: «Ведение противно вере. Вера во всем (во всех своих действиях), что к ней относится, есть нарушение законов ведения, впрочем – ведения не духовного»71. «Ведение есть предел естества и охраняет его во всех стезях его. А вера совершает шествие свое выше естества. <…> В какой мере человек водится способами ведения, в такой же мере связуется он страхом… <…> А кто последует вере, тот вскоре делается свободен и самовластен, и как сын Божий всем пользуется со властию свободно. Возлюбивший веру сию, как Бог, распоряжается всяким тварным естеством, потому что вере дана возможность созидать новую тварь, по подобию Божию, как сказано: восхоте, и все явится пред Тобою (см.: Иов. 23: 13)[1]1
В синодальном переводе: делает, чего хочет душа Его. -
Ред.
[Закрыть]. Нередко она может все производить и из не-сущего. <…> У ведения нет столько бесстыдства (дерзновения. – О.Н.), чтобы производить то, чего не дано естеством. <…> Текучее естество воды на хребет свой не приемлет следов тела, и приближающийся к огню сожигает себя, а если у него достанет на то дерзости, то последует беда». «Сии способы ведения пять тысяч лет… управляли миром, и человек нисколько не мог подъять главы своей от земли, и сознать силу Творца своего, пока не воссияла вера наша и не освободила нас от тьмы земного делания и суетного подчинения после тщетного парения ума. <…> Нет ведения, которое бы не было в скудости, как бы много ни обогатилось оно». «Неукоризненно ведение, но выше его вера. <…> Но мы укоряем то, что оно употребляет разные способы, в которых идет оно вопреки вере, и то, что приближается оно к чинам демонским». «В сем-то ведении насаждено древо познания доброго и лукавого, искореняющее любовь. <…> В нем надмение и гордыня, потому что всякое доброе дело присвояет себе, а не Богу приписывает.
Вера же дела свои вменяет благодати, потому и не может превозноситься…»72
Благодать и вдохновение
Вдохновение, по словам святителя Григория Па-ламы, есть одна из энергий Духа, отблеск того не-тварного Света Христова, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1:9).
Вдохновение есть и некий художественный телеологический импульс, побуждающий художника к творчеству.
Впрочем, необходимо сделать чрезвычайно важную оговорку: мы берем здесь тот случай, когда человек (творец, художник) испытывает на себе именно благодатные воздействия и, изумленный «избытком» сердца, принимается за свой труд. В данный момент речь идет не о некоем состоянии прелести, не о «взыгрании» демонической энергии, не о душевной истерической самостимуляции, не о чем-либо ином, что порой – и очень часто – может выдавать себя за творческое вдохновение. Для того чтобы различать эти состояния, требуется духовный дар различения духов, хотя плоды того или иного «вдохновения» порой достаточно красноречивы.
Вот как описывает вдохновение Анна Ахматова:
Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Донту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я»73.
Вдохновение (муза) приходит в тишине и покое (ночью), когда мир житейский и суетный, мир земного вёдения уснул, погас, страсти улеглись, душа не блуждает по его пространствам, но пребывает наедине с собой, в себе, сосредоточенно и смиренно, с верой и упованием (жду). Плоть истончилась и умолкла: это состояние как бы на грани жизни и небытия. (Ср. у Пушкина: «Как труп в пустыне я лежал…» и у преподобного Исаака Сирина: «…человек, пока заключен под завесою дверей плоти, не имеет упования»74.)
Ничто земное не может идти в сравнение с посещением благодати (вдохновения). Что почести с их неволей, суетой и ангажементом, когда творчество бескорыстно и устремлено к Царству Божию? Что юность с пирушками плоти, с ее ненасытным инстинктом блудного сына, когда творчество чает пребывать в доме отца? Что земная свобода, когда творчество чает быть последним поденщиком у вдохновенья?
Наконец И вот вошла. Упование не было тщетным. Откинув покрывало (обнажив черты, открывшись), внимательно взглянула на меня (произошла встреча воли человеческой с тем, что ей послано: синергия). Дальше – самое интересное. Поэт испытывает пришедшую: не лукавая ли самозванка, не ряженая ли авантюристка – та ли, которую здесь ожидали? Ты ль Данту диктовала?.. (Ибо если она, то – та самая, подлинная. Которую можно слушать и слушаться… Хотя ничего себе милая гостья да еще и с дудочкой в руке)
Здесь примечательно то, что светский поэт и православная христианка Анна Ахматова на языке
Серебряного века сумела нарисовать чрезвычайно глубокую и подлинную картину человеческого творчества. Главный акцент стихотворения стоит на последнем слове – Отвечает: «Я». Вокруг этого «Я» оно и центруется. «Я» музы – это не эгоистическое (лучше сказать – натуральное) «я» Ахматовой и, естественно, не «я» Данте, написавшего страницы Ада. Это некая творческая энергия, реализующая идеальное «я» самой поэтессы, которое, возможно, так и осталось бы потерянной драхмой, не будь оно взыскано зовом творчества. Таким образом, смиренное ожидание вдохновения (помощи Божией) оборачивается для художника преображением бытия и обретением собственного идеального «я», причастного Высшей реальности.
Эта творческая энергия, перед которой художник чувствует себя смиренным послушником, порой перерастает саму его эмпирическую личность и становится для него источником познания не только мира, но и себя самого. У Марины Цветаевой была мысль о том, что бытие само «ищет уста», через которые оно готово «сказать себя миру».
Логос творчества
Эти моменты творческого перерастания художником самого себя как эмпирического человека были известны Пушкину. Уж кто-кто, а Пушкин знал про поэта, что, пока его не востребует вдохновенье, «средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Его известное восклицание «Ай да Пушкин, айда сукин сын!» после написания «Бориса Годунова» вряд ли может быть интерпретировано так, как это сделал один священник, автор книги о творчестве, увидевший в этом выражение гордыни поэта. Напротив, эта «юродивая» фраза может свидетельствовать о том неподдельном удивлении художника перед тем, что у него получилось и что превысило его собственные поэтические намерения и возможности.
Это же изумление звучит и в его словах к П. Вяземскому («Ты не представляешь, что “удрала” моя Татьяна (Ларина. – О.Н.), – она вышла замуж»). Впрочем, наивно было бы полагать, будто герои начинают анархично действовать, вовсе не принимая во внимание автора, – напротив, все их поведение подчиняется телеологической логике художественного произведения, а именно той форме, которая, по словам К. Леонтьева, не дает материи разбегаться и заложником которой оказывается и сам автор.
Однако форма для автора не есть данность, а есть нечто заданное – то, что должно быть актуализировано, и в то же время то, что, еще и не будучи реализованным, предъявляет автору свои жесткие требования. Здесь мы сталкиваемся с теми странными взаимоотношениями между художником и его произведением, между творцом и творением, которые никак не могли бы быть столь непредсказуемыми, имея в виду строгий и стройный замысел, если бы в самом процессе творчества не была бы задействована, помимо личности творца, еще некая иррациональная сила, свободная и могучая, дающая такую жизнь и свободу и произведению, и его персонажам, что они без воли автора могут совершать самые неожиданные вещи, даже «выходить замуж». Это и есть самый загадочный момент творчества.
«Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку… – сказал Бродский в своей нобелевской речи, – Зависимость эта – абсолютная, деспотическая, но она же и раскрепощает… Поэт, повторяю, есть средство существования языка… Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал… Порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, – и дальше, может быть, чем он сам бы желал»75.
Борис Пастернак так писал об этом в письме молодому поэту Марку Ватагину: «Даже в случае совершенно бессмертных… текстов, как, напр., пушкинские, всего важнее отбор, окончательно утвердивший эту данную строчку или страницу из сотен иных, возможных. Этот отбор производит не вкус, не гений автора, а тайная побочная, никогда вначале не известная, всегда с опозданием распознаваемая сила, видимостью безусловности сковывающая произвол автора (выделено нами. – О. Н.), без чего он запутался бы в безмерной свободе своих возможностей… Но во всех случаях именно этой стороной своего существования, обусловившей тексты, но не в них заключенной, разделяет автор жизнь поколения, участвует в семейной хронике века, а это самое важное его место в истории, этим именно велик он и его творчество… Вера в то, что в мире существуют стихи, что к писанию их приводят способности и проч., и проч. – знахарство и алхимия»76.
Пастернак настаивает на существовании ощутимого логоса творчества, некоего «онтологического синтаксиса», который имеет непосредственное отношение к бытию идеального «я» поэта и правила которого накладывают на поэта строжайшие, если не рабские, обязательства:
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И здесь кончается искусство,
И дышит почва и судьба77
О существовании этой «таинственной диктующей силы» проговаривались многие художники и музыканты.
Гайдн, например, приписывал ниспосланному свыше таинственному дару создание своей знаменитой оратории «Сотворение мира». «Когда работа моя плохо продвигалась вперед, я, с четками в руках, удалялся в молельню, прочитывал “Богородицу” – и вдохновение снова возвращалось ко мне».
Данте писал: «Вдохновляемый любовью, я говорю то, что она мне подсказывает». Моцарт свидетельствовал, что музыкальные идеи являются у него невольно, подобно сновиденьям. Гофман признавался друзьям: «Я работаю, сидя за фортепьяно с закрытыми глазами, и воспроизвожу то, что подсказывает мне кто-то со стороны». Ламартин говорил: «Не я сам думаю, а мои мысли думают за меня». Тассо удивлялся тому обстоятельству, что, когда его покидало вдохновение, он сам путался в своих сочинениях, не узнавал их и был не в состоянии оценить их достоинства78.
Порой «подсказка» может быть вовсе не столь ошеломительной, – напротив, она может поражать своей мизерностью и как бы случайностью: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда» (Анна Ахматова). Ею может стать равномерное качание люстры или упавшее яблоко, подсказавшие Галилею и Ньютону их великие открытия. Ею может быть сон, в котором Д. Менделееву приснилась его знаменитая периодическая таблица. Или апельсин, при виде которого Моцарт вспомнил народную неаполитанскую песенку и тотчас написал кантату к опере «Дон Жуан» и т. д. Впрочем, подобного рода «подсказки» кроются и в складывающихся определенным образом обстоятельствах жизни, ее как бы случайностях, как бы совпадениях, помогающих человеку прочитать в них волю Божию.
Эта же «таинственная диктующая» творческая сила действует и в романах Ф. М. Достоевского, который подчас с большим интересом наблюдает за своими героями: достаточно сопоставить его наброски к романам с уже готовым текстом, практически проигнорировавшим все первоначальные авторские расчеты. Да и любой большой писатель, художник или музыкант, у которых произведения рождаются не столько в голове, сколько «на кончике пера», то есть экзистенциально, по мере работы, сами проходят в творческом процессе реальный путь познания. Поэтому творчество является и одним из способов познания. Тютчевское «мысль изреченная есть ложь» относится к форме выражения некоей готовой, рожденной в голове идее. Это тоска по утраченному райскому языку, который совпадал с самой сущностью вещей. Но мысль, которая рождается экзистенциально, в живом словесном процессе, поначалу со всех сторон подбирающемся к ней и подстерегающем ее появление, до тех пор пока она сама не выскажет себя, вряд ли может прийти в противоречие со своей «изреченностью».
Проблемы автоцензуры
Иное дело, когда замысел художника, его идея, рационализируясь (это может быть и по воле профессионального навыка, «парадигмы», то есть знания и умения: «набитой руки»), начинает господствовать над вдохновением и подстраивать под себя рождающуюся реальность. Интересно, что и ум исихаста на пути очищения осознает абсолютизацию какой-либо духовной практики («парадигмы») как род пленения, как препятствие к своей свободе и чистоте, и потому «стремится по мере осознания парадигмы «убезмолвиться» от нее, освободиться от рабской работы ее исполнения»79.
Рационализм убивает живой творческий дух, который подчас ищет иррациональных и неожиданных для самого творца путей своего воплощения. «Вместо мудрости – опытность: пресное, неутоляющее питье»80. Это «пресное неутоляющее питье» житейского ведения, руководствуясь которым творец пытается осуществить свой замысел, есть настоящая «мертвая вода» любого художества.
Однако рационализм грозит не только тем, кто набил профессиональную руку, – в дилетантском и неуклюжем творчестве он является общим местом. Почему так много истинно благочестивых, но абсолютно мертвых произведений (стихов по преимуществу) на евангельские темы, написанных самыми благонамеренными мирянами и даже священниками или монахами? Их отличает какой-то специфический почерк рационализма, опознаваемого в подобного рода религиозных текстах как налет протестантизма.
И действительно: протестантское словесное религиозное творчество (прежде всего – гимны, псальмы) стилистически ничем не отличается от «любительского» православного: та же намеренная добропорядочность «нейтральной», а по сути нивелированной, лексики, чередующейся, впрочем, с какой-то помпезной велеречивостью; те же «бесстрастные», а по сути теплохладные, интонации; та же «незатейливость», а по сути бедность, ущербность, образов; та же сентиментальная «красивость» при общей прозаичности и приземленности картины. При этом очевидно, что мы имеем дело с самыми благими авторскими намерениями и самыми искренними чувствами. Но те благие намерения, которые руководят стихотворцами, сами словно осуществляют в себе какую-то суровую цензурную правку, и на этот раз цензором оказывается авторское морализаторское «я», изгоняющее все, что кажется ему на вольных творческих путях недостаточно благонадежным и не вполне благонамеренным.
Цензура же состоит в том, чтобы все: и слова, и звуки, и интонации, и сами мысли – привести в соответствие со стандартами общепринятого и «приличного» письма и с логикой житейского ведения. Такая «благонамеренная» цензура опирается на доминанты рассудка, который всегда пытается рационализировать «безумные» слова веры. И такого рода земное морализированное слово, с какой бы искренней правдивостью оно ни было произнесено, всегда оказывается чужим и ложным.
Есть и еще одна причина, по которой художественное произведение, написанное с благочестивыми целями, может не состояться. Всегда есть риск, что величайшие христианские идеи и картины могут стать «заменителями опыта и творческой интуиции… Здесь есть серьезный риск для произведения…
С одной стороны, поскольку религиозные чувства – это чувства прекрасные и благородные, возможно искушение удовлетвориться выражением одних этих эмоций… С другой стороны, общность веры ставит художника в непосредственное общение с его компаньонами по вероисповеданию, и он может быть теперь искушаем соблазном заменить этим общением, которое дается ему задаром… уникальное выражение поэтической интуиции, обеспечиваемое… искусством»81.
Во всяком случае, именно в этой области надо искать объяснения причин, по которым Н. Гоголю не удалась «положительная» вторая часть «Мертвых душ»: благие помыслы, принявшие очертания рационалистического умысла, погубили живую художественную ткань, разрушили чудо творчества.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.