Текст книги "Скворцы"
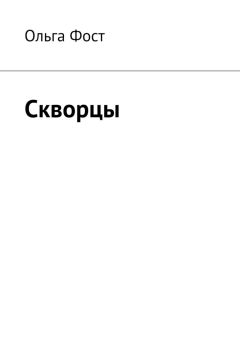
Автор книги: Ольга Фост
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Вторая часть
Истосковавшись за чересчур долгую зиму по работе, солнце самозабвенно шпарило лучами по разомлевшей земле, отчего она, ещё недавно измождённая, похорошела, улыбалась хмельно и нежно крохотными первоцветами – это солнце отражалось в её глазах, блаженно устремивших рассеянный взгляд в очарованное апрелем пространство.
Ох, заразная же эта штука – любовная истома, ох, заразная! Сизый с крапинками цвета сухой глины на крыльях голубь в неясном волнении огляделся, увидел милую самочку – с достоинством расхаживала она по обильно рассыпанной вокруг автобусной остановки лузге.
– Мадам, – крапчатый голубь гордо расправил перышки на воротнике, втянул живот и выкатил грудь, – мадам, не окажете ли вы мне честь… Она вполуха слушала его курлы-курлы – и деловито выклёвывала остатки семечек из шелухи. А он, словно тореадор плащом песок арены, уже подметал развернувшимся веером хвоста пыльный и захарканный асфальт:
– Вы покорили моё сердце с первого взгляда! До встречи с вами я был одинок и обездолен, – продолжал голубь вешать мужской набор номер два на уши избраннице. Она терпеливо делала вид, что верит ему. И уже прикидывала в уме, на чердаке какого из окрестных домов можно спокойнее высидеть кладку. Но тут на площадку перед остановкой опустился жгуче-антрацитовый красавец с благородным зеленым металликом горлового оперения – и пролетарского вида сизарь с бежевыми пятнышками на крыльях тут же оказался в прежней неприкаянности.
Чтобы не потерять лицо, он ещё несколько раз покрутился вокруг себя, делая вид, что на самом деле обхаживал вовсе даже и не ту, которая сейчас перелетела поближе к тому зеленому металлическому петуху. Но ни одна из окрест оказавшихся дам не дала себя обмануть таким нехитрым приёмом, годным разве для голубок, чья весна только-только начиналась.
Незадачливый ухажер отчаиваться не стал. В поисках пищи и любви (что нередко одно и то же) летают даже птицы. И голубь с важным видом захлопал крыльями, набирая высоту.
Кирка окутал себя дымом, паровозище, и будто бы высматривал автобус, но на самом деле косился на Олесину усмешечку – девушка стояла поодаль, иронично наблюдая за нехитрыми голубиными радостями, но более всего – за собственными, слишком человеческими, мыслями в связи со всем этим.
Сашка и Алька, как обычно, пребывали в своём мире, стараясь, по возможности, не очень мозолить сим неопровержимым фактом глаза окружающих – встали в сторонке и тихонечко себе там касались друг друга носами и обветренными губами.
Нинель чинно держала Брауна под ручку, а он ладонью свободной руки прикрыл её пальцы и ласково поглаживал их время от времени. Нинуля-рыжуля жмурилась на солнце, безуспешно пряча ресницами счастливый блеск глаз. «Надо ж, прям аж кожа лоснится – а гладкая!», – завистливо вздохнула продавщица с раскинувшегося у остановки вещевого рыночка. Да какой там рыночек – стихийный базар! Натянули меж нескольких разлапистых ясеней верёвки, чтоб товар, значит, на них развешивать – но культурно, на вешалках. Лицом, как говорится, к покупателю. Торговали этим тряпьём тётки, похожие на ватных баб, которых на чайник обычно сажают, чтобы тепло сохранить – столько кофт и платков наворачивали они вокруг животов под демисезонными пальтишками. В особо холодные дни водочкой грелись – куда уж без этого?
В последние полгода Нинель покупала одежку именно у этой продавщицы, муж которой челноком мотался в Польшу и обратно, привозя порой весьма недурные шмотки. Нинель иной раз даже что-то конкретное заказывала – а уж на деньги не скупилась: любила хорошо выглядеть. А за это всегда платить надо. Впрочем, как и за всё остальное в жизни.
Вот и кофточку, в которую вырядилась сегодня, Нинель приобрела здесь. Кофта шла ей бесподобно, потому даже десять тысяч деревянных за неё показались как-то прям по-божески. Впрочем, при пересчёте на баксы – нормально получается, хорошие они – эта тётка и её муж. Не особо обдирают.
Терпеливо поджидал редко ходившего автобуса ко всему привычный столичный люд. А пока суть да дело, с любопытством поглядывал на эту странную шестёрку. Которая вроде бы и не кучковалась, но отчего-то становилось понятно, что все они – вместе.
Посмотреть было на что. Одна парочка расфранченных в пух и прах чего стоила. Она – в лакированных узких «лодочках» – чёрных, и колготы такие же. Юбочка в тон едва колени прикрывает. А кофта-то, кофта! Под леопарда, никак – а на бёдрах узкая какая! Ох, вот совсем нынче девки стыд потеряли! (Кофточка стоила Нинели двух бессонных ночей – но не тех: она отчёт за свою начальницу делала – да только, кому такие подробности интересны?) Ух, какой парень при этой рыжей – загляденье! Стройненький, рубашка белая из-под серого полувэра и брюки со стрелкой. Вечно всяким таким мужики, как на грех, хорошие достаются.
Парочку целующихся разглядеть возможности не представлялось – по спине о человеке, конечно, можно судить, но скучно. Девица в чёрных джинсах в облипку, в чёрной же ветровке и с отчаянно подведёнными до висков фиолетовыми глазами явно только что вывалилась из преисподней. Не очень-то отставал от неё и парень в кожаной, до рыжины вытертой куртке и продранных на коленях джинсах – сумрачный, бледный, небритый, и синячищи под глазами чуть не во всю скулу. И куда только мать смотрит? Неужто заплатки трудно поставить?
И вообще, что за молодёжь нынче! Дикая какая-то. Ходят не пойми в чём, говорят непонятно как – и знать ничего не хотят. Толком не учатся – институты пачками бросают – телевизор не смотрят, за политической жизнью страны не следят… что из них вырастет, кому страну оставим?
– Что, ребят, на Васильевский, что ли, едете? На митинг? – весело спросил их человек, фигурой и лицом похожий на Олега Даля, если бы тому ещё нацепить огромные «совиные» очки в толстой коричневой оправе и организовать роскошные пегие усы.
Стоявший по соседству человек в распахнутой курточке из засаленной варёной джинсы оглянулся на говорившего, потом зыркнул из-под нависших век на ребят и вызывающе сплюнул в сторонку.
Две старушки, о чём-то мирно судачившие до сих пор, уже совсем неодобрительно покосились на группу молодых людей и на всякий случай покрепче прижали к животам тощие авоськи.
Сашка не стал ради ответа прерывать самое сладостное действо на свете, ну а Кирка Васильев… разве мог будущий журналист промолчать?
Вся фигура Кота, ещё мгновение назад вальяжно курившего в дембельском стиле, подобралась, жикнула «молния», – и расхристанная порыжелая куртка теперь вполне сошла бы за мундир – тем более, что на левом рукаве красовалась вышитая Лисой эмблема бойцовых котов. Ну, а как господин Васильев умудрился кроссовками щёлкнуть, словно первостатейный белогвардеец, остаётся загадкой до сих пор.
– Да-да-нет-да, товарищ гвардии фельдмаршал, так точно! Защищать демократию под стены Кремля, всей кодлой, наших рокеров послушать!
Hинель и Лиса схватились за животы и тихо угорели в сторонке. Браун отвернулся, но плечи его заметно потряхивало. Шура-квадрат оторвался от увлекательного своего занятия и в обе глотки заливисто ржал. Человек в очках – тоже. Дядечка в «варёнке» не утерпел – усмехнулся. Даже у хмурых старушек разошлись от переносиц брови – ничего так малой, борзый! А смешинки всё прыгали себе и прыгали каучуковыми мячиками по асфальту, и разлетались с их пути всполошённые голуби.
***
Павильон метро встретил привычными, с привкусом креозота, сквозняками – тёплыми, чуть душными, – и слабым пока подвыванием отбывавших от станции составов. Тётенька-контролёр равнодушно махнула взглядом по проездным билетам Лисы и Нинели. Девчонки прошли за турникеты и дожидались ребят, которым пришлось маяться в очереди за зелёными леденцами жетончиков.
Каждый шедший мимо попадал под внимательный взор Нинели, а Лиса, тогда ещё не знавшая слова «сканнер», пыталась представить, что же видит подруга. Осмотр меж тем поражал автоматизмом. Вот взгляд пристально вцепляется в зрачки, после быстро, однако не упуская подробностей, движется по фигуре всё ниже и ниже, до шагающих ступней, и финальным штрихом облизывает её всю обратно – к лицу.
Нинель ощутила Олесино внимание и перевела серые рентгеновские лучи на младшую подружку. С трудом удержалась, чтобы не обшарить тем самым взглядом и её, родимую, до мелочей знакомую – уж больно в новинку сегодняшний прикид. Глаза так и зудели пройтись по тощим лисьим косточкам, облачённым в глубокий траур, но Нинель сумела удержаться; впрочем, боевая раскраска Лисы существенно в том помогала.
– Что ты хочешь увидеть? – Лиса всё-таки решила, что спрос не грех.
Ответ её слегка ошарашил – обычно Нинель не упускала случая всласть прогуляться кирзовыми каблуками по людской природе, а тут обошлась коротким:
– Души.
Лисе даже пришлось переспросить – показалось: не расслышала.
– Души, говорю. Ду-ши! Ну, то, что от нас остаётся, когда помираем.
Лиса усмехнулась:
– И что же ваше святейшество изволят наблюдать? Останется?
На что Нинель абсолютно серьёзно и спокойно ответила:
– Да.
Продолжить дискуссию не получилось, – ребята уже подходили. Пришлось с лёгким вздохом сожаления отправить закопошившиеся вопросы и мыслята в командировку – перенимать товарищеский опыт у ранее решённых жизненных задачек.
Для тех, кто забыл – нет места более приспособленного для головокружительных поцелуев, чем неторопливо ползущий эскалатор. Старший братец и его… да, да – жена – принялись доказывать эту простую истину, как только лестница-кудесница повлекла их вниз. Теперь Алька уже не тянулась на мысочках за Сашкиными ласками – их лица оказались ровнёхонько друг напротив друга. Ах, век бы с этих эскалаторов не слезать! Ещё всего лишь год назад Алька жутко стеснялась посторонних и далеко не всегда доброжелательных взглядов, когда Сашка начинал… ну, начинал, в общем. А теперь ей всё было нипочём. Радовалась, даря любимому радость – и лучилась во все стороны света любовью.
Лиса смотрела на них и думала, что вот она бы так не смогла: максимум, на что её хватало в общественных местах – это держаться за руку. Она вздохнула. Зря, наверное, она такая застенчивая – Нинель-то вон не утерпела, оставила на губах просиявшего Брауна лёгкий оттиск алой помадой. И молодец! Вот и правильно!
Кот поймал блеск Лисиных глаз и отвернулся.
На перроне они заспорили, как ехать. Сашка хотел с «Охотного ряда» перескочить на «Площадь революции» – и уж оттуда через всю Красную пройти к Васильевскому спуску. В кои-то веки единодушно мыслившие Браун и Кот предлагали проехать ещё одну остановку к «Лубянке», с неё добраться до «Китай-Города», выйти из метро в сторону набережной и по Варварке пройти куда надо. Оба считали, что с того краю посвободнее будет, и путей к отходу, если что – больше. К тому же, как горячо доказывал Кот, со стороны Исторического музея, скорее всего, оцеплено всё – как бы не пришлось в обход топать. Последний аргумент поставил точку над «i» – Сашка согласился с приятелями, и вся стайка, подпихивая друг друга указательными пальцами в спину (парни, разумеется) и кокетливо хихикая (девчонки, конечно), загрузилась в подошедший состав.
Веселье продолжалось недолго – на «Спортивной» их сдавило толпой, покидавшей вещевой рынок у Лужников. Ребята оградили девчонок, которых поставили в центр кружка, получившегося из пока ещё не очень широких, но надёжных спин, а сами обезьянками повисли на поручнях. Пришлось до «Парка культуры» дышать вверх, но – ничего, сдюжили. Тут основная часть народа схлынула, зато в вагон вошли бомжи. Оказавшиеся рядом пассажиры поспешно закрыли носы. Бродяги тяжело опустились на угловое сиденье. И хотя вагон был битком, площадка возле тут же освободилась.
Лицо первого пряталось в бороде по самые брови, а сверху его скрывала серая ушанка, козырек которой облысел и местами лоснился. Только загорелый до слезающих чешуек нос из-под козырька и виднелся. Другой оказался женщиной. Она стащила шапку, попутно утерев ею от уха до уха лицо. Шапка упала на колени, а бродяжка резким движением перекинула густую копну сальных волос вперёд, запустила в эту гриву пальцы и принялась остервенело чесаться. Стоявшие ближе всех мужички прервали разговор и уставились на сей увлекательный процесс. Поезд уже подъехал к следующей станции, а она ещё чесалась, с наслаждением массируя лоб, темя, виски. Особенно долго скребла затылок, потом снова вернулась к вискам.
Алька уткнулась лицом в Сашкину шею – не смотреть, не смотреть!
Брат с сестрой и Кирка тоже отвели взгляд – но куда сложнее оказалось не видеть людей, которые, словно по команде «Равняйсь!», повернулись в сторону бесплатного зрелища. Стоявший у противоположной двери парень в косухе, разве что рот не раскрыв, наблюдал за несчастной женщиной. А та уже пальцами разбирала пряди, выкапывая и раздирая колтуны.
Нинель плотнее прижалась к своему спутнику, который уже изготовился на ближайшей станции перейти в соседний вагон. Что они и сделали вместе с несколькими другими пассажирами.
На втором перегоне, раздвигая народ в проходе, до бомжей добрался милиционер и выразительно встал напротив них, поджидая третьей остановки – чтобы высадить этих людей. Женщина, наконец, откинула кое-как прочёсанные волосы, и открылось лицо – обветренное, смуглое, с точёным подбородком. Вид высоких широких скул и прямого короткого носа вызвал в буйном воображении Лисы знойную припылённую степь, жёлтое закатное небо и гортанную перекличку кочевников. Светло-зелёные глаза женщины безо всякого выражения посмотрели на милиционера, а её крупный, обмётанный струпьями, но даже в таком виде красивый рот выплюнул усталую, безнадёжную и ни к кому, по сути, не обращённую брань.
Блюститель порядка молча ткнул подбородком в сторону дверей. С протяжным воем поезд вылетел из тоннеля на станцию. Подгоняемые взглядами милиционера и других людей, бомжи старчески медленно поднялись и вышли на перрон.
Даже сквозь несмолкаемый шум метро Лиса чётко различила прокатившееся по вагону облегчение. Задумчиво посмотрела на Кота, и тот ответил ей таким же печальным взглядом.
***
Эскалатор царственно возносил друзей к выходу. Шурики обнялись как попугайки-неразлучники, да так и простояли всё время, пока лестница тянулась вверх – целовательное настроение куда-то подевалось. Сумрак на лице Нинели не могли развеять даже самые новые анекдоты про Шварценеггера и Сталлоне, как Браун ни старался. А Кот взял Олесину ладонь и принялся плести из её пальцев всяческие неприличные фигуры – уж очень хотелось, чтобы она улыбнулась. Она и улыбнулась – как расшалившемуся ребёнку, которого очень не хочется наказывать. И отстранилась. Кирка чуть-чуть распереживался по этому поводу, но тревога улетучилась, стоило ему шагнуть в прохладу и сумрак тоннеля. После душной роскоши подземного дворца и тягомуторной сцены в вагоне свежесть воздуха оказалась ой как кстати. И живая музыка – тоже.
Она лилась по длинному широкому тоннелю звенящим потоком, отражалась от низкого потолка, плескалась под ногами. Звала, ласкала и сопереживала каждому открывшемуся навстречу сердцу.
Взахлёб играли юные скрипачка и гитарист – душа просила песен, и они отдавали ей всё, что имели. Ну, а если кто-то из невольных, но благодарных слушателей счёл нужным поделиться голубенькой сотней деревянных или оставить в раскрытом футляре из-под гитары початую пачку сигарет… что ж, спасибо тебе, добрый человек – и несколько ярких аккордов на дорожку.
Спросите любого москвича – что такое Москва, и чего вы только ни услышите! Кто-то, конечно же, вспомнит Арбат, а кто-то – его современную инкарнацию. В пяти случаях из десяти при этом процедит, по-столичному слегка бравируя своей фрондой: «А, эта вставная челюсть!» Кому-то Марьина роща или ВДНХ первым делом на ум придут. Кому-то – Нескушный сад или Серебряный бор. Кому-то – родные Пироговка, Крылатское или Нижние Котлы. Если вам очень повезёт – услышите редкие ныне: «Сивцев Вражек» или «Собачья площадка». Но чего вы точно не услышите от москвича – так это про Красную площадь. Красная площадь – это не Москва. Красная площадь принадлежит всей стране.
Пока всё хорошо, о ней не вспоминают – ни власть, ни жители города, который имеет честь быть столицей огромной и удивительной страны. И лежит площадь, царственно спокойная, пышная. Но стоит стране почуять над своей головой бедовые ветры – о, тут же встревоженным сердцем начинает биться Красная площадь… Полнится людом – и лицом к лицу оказываются тогда кормчие и те, благодаря кому они могут рулить.
О, я прямо вижу, как кто-то хмурится, вспомнив про официоз, которым покрыта Красная, словно дворцовые паркеты – мастикой. Да, мастикой здесь пахнет изрядно, но ведь и мы не об официальном. Беды официальными не бывают – но обрушиваются девятым валом, и тут уже не до церемоний.
Но что за беда случилась весной девяносто третьего, отчего народ молодой и не очень по первому кличу: «Айда!» сорвался из многочисленных спальных подолов столицы и примчался под стены Кремля, к знаменитой на весь мир красоте Василия Блаженного? Мистик увидел бы здесь символ: люди идут к храму Покрова, под защиту древней крепости. Скептик нашёл бы повод поязвить – этот плебс хлебом не корми, дай потусить на позорище. Художник с романтиком поспешили бы провозгласить и воспеть единый народный порыв. А историку ещё только предстоит разобраться – что же это такое произошло тогда, отчаянной весной одна тысяча девятьсот девяносто третьего года – отчего на одной площади сошлись рокер и демократ, депутат и панк, анархист и пенсионер, студент и простой работяга?
Что ж, да не убоимся мы с тобой, читатель, обвинений в романтизме – всё-таки был порыв. Чуялось тогда: не придёшь – потеряешь что-то очень важное.
Вот и гудел Васильевский спуск, гудел как море. И вольными парусами над ним взвились российские триколоры. Один из них развевался в руках Альки, которая восседала на крепких Сашкиных плечах. Она едва успела разглядеть мужичка, вручившего ей флаг:
– Давай-ка, девонька, ты высОко там…
И она, окрылённая доверием, – так же восторженно взлетала её душа, когда вместе с Олесей и Киркой несла Аля почётный караул у знамени Таманской дивизии перед приехавшими в школу ветеранами, – окрылённая этим доверием, самозабвенно размахивала девушка пружинившим на ветру древком и под плеск трехцветного полотнища ликующе вопила «ура» в сторону сцены.
С которой в данный момент неслось что-то отрывистое – Лиса изо всех сил пыталась разобрать не только слова, но и увидеть выступавшего. Сделать это возможным не представлялось: эстрада хоть и стояла на возвышении между кремлёвской стеной и храмом, но спуск есть спуск – да и местечко скворцам сотоварищи нашлось только ближе к угловой крепостной башне. С учётом того, какая толпа стояла перед ними, и сколькие ещё напирали сзади, плюс апрельский ветер в микрофоны…
– Как… Андрей Дмитриевич… – донёсся до Лисы низкий, с хрипотцой заядлого курильщика, голос, такой знакомый ещё по прорывавшимся через глушилки передачам «Свободы» и ВВС.
– Граждане, а кто это там сейчас выступает, не подскажете ли? – послышался интеллигентный, с характерными московскими интонациями пожилой голос.
– А-а, – с добродушной ленцой пробасил кто-то справа сквозь подсолнечную шелуху на губах, – мужик какой-то звиздит.
Лиса возмущённо кинула в ту сторону:
– Да это же Боннэр!
– А хтой-та? – невозмутимо откликнулся тот же басок.
Только Лиса раскрыла рот объяснить, а интеллигентный голос всё так же вежливо уже сделал это. И она не стала вмешиваться.
– Понятно: свой человек – покладисто ответил басок и прогудел что есть мочи, – ура-а-а-а!
Окружающие радостно подхватили крик, волной покатился он вперёд и, нахлынув на дощатый берег сцены, пришёлся как раз к последним словам выступления.
А на сцене один человек сменялся другим: за музыкантом – поэт, за поэтом – политик, за политиком – журналист. Говорили жарко, убеждённо, красиво – как это всегда бывает на митингах… Но песня – песня заведомо лучше любого, даже самого правильного набора слов. Слова – что? Прозвучат – и поминай, как звали. А песня – пропетые стихи – попадает не в разум, но прямиком в сердце. Потому так много в тот вечер звучало песен.
Отгремел могучий вокал Градского, всей площадью дружно спели с Макарушкой и Кутиковым славные гимны добра и любви. Опустились на Москву сумерки, потянуло с реки сыростью, а песни всё звучали – до глубокой темноты. Народ постарше направился по домам в числе первых, и тянулись человеческие ручейки – кто на Варварку, кто – к набережной, а кто – через мост, к Балчугу. Попрощавшись с ребятами, утекли себе и Браун с Нинелью. А их друзья ушли только после того, как вместе с чёрным и больным от недавней гибели друга Кинчевым спели молитвенные «Сумерки» и горькую, горькую «Маму»:
– А у земли одно имя – светлая Русь,
В ноги поклонись, назови её мать —
Мы ж младенцы все у неё на груди,
Сосунки, щенки, нам ли мамку спасать?
И слышала тогда Лиса – несколько молодых голосов впереди прокричали в ответ:
– Нам!
Скворцы переглянулись и подхватили:
– Спасать!
Да, они последними покидали тот площадной театр – самые молодые, мучительно ранние вестники заплутавшей где-то весны.
Домой летели, звеня апрельскими радостью, верой, надеждой. Невдомёк им ещё тогда было, что именно в такие окрылённые мгновения обычно и подмешивается к мёду очередная ложка дёгтя. Почему? А бог весть – наверное, так надо… чтобы условный рефлекс выработался – низзя! Нельзя безоглядно хохотать, посылать веселые позывные от сердца к сердцу и громко думать.
Тому же, кто в упор не понимает эзопова языка судьбы – кирпичом по слишком бурлящему котелку, для начала. А если уж и такие намёки недостаточно ясны, что ж… или на дольче вита подсадить, или – если этим не соблазнится – контрольный выстрел.
Умные обычно догадываются обо всём с первого щелчка (уж конечно, ещё не затвора), и скоренько приучаются мыслить вполголоса, смотреть под ноги, дышать тихо и только верхушками лёгких. И походка у них становится медленная, размеренная; всем существом своим показывают: никуда не спешу, никуда не рвусь, моё дело маленькое – прожить, как положено, отмеренный срок, и на том спасибо, спасибо, аллилуйя, осанна, омммммммм. Стражники и успокаиваются на их счёт: им хватает работы на других участках, а с опытными кадрами, как всегда, напряжёнка. Чем же занимаются умные за спиной умиротворенной охраны, мы умолчим – ведь вы и сами всё знаете не хуже нас?
Скворцам же ещё только предстояло поумнеть настолько, чтобы не летать над асфальтовой коростой городов, а неторопливо ходить на своих двоих, не распевать во всё горло, а говорить тихо… и так всякий раз – за поколением поколение. Если мамы-папы вовремя простых этих истин не вколотят – сей недочёт исправится тем, что с нелёгкой руки вестимо кого называется жизнью. Однако проходит виток – и всё повторяется. Ох, но неспроста это, помяните моё слово – неспроста. Если из века в век одно от другого зажигаются и светят ясным, неподкупным огнём сердца, значит – так нужно. И однажды, однажды… однажды свет этих маяков спасёт идущие в штормовом море корабли; а пока – храните огонь, скворцы.
Уже далеко за спинами ребят остался светлый угол площади, а до Китайгородской стены они ещё не дошли. Варварку освещало всего три фонаря, и те неяркие. Друзья шли через сумрак быстро и слаженно – в ногу – поэтому со стороны могли показаться отрядом солдат, если бы два весьма женственных силуэта не выдавали присутствие в этой стайке нежной половины сапиенсов.
Вдруг впереди – судя по звуку, из ближайшего переулка – послышался удаляющийся топот. Несколько шагов спустя ребята дошли до перекрестка и под стеной углового дома увидели нечто тёмное, крупное, бесформенное. Присмотрелись – это оказался скорчившийся человек.
Разве могли скворцы пролететь мимо?
Первыми в переулке, конечно же, оказались легконогие девчонки.
– Пьян? Избили? – тревожно прошептала Алька.
– Да чёрт его знает, – так же глухо ответила Лиса, – Шур, давай обождём его без ребят ворочать.
А сама наклонилась к человеку, послушала, как дышит, запястье нашарила. Но, то ли пальцы с перепугу замёрзли и не чуяли ничего, то ли и вправду пульс был такой редкий и слабый… в общем, недолго думая, Лиса стукнулась коленками об асфальт и пробралась ладонью к сердцу лежавшего. И замерла, сосредоточенно внимая ощущениям. На миг ей показалось, будто она слышит, как потерявшийся в темноте и немыслимой дали радист стучит и стучит, посылая ей, ей одной едва различимые точки и тире: спаси – наши – души.
Лежавший застонал и попытался приподняться. Лиса от неожиданности сначала отпрянула. А руки её сами придумали, что делать: бережно, но крепко подхватили парня под затылок и спину, а затем мягко-мягко уложили навзничь. Сняли с хозяйки ветровку и скрутили из неё нечто вроде валика – понятно, зачем. Алька только головой на всё это покачала и просящим извинения взглядом посмотрела на подошедшего мужа. А тот глядел ух! сурово! – но прежде всего на сестру, которой вот непременно надо быть в каждой бочке затычкой! На ходу снял свою куртку, молча набросил затычке на плечи.
После Сашка, которому медицинские гены бабушки тоже перепали чуток, присел около пострадавшего и аккуратно ощупал его плечи, руки и ноги.
– Так, тут хорошо, – пробормотал он, заглянул в расквашенное лицо, – эх, промыть бы тут всё поскорей. И – холоду бы.
Подумал и добавил:
– Ещё неизвестно, что у него с почками и животом…
– Я на станцию метро, «скорую» вызову, – уже удаляясь, сказал Кот.
– Люди, – простонал парень, – не… надо… Щас я… щас…
– Вам надо в больницу, – затараторила Лиса, – мы побудем с вами, пока «скорая» не приедет, не волнуйтесь.
– Они… долго… не надо… домой бы…
– Что болит? – Сашка решил вернуть-таки разговор в практическое русло.
– Голова, – отозвался парень, – и дышать…
Он с трудом поднял руку и поскреб пальцами у порванного воротника рубашки.
Лиса взяла его руку в свою. Успокаивающе погладила, стараясь не касаться ободранных фаланг:
– Полежите – не ворочайтесь, не говорите ничего, дышите тихонько носом и молчите. Я посижу с вами. Всё будет хорошо.
Он посмотрел на неё, пытаясь поблагодарить взглядом и вдруг – узнал:
– Ли…
Тут и она словно заново всмотрелась в искажённое ударами и перемазанное кровью лицо.
Что ж, оставим их пока – пусть они себе глядят друг в друга, пусть радуются знакомым лицам; да, молодые умеют даже при виде какого-нибудь пустяка легко и самозабвенно щебетать, а всё же, а всё же… те мальчик и девочка заслужили немножко радости посреди топкого и гиблого времени, в котором пришлось им взрослеть.
Одной Ананке известно, чем бы закончилась для Лёши Белых стычка с гопниками, если бы скворцы попросту не спугнули их банду своим маршем. Парень оказался один против четверых – на концерт он собирался с братом, но того в последний момент задержали дела.
Но всё это выяснилось сильно позже, спустя много времени после того, как Лёша вышел из больницы, – а сейчас… сейчас…
***
«Мамочка, здравствуй!»
Лиса уже в который раз обводила приветствие. Буквы растолстели, залоснились, выехали за пределы строки, а на вершине восклицательного знака расцвёл цветок. Как много хочется сказать… и ведь не скажешь всего. Даже не потому, что чужие глаза могут прочесть – какое нам дело, до этих – чужих – глаз? Сложнее другое. Мне больно, мама. Мне так больно. Мне больно и горько за страну, за мою родину – она сейчас как старушка немощная и больная, стоит на паперти и трясущейся рукой милостыню собирает. Вот такой она мне сейчас кажется – и это больно. Мне страшно за людей, с которыми встречаюсь каждый день. Они стали такие… другие. Улыбки пропали с лиц, мама. Всё вокруг серое какое-то, голодное, всё время чувство, будто сосёт под ложечкой. В ларьках у остановок и у всех станций можно купить сигареты, водку, «Сникерс» с «Марсом» или «Виспу» – их иногда берут на закусить. Беру и я – пока бегу от метро до института, успеваю сжевать. И тогда не так хочется есть, когда сидишь на лекциях. А лекции, мама, как же там здорово! Институт – самое светлое, что у меня сейчас есть. И ребята, которых люблю всех, всех, всех. Если бы не они все, мама, наверное, я бы уже рехнулась или окочурилась попросту – так мне больно. И не вижу я просвета, мама. Вот вроде были мы на митинге – и что? Пошумели, песни попели, а дальше? Такое чувство, будто ничего не меняется, будто мы ничего не решаем и ничего конкретного не делаем. Народ валит – то про одного узнаёшь, что документы подал, то про другого – что уехал. А бомжей сколько! У вокзалов, у станций метро, в метро! Откуда? А болезней у них, говорят! Не пойму – разве этого мы хотели нашей стране?
И знаешь, что обидно? Не знаю совершенно, что могу конкретно в этой ситуации сделать я. У меня ничего нет, я так мало умею и знаю. Всё, что я могу – это просто любить этих людей и всем сердцем желать поскорее выбраться из всей этой дряни.
Просто – любить.
Любовь – вот чего нам всем так не хватает сейчас, мама.
И вообще, сумасшедшая весна какая-то – что-то непонятное вокруг творится. Мне некогда читать газеты или телик смотреть, я с утра – на работу, вечером – в институт. Остаётся только ночь, но есть ещё ребята, книги, музыка… Но – неужели же мы, такая большущая страна, не можем засучить рукава и просто поработать для самих себя, друг для друга? Ведь жили же как-то? Жили. Союз был? Был. Так сейчас-то – что? Ведь богатства-то наши природные и государственные при нас – или где? И где искать ответы – и кто теперь скажет правду?
Так бы хотелось поездить по стране, посмотреть, как люди живут, но я знаю, ты будешь очень тревожиться, если… поэтому я по-прежнему буду любоваться из окна цветущими черёмухой и каштанами, топать по московским улицам и мечтать, мечтать, мечтать…
Да всё бы, в общем-то, и ладно, но соседи всё время пристают с дурацкими вопросами – когда, мол, и мы с Сашей уедем к тебе, а мне это та-а-ак дико. Не хочу уезжать! Здесь мой дом – как же могу я бросить его? Да и ты же его тоже не совсем оставила – и обязательно вернёшься в свой дом. Ведь он – живое существо, он тоже нас любит… песенки нам колыбельные поёт. Здесь каждый уголочек чем-то да отмечен. Вон царапина на паркете – это мы с Сашкой решили мебель подвигать. Ты ещё была очень недовольна тогда, помнишь? Сказала, что мебель вы так с папой поставили, и что мы могли бы у тебя сначала спросить. Ты права, мама, конечно, надо было спросить. А мы, как всегда, сгоряча.
И вообще, плохо, когда сгоряча что-то делается, правда? Но, с другой стороны, бывают ситуации, когда надо решать моментально, никого не спрашивая, не дожидаясь ничьего совета. Сам и только сам должен ты принять решение, и никто, кроме тебя, не будет отвечать за твой выбор. Наверное, ты бы улыбнулась сейчас и сказала бы: «Максималистка». Да, мамочка, верно. И от этого тоже больно, а умные дяди в умных книгах зовут это «болезнь роста». А я такой, наверное, до самой смерти останусь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































