Текст книги "Скворцы"
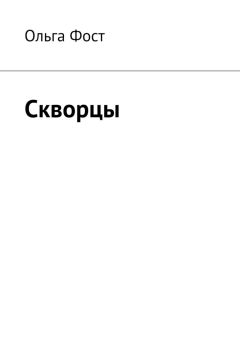
Автор книги: Ольга Фост
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Откуда мама узнала такие подробности, Татьяна Николаевна так за всю жизнь у неё и не спросила – а только, не раз просыпалась ночами от тихого поскуливания и сдержанных рыданий мамы. Даже во сне оплакивала она Коленьку. И во сне ползла к нему – под пулями. Во сне она видела, как на груди взрывается алым гимнастёрка, как беспомощно взмахивает он руками, прежде чем рухнуть навзничь в пыль белорусского просёлка. И во сне она вытаскивала мужа из-под огня…
«Ну, почему, почему, – тихонечко в канун смерти спросила бабушка замёрзшую от рассказанных снов Олесю, – почему я сразу же не пошла на фронт – ведь медик же! Ну и что, что детский?»
Но, перед уходом Коля сказал жене:
– Танечку расти. А вернусь – сына мне родишь.
Не вернулся. Сын не родился. Танечку вырастила.
И сейчас Танечка ходила по крохотной кухне пустой берлинской квартирки, не находя себе места в тревоге за дочь. О Саше волновалась тоже, но, по крайней мере, чувствовала – сын здоров и весел. И это успокаивало. Татьяна Николаевна не верила в давние мамины страхи, даже слушать их не желала и очень сердилась, когда та начинала причитать, что не живут у них в роду мужчины долго из-за проклятия, на их пра-прабабку завистницей насланное. Чушь, суеверия! Куда больше тревожила Олеся… ей что-то грозит, какая-то опасность подстерегает девочку.
Храни вас бог покинуть своих птенцов раньше времени – тем более, в эпоху перемен.
***
Лиса стояла с вымытыми ложками в руке и позорно боялась позвонить в дверь. «А вдруг – спит? Нездоровится же ему… Разбужу – сердитый будет. Да ладно, пусть сердитый – лишь бы не разбудить!»
Но только она робким вздрызгом звонка оповестила хозяина квартиры, что мучается тут, под дверью, как разделявшая их преграда тут же и пропала – в прихожей он её ждал, что ли?
– Милости прошу в мою берлогу, – покачал он головой в ответ на молча протянутые ложки, – теперь выручите меня, пожалуйста, вы.
Она вопросительно посмотрела на него – и уже приготовилась мчаться по аптекам в поиске нужного лекарства, трезвонить по знакомым врачам и вообще, и в борще, и в частности.
Но всё оказалось проще – ему просто не с кем выпить чаю. Ах, ну это – спасибо, от чашечки не откажусь.
Лиса вошла в залу и еле удержалась, чтобы не присвистнуть. Три стены от пола до потолка, в том числе и над дверью, занимали самодельные книжные полки – широкие и крепкие, как и тот, кто их сделал. Но всё равно, казалось, книгам места не хватает – несколько стопок стояло на подоконнике и на письменном столе, который примостился в углу, как раз под полками. До чего уютно! Сидишь себе за столом под клетчато-рыжим абажуром, работаешь, пишешь что-нибудь умное, а понадобилась книга посоветоваться – только руку протяни.
– Ого! Вот это библиотека!
И за торопыжность свою тут же схлопотала – мол, неужто всю библиотеку успела одним взглядом окинуть?
Но гостья уже перестала шугаться и кротко поинтересовалась имя-отчеством своего нового знакомого. И великан не нашёл в себе силы более противостоять звонкой песне молодости, которую принесло с собой это непонятное создание. А зря. Ну да, можно понять и мужчину.
– Сергей Петрович. Лучше просто – Сергей.
Олеся улыбнулась и назвала себя.
Церемонный полупоклон одного восхитил романтичную натуру другой едва ли не сильней библиотеки… сердце, ждущее любви, готово восторгаться любой мелочью. Поймём и женщину, пожалуй?
Пока я тут рассуждала, эти двое успели сделать несколько скованных шажков бочком – в сторону книжных полок. Олеся, внезапно оказавшись как-то очень рядом с Сергеем, потупилась, и на глаза ей попался бордовый фолиант с тиснёным золотом заголовком «Тайная доктрина».
– Ого! – снова сказала она, – Блаватской увлекаетесь?
– Это – друзей жены, – смущённо ответил Сергей, – она с ними Рерихами интересуется. Художница…
– А-а, – протянула Олеся рассеянно, потому что уже увидела белую обложку воспоминаний Одоевцевой. Сама читала вот буквально недавно, и даже перечитала, едва дойдя до последней главы. Почти неизвестные имена, горькие судьбы – и люди, сумевшие даже на дне отчаяния уберечь в себе людей… А сколько стихов! Какой мир открывался в них – необозримый! – и какая беда, что слишком поздно вернулись к нам эти стихи… Но почему из всего прочитанного запомнились ей намертво четыре строки незнакомого тогда поэта – Олеся не смогла бы ответить. Задумчиво разглядывая книгу, она просто выдохнула так и просившиеся быть сказанными слова:
– Туман, Тамань… Пустыня внемлет богу. Как далеко до завтрашнего дня…
Её собеседник глянул как-то странно, прочистил горло и продолжил в тон:
– И Лермонтов один выходит на дорогу, серебряными шпорами звеня.
Настала её очередь удивлённо посмотреть на него. Мужчина и женщина встретились глазами, – ох, и долгий же это был взгляд! – и улыбнулись.
Сергей опомнился:
– Нет, ну хорош хозяин! Позвал к чаю, а кормит разговорами.
Олеся не запомнила ни чая, ни угощения – смотрела и слушала, как говорит Сергей. А он говорил, говорил – почему-то ему очень хотелось, чтобы эта девочка не нашла повода уйти. Пусть сидит вот так, на табуретке между плитой и столом, неловко притулившись плечом к подоконнику, и смотрит, и слушает. А он расскажет ей и про любимую работу – преподавателем литературы, и про половину деревенского дома под Торжком, и про самую лучшую в мире чернику, и про своего одарённого ученика, и про то, как весной к ним залезли воры…
– О-о-о, – сочувственно протянула она, а Сергей вдруг засмотрелся на явленную во плоти букву.
Но взгляд отвёл.
– Да, вон с тех полок всё… С крыши пробрались на козырек балкона, стекло выбили… Соседка их спугнула, а так бы и остальные книги вынесли.
Лиса только ахнула. Он же, вдохновленный её состраданием, вдруг неожиданно для себя произнёс зло, и ещё воздух ладонью рубанул:
– А жена сказала, что тех воров поблагодарила бы – от барахла нас избавили, место освободили.
Такой болью кольнули эти слова, что у Олеси дрогнули пальцы погладить его по плечу. Но что-то ей в этих словах ужасно не понравилось. Она едва справилась с так и норовившим нахмуриться лбом и не отозвалась на порыв. Выпрямилась, отчего вид её, при желании, показался бы чопорным – не скажи она тихо и ласково:
– По нынешним временам не следует так откровенничать с незнакомыми людьми…
И что ему оставалось тогда? Только невесело хохотнуть в ответ.
***
Кирке не спалось. Бывает – за день накорячишься, наломаешься, в постель бревном – бух, а сна ни в одном глазу. Тонкая нервная организация у вас, однако, господин рыцарь золотого пера.
Ещё пару минут он по всякому мусолил эту мысль, иронизируя над собой – на таком бычаре целину бы пахать да Сибирь покорять, а этот бычара не умеет ничего лучше, чем рефлексировать на разные лады, девчонок от шестнадцати до шестидесяти длинным языком дразнить, и сплетать словеса про что и как скажут. За каким хреном понесло его в журналистику, Кирка к четвертому курсу не столько подзабыл, сколько уже не понимал.
Романтический хмель конца восьмидесятых выветрился из головушек как раз в девяносто третьем. Часть головушек – что похитрей да половчей – как обычно, хорошо присосалась к кормушке новых властителей жизни. Но были и те, кто предпочёл держаться от всей этой грязи подальше. И просто жить, делая свою повседневную работу, в глубокой глубине сердца веря в то, что жизнь непременно наладится – она не может не! Да, всё в заднице, производство загнулось, вокруг руины прежней – такой непростой, но в целом-то, положа руку на сердце, вполне налаженной жизни, народ если не мрёт и не пьёт, то спасается бегством или торгует, на улицах по весне не видно женщин с круглыми животиками, чуть застенчиво, но весело распирающими одёжки – их просто нет сейчас, этих женщин! Они либо в очереди на аборт сидят, либо успевают предотвратить зачатие. На тех, кто решается рожать, смотрят сочувственно, как на умалишоток, даже врачицы-гинекологини. Но всё это сейчас, которое кажется безумно длинным, потому что – новое. На самом деле, пройдет лет пяток – и всё изменится. Надо просто потерпеть. Как прадеды терпели, и деды с отцами. Просто потерпеть. И не забывать при этом – жить.
«Н-да, мозги закипают», – этот приговор Кирка вынес себе в полпервого, и снова глянув на часы, прикинул, что Лиса, небось, ещё полуночничает…
В дверь он звонить не стал. Просто, вышел на общий балкон, смежный с балконом скворечника, повёл носом. Ну да, барышня опять разорилась на «Винстон». Он перегнулся через перила и вполголоса окликнул:
– Лиса! Открой.
И в качестве пропуска предъявил бутылку «Алиготэ», пару минут тому назад купленную в круглосуточно торговавшем ларьке у подъезда.
С той стороны к нему протянулась тонкая девичья ручонка и бутылку сцапала. Раздался нежный шёпот:
– Щ-щас!
И Кирка, чувствуя, как с каждым шагом отступает головная боль, почапал к двери, приветственно светившей ему навстречу самыми классными в мире словами.
Легонько сопела во сне тёплая июльская ночь, горизонт со всех сторон окаймляла непроницаемая темнота, содрогаясь иногда в рыжих тревожных зарницах. А двое странных детей странного времени сидели на балконе, удобно устроившись на битком набитых древним барахлом коробках – чем не кресла? Вино в кружках, свеча на блюдце и старый добрый друг рядом… до чего хорошо знать, что есть в мире тихий островок, в гавань которого можно зайти – отдохнуть от печали. Вот только жить на этом острове нельзя. Почему? Да вы и сами знаете.
У Лисы была думка, и она её усиленно думала. Перед Киркиным приходом, в частности. А уж когда появился любимый собеседник… Нет, конечно, сначала немного заправились «Гражданью», потом сошлись на том, что Желязны, Шекли и Саймак – это круто, а Бредбери – на самом деле не фантаст, а философ. Затем они перетёрли покрышки Шумахеру, Алези и Сенне. Дальше друзья перебросились парой слов о загранице вообще и Татьяне Николаевне в частности. Ни с кем, кроме своих, не обсуждали Саша и Олеся решение мамы и Михаила Леонидовича остаться… Но только Аля и Кот сумели понять ступор, в который впал при этом известии Скворцов. Браун, правда, счёл нужным промолчать, что с его точки зрения решение как раз таки весьма неплохое, но вот не успел остановить Нинель, которая необдуманно предложила Сашке уехать к маме с Олесей и Алей: «Ведь здесь так тяжело, а у вас такая возможность!» Скворцов тогда церемониться не стал, поскольку имел привычку на дурацкие слова огрызаться:
– У нас – з-д-е-с-ь – всё скоро наладится. Только, для этого должен хоть кто-то остаться.
Нинель тогда чуть жальце не прикусила от Сашкиной резкости – раньше он себе с ней такого не позволял… и сейчас любитель остренького Кот не преминул это припомнить. На что Лиса отмахнулась ручкой: плен оно всё, и ты мне лучше скажи, Котяра – люди боятся показаться или оказаться?
Кирка глубокомысленно изобразил из себя пыхающего дымом дракона:
– Чиста-а психалагиццки показаться дерьмом куда комфортнее, чем оказаться таковым.
В высшей степени чувствительный к перепадам хозяйкиного настроения Лисин нос откровенно сморщился: ведь, оказавшиеся тем самым, о чём за приличным столом не говорят, даже и не грузятся особо по этому поводу.
– Короче, Кот, показаться не тем, кто ты есть, хреновей, чем оказаться. Все мы носим маски, и это, блин, обидно, когда на нас замечают не ту, которую мы сами нацепили.
Кот зевнул во всю пасть, душевно клацнул зубами и лениво поинтересовался у Лисы, почему же она такая бедная, коли такая умная. Ну-у, подставился! Естественно, просветили его тут же – по полной программе. В частности, он узнал, что бедность бедности рознь, ласковый ты мой и нежный. Есть нищета, нужда, которые тяготят, стыдиться этого состояния заставляют, а есть… нет, не аскеза, прекрати делать такие блудливые глаза! Так вот, Киса, как художник художнику, имею тебе сообщить: дело же не в деньгах. На самом деле, нужно человеку ну совсем чуть. Еда простая, одежда чистая – и душа им под стать. Тогда вся грязь этого грёбаного мира покатится с тебя как с гуся вода. В одно ухо войдёт – а в другое выйдет. И по барабану тебе тогда будет – показался ты бедным или оказался: ведь всё относительно. Какой богач может быть уверен на сто процентов, что любят его, а не его капиталы?
Кот озадаченно покачал головой, отпил ещё вина и не очень-то вежливо посочувствовал будущему Лисиному мужу:
– Не серчай, Ли, я тебя люблю и даже уважаю, но держала б ты свои мысли при себе, а? Мужики тебя не то чтобы не поймут, но… И ваще – харэ уже прятаться в штанах, носи платья, что ли, юбки – с твоими-то ногами…
– Ни фига себе изврат мысли! – возмутилась Лиса, – вы меня сговорились в замуж сбагрить?
– В замуж, не в замуж, а мужчина тебе нужен. Хороший. Чтоб холил, нежил и на руках носил. Взять, к примеру, меня… Чем я тебе не?
И Кот опустил взгляд в кружку с вином, а если уж совсем начистоту, то попросту спрятал. Ох, доведёт однажды парня длинный его язык…
Лиса всмотрелась. Есть люди, которым назначено жить одновременно в прошлом, настоящем и будущем – и мужчин таких немало, а женщин – большинство, пожалуй? И Лиса всмотрелась ещё пристальней. Ну да, так и есть. То есть, всё совсем не так. Обретение нового – всегда потеря. Не могу я потерять брата, Кирка. То, что у нас есть – прекрасно, а если… потом крепко жалеть будем. Прости ты меня… не я – твоя.
Олеся улыбнулась и мягко смела паутинку перепуганной тишины:
– Ты ради красного словца не пожалеешь деревца.
– Угу, – с облегчением буркнул Кот, – бумага всё стерпит.
***
– Я не просил иной судьбы у неба, чем путь певца, – шептал Сергей строки любимого поэта молочному до синевы блеску фонаря. Стекло холодило лоб, успокаивало. Ночной ветер баюкал ветви березы, росшей под окном.
Для любви не существует запретов – любит она случаться не там, не тогда и с теми, кто совершенно об этом не просил.
– Я не просил этого! – с усилием выговорил Сергей. Береза недоверчиво качнула макушкой, а произнесённая боль затуманила стекло.
«Хоть самому себе-то не ври», – произнёс в глубине души желчный и в высшей степени противный голосок. Отвращение было взаимным. «Не ври – ты хотел! И просил! Чтобы нашёлся кто-то ясный и тёплый, и побыл немного рядом, если уж не выдрал из той мути, в которой ты уже столько лет барахтаешься. Скажешь – нет?»
– Но не девочка же, – у многих одиночек есть обыкновение проговаривать мысли вслух.
«С ума сойти, какие мы привереды, – яд из внутренней пакости прямо-таки сочился. – Эта девочка – женщина, женщина, чёрт всё возьми! Так что формулируй чётче: просил, но не этого».
Сергею ничего не осталось, как признать правоту совести. И ответить ей безапелляционной и злой банальностью:
– Все наши желания имеют дурную привычку сбываться не так, но иначе.
Стекло равнодушно приняло на себя и эту печаль.
А наутро он уже ждал звука Олесиных шагов. Ждал и на другой день. И на третий слушал, как она топает по лестнице, и бренчат, бренчат, чёрт всё возьми, бренчат о кастрюльку ложки.
На четвёртый – вышел на площадку. И боль, и страх, и досада от невероятной этой встречи – всё растаяло, как туманная дымка в тепле дня: он увидел радость, и радость вприпрыжку, через ступеньку взлетела к нему, в сердце:
– Здравствуйте! Ведь вы здоровы уже?!
«Ни черта я не здоров…»
– Горло ещё скребёт, – он откашлялся, – но температура небольшая.
Женщину хлебом не корми – дай о ком-нибудь позаботиться. Особенно о том, кому нужна помощь.
– А вы чем полощете? – Олеся отреагировала моментально и так строго… он едва не захохотал в голос. Старательно удерживаясь – вот, руку даже положил на грудь – поинтересовался стеснённо, чем же надо.
– Ложечка соды на стакан воды и две-три капли йода, – назидательно изрёк медицинский ребёнок, – или фурацилином…
Но Сергей развёл руками, не знаю, мол, ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвёртого, а уж соединить всё вместе – в жизни меня не хватит!
Она явно колебалась, но несчастный вид стоявшего напротив человека помог справиться и с волнением, и с совестью, и с той самой стыдливостью, которая всегда так выручала её. А на этот раз… она чуть слышно попросила у него разрешения ему помочь. Что он ответил – догадаться нетрудно.
– Ты это куда? – сурово поинтересовался Сашка при виде запыхавшейся Олеси, которая торопливо поставила кастрюлю на перевёрнутый ящик и рванула обратно к люку.
– Я… в общем, помочь там… попросили – один человек!
Ох, какими знакомыми показались Сашке и сияние её взгляда, и жеребячья порывистость. Но сомневаться в Олесе? Ему и в голову не могло прийти, что сестра очертя голову мчится домой к незнакомому, женатому и очень-очень взрослому человеку. В противном случае никто бы не сдобровал.
Уже на следующий день Олеся приехала пораньше, чтобы побыть с Сергеем до обеденного у ребят перерыва. Какими скрытными делаются женщины, когда обзаводятся тайной, а уж какими изобретательными! И ещё через день, и на шестой, и через десять… Она вставала спозаранку – вместе с Сашкой и Алей, стряпала обед своим мальчишкам и вылетала из дома сразу же после того, как Нинель удалялась из поля оконной видимости. Остатки цыплячьей безалаберности в счастливое то время истаяли окончательно: Олеся не только успевала держать в чистоте дом, готовить и стирать, но по пути к ребятам ещё и по магазинам пробегалась в поисках съестного. Тогда ей удавалось подольше задержаться у Сергея… В общем, если женщине есть, что таить – никто и ничего не узнает до тех пор, пока она сама не захочет. А ежели силой входить в скрываемое женщиной – ничего, кроме боли, это не принесёт. И женщине – тоже. Олеся не сомневалась, что делает что-то нужное, полезное, но вредное и неправильное. Потому и таилась – на высокой скорости заметна лишь часть дороги. Чтобы понять всё, на что смотрел, но не видел, нужны время и уединение. Но и того, и другого всегда в обрез у безоглядно и взаимно влюблённого человека.
Зато других мыслей имелось – с лихвой. «Кто его жена? Чем, как, они ещё держатся вместе? Нескладуха у них какая-то – почему? Ведь художница же – значит, душевная», – нервно строчила Олеся в дневнике ночами, мучительно стараясь не уснуть, пока не запишет всего, о чём так хотелось бы поговорить с мамой. Ныл наморщенный лоб, в груди посвистывал жаркий сквознячок, мельтешила перед глазами тошнотворная рябь… Но Олеся жмурилась, размазывала эту рябь по щекам, и кидала, кидала мысли поленцами в жадный огонь бумаги. «Что же она, не замечает его потерянности? Не хочет замечать? Но, если они всё-таки когда-то поженились, значит, всё не просто так. Значит, любили друг друга. Детей хотели. Сына родили… Что же, что? Ведь С. же такой… сказочный – неужто она забыла об этом? Он стихи пишет!!! Умный, добрый, весёлый, сильный, как можно его – такого!!! – разлюбить??!! Вот я никогда, никогда, никогда НЕ разлюбила бы своего мужа. Такого мужа не разлюбила бы никогда!!!!!»
Олеся запихивала дневник в диванную щель и сминала изнывшейся головой подушку. Рассматривая плавающие под закрытыми веками чёрно-зелёные круги, пыталась представить себе Сергея – чем-то ты занят сейчас?
– Спокойной ночи, – шептала в темноту комнаты, аж кулаки сжимая, чтобы услышал.
Любовь, любовь… многоликая, коварная, животворная. Вся печаль вселенной в глазах твоих, и всё счастье.
Но тогда Олеся этого знать не знала и знать не могла. Не знала она, и сколько бессонных ночей провёл Сергей, ожидая жену то с вернисажа, то с вечеринки, то из командировки… Отвечал на звонки – мужские голоса требовали его женщину, и посмел бы он сказать, что её нет дома. Забрала бы сына, и лови ветер в поле… объясните мне, почему лишь близкие люди могут истерзать нас так, как не под силу целому миру? Вот он и ждал её долгими-долгими, бесконечно лживыми ночами. Сидел, забившись в угол под стеллажами – и читал. Караулил сон сына – и готовился к лекциям. Думал, решал, взвешивал – и записывал приходившие в голову рифмоплётства. И так уже много лет.
Но однажды Олеся всё-таки рискнула задать один-единственный вопрос – и ответ услышала в подробностях, без утайки.
– И ты терпишь? – уже ничего не боясь, спросила она. И узнала… Чем больше ума и таланта, Леся, тем тяжелее нести этот груз… с прямой спиной. И почти всё можно простить за чувство, что ты ещё нужен, пусть и на всякий пожарный. А уж если дал жизнь, то хоть жгутом скрутись – но вырасти человека.
Олеся соглашалась – хотя не могла ещё понять его в полной мере. Так, чуяла… например, стежки, которыми притачивал её к себе Сергей – мягко, намертво. Но лишь радовалась тому. Ну, догадывалась – если такое когда и порвётся, то нескоро потом зарубцуется свято место. Да и пусть… не рвётся же ещё?
Верно, верно: у дороги два конца, у влюблённых два кольца, а посередине – гвоздик.
Что такое было… что вообще бывает, когда одной и той же стрелой пронзает мужчину и женщину? На взгляд стороннего человека, забывшего эту головокружительную, до слёз щемящую отраду – чушь полная! То возятся, хихикая и щекоча друг друга, куда попадёт, то словечками невозможными обзываются. То шагают с нездешним видом, то мечтами фонтанируют – прекрасными и забавными, но всё равно прекрасными, поскольку к одному-единственному слушателю обращённые. А то, лежат и вместе в потолок смотрят:
– Видишь, трещинка в углу? Какой сердитый гном!
– Точно, господин Стекольщик на Питера прогневался.
– Да, да, а вон там – дым от его трубки.
– А вот тут что?
– Это не дым!
– Зато вкусней…
Что же было, Серёжа? Почему – мы? Ведь если бы не вираж истории – у нас с тобой не было бы ни одной, ни малейшей возможности узнать друг друга так, как узнали. Изгибы моей судьбы, повороты твоей… мы могли не – мы не могли! – встретиться никогда.
Никогда.
Никогда не устала бы я закутываться в объятие твоих рук, оберегать твой сон, дышать твоими мыслями, всем телом слушать, как бьётся твоё сердце. А какие красивые родились бы у нас дети, радость ты моя, нечаянная…
Ребята дней восемь, как закончили крышу Серёжиного дома и перебрались на соседний. Работали споро, быстро – деловито выстукивали бловочки, чёткими движениями топора вырубали очередной пузырь, нашлёпывали сверху заплатку гидроизоляции. Дурачились, хохмили… вот, даже фото осталось, Котом сделанное – судя по тому, что подпись на обороте его лапой: «Скворсон, раздирающий пасть пузырю».
Иногда Олесины добры молодцы тревожно посматривали на небо – уже приплывали с севера высокие-высокие запятые пёрышек, и предтечей снегов повисала над городом серая влажная бахрома…
Пара дней из графика всё-таки выпала напрочь – сидели на чердаке у выхода на крышу, ждали погоды и писали пульку за пулькой. Олеся провела с ними оба дня полностью – Сергей уехал на выходные к своим в деревню, и впервые за несколько недель она никуда не спешила. Оставаться наедине с собой, с пусто и гулко стучащим без любимого сердцем – это ж какие силы надо иметь?!
На другой денёк – такой же переменчиво-моросящий – Кот прихватил с собой новую книжку Алешковского, и после обеда Олеся читала друзьям драматические приключения Николая Николаевича. Ребята курили, развалившись на постеленных поверх рулонов телогрейках, и внимательно слушали, то и дело взрывая чердачный воздух гогочущими децибеллами. Сама Олеся, ставшая в последнее время до неприличия сентиментальной, на самых ядрёных сценах вдруг начинала моргать часто, щурилась и деликатно пошмыгивала носом. Гормоны, знаете ли, штука предательская. Но вот показали стрелки часов заветное время Серёжиного возвращения, и нетерпеливо заблестели Олесины глаза; расцеловала хозяйка небритые щёки своих скворушков и упорхнула.
Сашка молчал, остальные тоже. Хотя замечали – замкнулась их мать-кормилица, на любые вопросы отвечала односложно, и джинсы, ещё недавно сидевшие в облипон, вдруг как-то пообвисли. Такой, как сегодня – открытой – давно не показывалась. Но это же Лиса – скажет только, если сама захочет.
***
Почти всё в жизни женщины начинается с предчувствия – и порой не хватает умения отвести провиденную беду от тех, кто рядом.
От любви и родного тепла кто-то гнал её прочь, по дворам проходным да туманами мимо дорог, гнал сквозь дремлющий лес, через мост над змеицей-рекой – и спасалась беглянка в шальную весеннюю ночь. «Убегаю – мой дом превратился в холодный острог, и душа навсегда позабыла, что значит – покой. Мне ни дьявол, ни бог, ни герой не сумеют помочь, потому что безликому злу на прицел мой попался висок».
Сергей отложил в сторону исчерканный и разрисованный всякими фигурками-рожицами клетчатый листочек:
– Дикарка, дикарушка. Почему столько отчаяния?
Олеся помолчала, размышляя, как объяснить всё так, чтобы не пришлось рассказывать всю жизнь. Она и раньше-то задумывалась не только над внешней стороной вопросов, а узнав Сергея – и подавно обрела ещё несколько окон в мир.
– Ну-у… я так говорила, когда думала, что уходить надо самой, – прежде, чем уйдут тебя.
В любви мы перемешиваем тайные соки друг друга – но и глубинные родники наших душ соединяются в один ручей.
– Теперь бы ты никуда не ушла?
– Да, Серёженька, и не уйду. Даже если мы и расстанемся – всё равно, не уйду. Мы теперь вместе, понимаешь?
Очень хорошо понял. И снова отложил уже назревший разговор. До сентября ещё целых семь дней…
Почти всё в жизни женщины начинается с предвосхищения – или это извечная волшба того бытия, о котором втайне мечтается? Мягкие шаги грядущего едва различимы за гулом повседневности, но несказанно счастлива бывает та, которая слышит его бесшумную поступь.
Аля шла с работы и думала, как же напоследок порадовал август – воздух, что твой кисель, тёплый, настоянный на дачном дымке березовых поленьев и сосновой хвои. Торговый люд возле станций метро изнывал от жары, но стойко продавал всё, что попадалось под руку. Люд служивый изнывал не меньше и столь же стойко всё покупал – а толку за рубли цепляться, и так теряют в цене чуть не каждый час.
Большинство, в полном соответствии с расхожей шуткой, покупало на рубли деньги и складировало «зелень» под матрас. Кого-то дёрнула нелёгкая сыграть в ваучеризацию, кто-то хорошо наварил на разницах курса, кто-то потерял даже остатки имущества… но к началу осени того года основная идея существования постепенно сформулировалась заново: работать надо, работать, работать. А в переводе на тогдашний язык – торговать-рекламировать-перепродавать. Прогрохотали и на время унялись пирамидальные страсти. Август – сложная в России пора, но тот август порадовал затишьем.
Солнце ещё высоко держало свою кудлатую и любопытную голову, ещё калило огненными пальцами асфальт Садового кольца и городские крыши. Аля неторопливо шла по Сретенке к метро. И столь же неторопливо думалось ей о том, как хорошо – солнце! простоя у ребят нынче не было! Простоя не было – значит, скоро и четвёртую крышу сдадут дяде Лёше, а то, видишь ли, испугались они дождей и собрались забить на первую часть семестра – доделывать! Чего удумали – Сашка тут что-то даже про академку шептал… фигушки! Надо доучиться уже, наконец – и так с этими рейсами по нескольку дней пропадал, пропускал лекции! В летнюю сессию только на светлой голове и выехал!
Асфальтовый зной пробирался меж ремешками босоножек, жарко облизывал Але ступни. От встречных прохожих пахло мороженым, распаренными телами и умопомрачительной вкусноты варёной кукурузой, которую продавала у Сухаревки женщина с ещё лет сорок тому назад уставшим, но очень добрым лицом. Аля работала неподалёку – и второй август подряд лакомилась незамысловатой этой стряпнёй. Август без кукурузы – это не август.
Обычно Аля покупала один, а тут попросила сразу два початка – при виде их жизнерадостных улыбок губы сами причмокнули, да и желудок не просто попросил – визгливо потребовал: «Дай-ай-яй!!!!» Подёргивая коленкой, она дождалась сдачи и вприпрыжку направилась к забору, окружавшему вросшую в землю церквушку. Там, ожидая подаяния, сидели немытые и нездоровые с виду попрошайки. Их кирпичного цвета кожа едва не отбила у Али аппетит, но благоухание кукурузы победило всё и вся. Поэтому оголодавшая женщина тут же забыла о неприятном соседстве. Вожделенно сияли тугие, лакированные зёрна… она жадно и крепко впилась в их упругие бока…
Надо было видеть, с какой скоростью оголилась и вторая кукурузина – даже солнышко изумилось. Коснулось лучиком довольной Алиной улыбки, а та носовым платком вытирала пальцы и удивлялась – чего это вдруг набросилась на кукурузу… вон, и живот теперь барабанчиком. Лицо горело – но от сытости это тепло или солнце так расцеловало щёки? Радость, ласковая, ласковая, пощекотала под сердцем, и кругами разошлась по телу, шире, глубже… коснулась самых таинственных закоулочков. И такая вдруг нежность ко всему миру овладела Алей, такое милое счастье пропело в ней высокую колокольную трель, что не столько разобрала она сказанное, сколько догадалась о пришедшей весточке: «Я – беременна».
– Я? – удивилась вслух. – Да? Ох, господи, хорошо бы как!
Мелькнуло – и растаяло, и вот уже спешит она к метро, и вот уже влажная, жаркая людская толчея затягивает Алю в свои лабиринты, но мягко разгорается в неведомой глубине её тела крохотная звёздочка – а через шестнадцать дней придёт и обычное женское подтверждение этому.
***
– Серёжа?
– Да?
– Сон я видела…
– Какой, радость?
– Иду по дороге в гору, и камешки мелкие всё время в сандалии попадают. Хромаю, хромаю – но иду. Знаю, что должна идти – только это и держит. А наверху небо чуть светится, словно перед зарёй. У меня в руке фонарик, я себе им свечу. И кружок от него на камни такой жёлтый, жёлтый, и противный, как желтушная кожа. И вдруг – железная дорога поперёк. Я – по шпалам, чтобы к людям выйти. Выхожу… к какой-то заброшенной платформе с одним-единственным тоскливым фонарём. А там – ты. Бегу к тебе, но тут налетает пурга. И тебя закручивает в эту пургу. Я плачу, плачу, и так больно, так страшно, что с тобой что-то стряслось.
– Это сон, милая. Ничего со мной не стрясётся.
Олеся приподнялась на локте. Положила ладонь Сергею на грудь. Дрогнули её губы, не зная, плакать ли будет хозяйка, улыбнётся ли… Не улыбнулась, глянула пристально. Как приходит к нам, ещё здоровым, тоскливое предчувствие недуга? Нежно, до боли нежно целует он её в последние дни, но веет от его губ хмельной прохладой листопада. Не давая сказать ни слова, прижимает к себе, лишь закрывается входная дверь… а нередко они и остаются там же, в узенькой, как девичья постель, прихожей. И дарит такую ласку, и так дарит ласку, как только на прощание и бывает.
Сердце уже не просто стучало под ладонью – билось в неё, а молчание ещё разделяло их. Но когда-то же надо решаться? Зябкая волна пробежала вдоль позвоночника, но Сергей постарался, чтобы голос не дрожал:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































