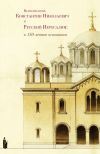Текст книги "Проклятая русская литература"

Автор книги: Ольга Михайлова
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 4. «Умный, честный и благородный…»
«Святость – максимализм морали».
Георг Гегель.
– Господа, – робко предложил в конце заседания Верейский, – а давайте пропустим «наше всё» без рассмотрения, у меня конференция на следующей неделе, аспиранты и сессия у заочников, а мемуаров о «нашем всём» – и за неделю не прочесть. Как следует из замечания нашего судьи, такое обилие воспоминаний – уже показатель душевности и ума, и доказывать, что Пушкин достоин быть в литературе – просто дурная потеря времени…
Никто не оспорил его, основоположника решили не рассматривать, но следующая персоналия вызвала оживлённые дебаты. Верейский предложил было Кондратия Рылеева, но Ригер и Муромов содрогнулись, «тоже мне литератор», пробормотал Голембиовский, и тема была закрыта. Ригер предложил Баратынского, остальные вяло переглянулись. Языков показался не слишком-то значительной величиной Муромову, и тогда Голембиовским было решено обсудить творения и личность Николая Гоголя. Ригер почесал за ухом и сказал, что не может хулить автора «Шинели»: когда-то он над ней прорыдал полночи, но его призвали к порядку.
– Так мы должны разгадать знаменитую «загадку Гоголя»? – полюбопытствовал Марк Юрьевич.
– «Ставьте перед собой реальные цели…», Маркуша, – прокаркал Голембиовский слоган известной рекламы, – дай Бог разглядеть душу, остальное – не наше дело.
Они расстались до пятницы.
…Голембиовский только махнул рукой, когда в следующий раз на столе снова появились банка растворимого кофе, бутылка вина, ватрушки и пирожные из кафе «Колосок», славящиеся на весь город. Все расселись по уже привычным местам. Ригер предложил погасить свет, зажечь свечи и облачиться в алые мантии, но на него цыкнул Голембиовский. Верейский, убивший на творца «Мёртвых душ» две ночи, начал:
– Розанов говорил, что все писатели русские «как на ладони», но Гоголь, о котором собраны все мельчайшие факты жизни и изданы обширные воспоминания, остаётся совершенно тёмен. «Факты – все видны, суть фактов – темна. Нет ключа к разгадке Гоголя. В нём замечательно не одно то, что его не понимают, но и то ещё, что все чувствуют в нём присутствие этого необъяснимого…» – Верейский пролистал свои записи, – что до мемуаров… Странность тут подлинно есть, особенно по контрасту с Грибоедовым. Все воспоминания, а их огромное количество, исчерпываются четырьмя темами: как выглядел Гоголь, как он читал свои произведения, что он сказал и куда ездил. Тургенев, Щепкин, Панаев, Анненков и Лев Арнольди описывают его внешность, Александр Толченов в «Воспоминаниях провинциального актера» говорит о его актерском таланте: «Перенять манеру чтения Гоголя, подражать ему, – было невозможно…» Погодин тоже рассказывает о знаменитом чтении Гоголем «Женитьбы»: «Это был верх удивительного совершенства. Прекрасно читал Щепкин, прекрасно читают Садовский, Писемский, Островский, но Гоголю все они должны уступить». Далее снова Толченов. «Веселость Гоголя была заразительна, но всегда покойна, тиха, ровна и немногоречива. Мне не привелось подметить в Гоголе ни одной эксцентрической выходки, ничего такого, что подавляло бы, стесняло собеседника, в чём проглядывало бы сознание превосходства над окружающими; не замечалось в нём также ни малейшей тени самообожания, авторитетности. Но новых лиц, новых знакомств он, действительно, как-то дичился…» Панаев свидетельствует, что Гоголь был «чрезвычайно нервным человеком, имел склонность отрешаться от всего окружающего… Был домоседом и знакомых посещал изредка. С прислугою обращался вежливо, почти никогда не сердился на неё, а своего хохла-лакея ценил чрезвычайно высоко». Но Аксаковы повествуют о странных перепадах его настроения и эксцентричности. Дальнейшие воспоминания – это рассказы не о нём, но о впечатлениях от него.
Он и вправду кажется бесплотным призраком, материализовавшимся в туманных фантасмагориях Петербурга: кроме дат выхода книг, нет биографии, нет связей с женщинами, нет внешних событий, только книги и путешествия. Поэтому придётся не столько цитировать, сколько размышлять.
– Но если нет опоры на воспоминания, может, поможет литературоведческий анализ его вещей? – вопросил Голембиовский.
– Не поможет, – покачал головой Верейский, – сам он писал: «Причина веселости первых сочинениях моих заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал всё смешное, что только мог выдумать. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала». Однако, – Верейский взял том Гоголя, – можно и проанализировать раннюю прозу. – Верейский перелистал тяжёлый том классика, – как ни странно, одна их ключевых тем «Вечеров» – вторжение в человеческую жизнь демонических сил, и ни святая вода, ни подвиг схимы не могут окончательно воспрепятствовать злу на земле – только вмешательство Бога обеспечивает кару «великому грешнику». Дальше в «Портрете» «адский дух» вторгается в жизнь через творение художника, подменяя идеалы стремлением к успеху, петербургский титулярный советник объявляет себя королем, нос облачается в казенный мундир и отправляется в Казанский собор, где молится «с выражением величайшей набожности», шинель делается трагическим fatum в жизни существа, созданного по образу и подобию Божию… Бес свирепствует и противостоять ему может только художник-монах, пройдя путь покаяния и молитвы. Его вывод: «Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою»… Воистину, святые слова праведника. Под ними мог бы подписаться только Жуковский, да и поздний Пушкин, пожалуй…
– Но беса он тоже видел, это явно… – кивнул Ригер.
– Но на беса-то не обопрёшься, – возразил Верейский, – замечу только, что никто в русской литературе больше Гоголя не был объят мучительным сознанием ответственности, какую несёт художник за то, что он послан в мир, за те впечатления и чувства, которые будет рождать среди людей воплощение его прихотливой мечты. Ибо талант обязывает: «На будничных одеждах незаметны пятна, между тем как праздничные ризы небесного избранника не должны быть запятнаны ничем». После Гоголя это уже никого не интересует, и спустя два десятилетия после смерти Гоголя будет уронено: «нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся…»
Собственно это и есть пограничное состояние морали писателя: либо он полагает, что талант обязывает его к сверхморальности, либо уверен, что дарование освобождает от морали. Гоголь был из первых. – Верейский просмотрел оглавление тома, – возьмём «Авторскую исповедь». Написана в 1847, за четыре с половиной года до смерти. Гоголю тридцать восемь лет. Это прямая речь самого Гоголя, без художеств и образов. Что замечается? Прекрасный русский язык, стиль и манера изложения очень умного человека, трезво и четко мыслящего. Там, где он высказывает недоумение тем, как были приняты публикой «Выбранные места», есть, на мой взгляд, важные ремарки: «Во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как ни оскорбительны они для человека, в ком ещё не умерло благородство, я не имею права обвинять никого». «Я ещё не признан публично бесчестным человеком, которому нельзя было бы оказывать никакого доверия. Я могу ошибаться, могу попасть в заблужденье, как и всякий человек, но назвать все, что излилось из души и сердца моего, ложью – это жестоко» «Словом, как честный человек, я должен бы оставить перо». В тоне заметны обида, ранимость и боль, однако упреки высказаны публике кротко и спокойно. Но отметим другое. «Человек, в ком ещё не умерло благородство», «я ещё не признан бесчестным», «как честный человек». Это не самооценки, заметим это особо, но лишь вводные конструкты, некие кванторы порядочности, с которыми он себя просто сопоставляет. Повторено трижды, и ни в одних воспоминаниях, письмах и сплетнях нет сему опровержения. Гоголь ни разу за всю жизнь не совершил ни одного недостойного поступка. Странности – были, подлостей – нет. Стало быть, нет оснований не верить и словам «Авторской исповеди».
Голембиовский улыбнулся.
– Что скажет адвокат дьявола?
Ригер, любивший Гоголя, был явно пристрастен.
– Кажется, Панаев говорил, что у него было глупо спрашивать, куда он едет: «Если собирается в Малороссию, скажет, что в Рим, а если едет в Рим, скажет – в Малороссию…» Но вообще-то ложь не является ложью при ответе на вопрос, который тебе не имеют права задавать…Что кому за дело? Ну… вообще-то он иногда и завирался, и психовал… кошку утопил однажды, за дьявола принявши. Странен был, что и говорить… Но нормальный «Мёртвые души» и не написал бы…
– Что скажет адвокат Бога? – поинтересовался Голембиовский.
Муромов пожал плечами.
– Его прадед был священником, дед окончил киевскую духовную академию, мать – усердная паломница по окрестным монастырям. В письме к матери Гоголь, вспоминая о детстве, упомянул: «Я просил вас рассказать мне о страшном суде, и вы мне, ребенку, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли…» Смерть младшего брата Ивана произвела на тринадцатилетнего мальчика тягостное впечатление, смерть же отца потрясла шестнадцатилетнего Гоголя. Г. Галаган, видевший Гоголя в Риме в 1837–1838 годах, отмечает, что «…Гоголь показался очень набожным. Один раз собирались в русскую церковь на всенощную. Я видел, что и Гоголь вошел, но потом потерял его из виду… я вышел в переднюю… и там в полумраке заметил Гоголя, стоявшего в углу за стулом на коленях и с поникшей головой. При известных молитвах он бил поклоны». По свидетельству Смирновой-Россет, в Риме «в храме он становился обыкновенно поодаль от других и до такой степени бывал погружен в молитву, что, казалось, не замечал никого вокруг себя».
На веру накладываются новые потери: смерть Пушкина. Сохранилось любопытное свидетельство Якима Нимченко, крепостного слуги Гоголя, который сопровождал писателя в Петербург и жил с ним до его отъезда за границу и которого незадолго до смерти Гоголь завещал «отпустить на волю». Вот рассказ Нимченко об отношениях Гоголя и Пушкина в записи Григория Данилевского: «Узнав в 1837 году о смерти Пушкина, Яким неутешно плакал в передней Гоголя. «О чём ты плачешь, Яким?» – спросил его кто-то из знакомых. «Как же не плакать… Пушкин умер». «Да тебе-то что? Разве ты его знал?» «Как что? И знал, и жалко. Помилуйте, они так любили барина. Бывало, снег, дождь и слякоть в Петербурге, а они в своей шинельке бегут с Мойки, от Полицейского моста, сюда, на Мещанскую. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи…» По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он с любовью следил за развитием Гоголя и всё твердил ему: «Пишите, пишите», а от его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый и в духе. Накануне отъезда Гоголя, в 1836 году, за границу, Пушкин, по словам Якима, просидел у него в квартире, в доме каретника Иохима, на Мещанской, всю ночь напролёт. Он читал начатые им сочинения. Это было их последнее свидание.»
Голембиовский задумчиво обронил:
– Если так убивался слуга, можно представить, что было с господином…
– Да, – кивнул Верейский, – потерю он пережил один, и лишь месяц спустя написал Плетневу из Рима: «Что месяц, что неделя, то новая утрата, но никакой вести хуже нельзя было получить из России. Всё наслаждение моей жизни, всё моё высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеётся, чему изречёт неразрушимое и вечное одобрение своё – вот что меня только занимало и одушевляло мои силы…»
Верейский пролистал «Исповедь».
– Он вообще считал, что Пушкин создал его как писателя. «Может быть, с летами потребность развлекать себя исчезла бы, а с нею вместе и моё писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец один раз, после того как я ему прочёл одну небольшую сцену, сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, как с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано, и в заключенье отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, не отдал бы другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». На этот раз и я сам уже задумался серьёзно, – тем более что стали приближаться такие годы, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем…» Именно поэтому, – почесал нос Верейский, – литературоведческий анализ его ранней прозы – дело исключительно академическое.
– А что скажет адвокат дьявола? – поинтересовался Голембиовский.
– А ничего, – отозвался Ригер, – что тут скажешь-то? Не нашёл я на него компромата. А впрочем…вот. По мере углубления замысла «Мертвых душ» Гоголь проникался идеей «высокого избранничества». «Не земная воля направляет путь мой», – писал в 1836 г. «…клянусь, я что-то делаю, чего не делает обыкновенный человек», – и «…кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом», «…труд мой велик, мой подвиг спасителен», – констатировал Гоголь в письме к С. Аксакову от 13 марта 1841 года.
– Самомнение? Гордыня?
– Ну…не знаю, но труд его вообще-то был чудовищен. Вот Николай Берг: «Гоголь рассказал при мне, как он обыкновенно пишет, какой способ писать считает лучшим. «Сначала нужно набросать всё как придётся, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда более, это скажется само собою, достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях – и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре её новые заметки на полях, и где не хватит места – взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придёт час – вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом, и когда снова она будет измарана, перепишите её собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз – как бы крепчает и ваша рука; буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и ещё больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственною рукою, труд является вполне художнически законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки, пожалуй, испортят дело; что называется у живописцев: зарисуешься». В той же «Исповеди» он обмолвился: «Не знаю, достало ли бы у меня честности положить перо, потому что, – скажу откровенно, – жизнь потеряла бы для меня тогда вдруг всю цену, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить…» Так что, возможно, мысль об избранничестве была оправданной.
– Офигеть… – позволил себе вульгаризм Голембиовский, то ли осмеивая пристрастность Ригера, то ли оценив титанический труд Гоголя, – однако, Маркуша, не выходите из амплуа…
В разговор снова вмешался Верейский:
– Тут любопытна эволюция духа. По собственному свидетельству Гоголя, поначалу он отнёсся к сюжету «Мертвых душ», подаренному Пушкиным, просто как к «смешному проекту», позволявшему описать лица и характеры. Однако реакция Пушкина на «Мертвые души» – «Боже, как грустна наша Россия!» – заставила его пересмотреть масштабы замысла. «Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведёт меня сам на разнообразные лица и характеры. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? Что должен сказать собою такой-то характер? Что делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращенья: все у меня выходило натянуто, насильно, и даже то, над чем я смеялся, становилось печально».
– Обычный творческий кризис…
– Если и так, то рассматривал Гоголь его по-бердяевски. Тут ключ к раскрытию тайны второго тома «Мертвых душ». Он хотел понять, кем человек «должен быть на самом деле»: если ноздревы, собакевичи и плюшкины – мертвые души, то что такое «душа живая»? Но понять это можно только «изнутри самого себя», то есть восстановление образа Божия в «пошлом, раздробленном, повседневном характере», опутанном «страшной тиной мелочей», Гоголь связал с самопознанием. «Найди прежде ключ к своей собственной душе, решил он, когда же найдёшь, этим же ключом отопрёшь души всех». «С этих пор человек и душа человека сделались, больше чем когда-либо, предметом моих наблюдений. Я оставил на время всё современное. Всё, где только выражалось познанье людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дороге нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришёл ко Христу…» И тут в нём произошёл ценностный слом, хоть он не сразу понял и осознал его. Мне кажется, господа, что загадка Гоголя – это тайна изменённого сознания, – выговорил Верейский. – Он задумался над идеалом человека, найти его при его недюжинном уме и чистой душе он мог только там, где тот и обретался – во Христе. Но познание Христа – это всегда изменение сознания. Вернувшись в мир с высот богопознания, Гоголь, уже с измененной душой и рассудком, не мог найти в литературе прежнего призвания, он грезил монастырём, но всё же по писательской привычке пытался сказать слова истины в «Переписке», не понимая, что обращается с живым словом к «мертвым душам». А дальнейшее… Он пытался писать – но не имел не столько умения, сколько былого интереса к занятию. Он охладел не к типам «Мертвых душ», а к художеству вообще, он же увидел Вечность. Ему казалось, что «скучно на этом свете» ещё до встречи с Христом, что же говорить о дальнейшем?
– Вы хотите сказать, Алеша, что во всей России его никто не понял? Россия была христианской державой…
– Вспомним, в чём его упрекали. Атеисты – в том, что он говорит непонятную им ерунду, а люди церкви спрашивали, зачем он вообще это говорит, раскрывая свою душу, «свою внутреннюю клеть…» Неверующим он ничего ответить не мог, а «в ответ же тем, которые попрекают меня, зачем я выставил свою внутреннюю клеть» говорит, «что все-таки я ещё не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все писатели, которые говорили, что было на душе. Я не нахожу соблазнительным томиться и сгорать явно, в виду всех, желаньем совершенства, если сходил за тем Сам Сын Божий, чтобы сказать нам всем: «Будьте совершенны так, как Отец ваш Небесный совершен есть».
– Гордыня бесовския? – искусил Верейского Голембиовский, – желание совершенства? Он это серьезно?
– Да. Святость – это максимализм морали. Но слова Гоголя подтверждены Львом Арнольди. Николай Васильевич подлинно стремился к самосовершенствованию, алкал добродетели и по-настоящему боролся со своими пороками. «Гоголь работал всю свою жизнь над собою, и в своих сочинениях осмеивал часто самого себя. Вот чему я был свидетелем. Гоголь любил хорошо поесть, о малороссийских варениках и пампушках говорил так увлекательно, что у мёртвого рождался аппетит, в Италии сам бегал на кухню и учился приготовлять макароны. А между тем очень редко позволял себе такие увлечения и был в состоянии довольствоваться самою скудною пищей, и постился как самый строгий отшельник, а во время говенья почти ничего не ел. Гоголь очень любил и ценил хорошие вещи, в молодости, как сам он мне говорил, имел страстишку к приобретению разных ненужных вещиц: чернильниц, вазочек, пресс-папье. Страсть эта могла бы, без сомнения, развиться в громадный порок Чичикова – хозяина-приобретателя. Но, отказавшись раз навсегда от всякого комфорта, отдав своё имение матери и сестрам, он никогда ничего не покупал, даже не любил заходить в магазины и мог, указывая на свой маленький чемодан, сказать: omnia mea mecum porto, – потому что с этим чемоданчиком он прожил почти тридцать лет, и в нём действительно было всё его достояние. Когда случалось, что друзья дарили Гоголю какую-нибудь вещь красивую и даже полезную, то он приходил в волнение, делался озабочен и решительно не знал, что ему делать. Вещь ему нравилась, она была в самом деле хороша, прочна и удобна; но для этой вещи требовался приличный стол, необходимо было особое место в чемодане, и Гоголь скучал все это время, покуда продолжалась нерешительность, и успокаивался только тогда, когда дарил её кому-нибудь из приятелей». Это подлинно желание воздержания и нестяжания. Есть и иные примеры у того же Арнольди. «Раз в жизни удалось ему скопить небольшой капитал, кажется, в 5000 рублей серебром, и он тотчас же отдает его, под большою тайною, своему приятелю профессору для раздачи студентам, чтобы не иметь никакой собственности и не получить страсти к приобретению, а между тем через полгода уже сам нуждается в деньгах и должен прибегнуть к займам».
И ещё один пример. Глава первого тома «Мертвых душ» оканчивается таким образом: капитан, страстный охотник до сапог, полежит, полежит и соскочит с постели, чтобы примерить сапоги и походить в них по комнате, потом опять ляжет, и опять примеряет их. Кто поверит, что этот страстный охотник до сапог не кто иной, как сам Гоголь? И он даже нисколько не скрывал этого и признавался в этой слабости, почитая слабостью всякую излишнюю привязанность к чему бы то ни было. В его маленьком чемодане всего было очень немного, и платья и белья ровно столько, сколько необходимо, а сапог было всегда три, часто даже четыре пары, и они никогда не были изношены. Очень может быть, что Гоголь тоже, оставаясь у себя один в комнате, надевал новую пару и наслаждался, как и тот капитан, формою своих сапог, а после сам же смеялся над собою… Кто знал Гоголя коротко, тот не может не верить его признанию, что большую часть своих пороков и слабостей он передавал своим героям, осмеивал их в своих повестях, и таким образом избавлялся от них навсегда. Я решительно верю этому наивному откровенному признанию. Гоголь был необыкновенно строг к себе, постоянно боролся со своими слабостями и от этого часто впадал в другую крайность: бывал иногда так странен и оригинален, что многие принимали это за аффектацию и говорили, что он рисуется» По источникам, на которые трудно дать ссылку, говорили, что Гоголь был девственником.
– Даже так…
– Во многом переломным оказался для него 1840 год, когда он за границей приступы «нервического расстройства» и «болезненной тоски», видимо, окончательно понял истину, но, как считал Аксаков, «это не значит, что он сделался другим человеком, чем был прежде; внутренняя основа всегда лежала в нём, даже в самых молодых годах». Сам Гоголь также писал: «…внутренне я не изменялся никогда в главных моих положениях. С 12-летнего, может быть, возраста я не совращался со своего пути. Я шёл тою же дорогою… и я пришел к Тому, Кто есть источник жизни» С 1840 года в письмах всё чаще упоминается о монашестве. Появляются «Избранные места из переписки с друзьями». Впечатление от них в публике было крайне негативное. Григорий Данилевский пересказывает слова Плетнева: «Его зовут фарисеем и ренегатом, клянут как некоего служителя мрака и лжи, оглашают его, наконец, чуть не сумасшедшим… И за что же? За то, что, одаренный гением творчества, родной писатель-сатирик дерзнул глубже взглянуть в собственную свою душу, проверить свои сокровенные помыслы и самостоятельно, никого не спросясь, открыто о том поведать другим… Как смел он, создатель Чичикова, Хлестакова и Манилова, пойти не по общей, а по иной дороге, заговорить о духовных вопросах, о церкви, о вере? В сумасшедший дом его! Он – помешанный!» – Верейский утвердительно кивнул, словно подтверждая свои слова, – да, его в этом обвиняли. «Какое ты умное, и странное, и больное существо!» – думал, глядя на него, Иван Тургенев…
– Ригер, а вы что скажете?
Тот пожал плечами.
– Ну, раннее написание весьма правдоподобных «Записок сумасшедшего» указывает, что ему знакома стихия безумия, но формы умственного расстройства связывают обычно с расщеплением личности и отторжением реальности, Гоголь же при его остром уме и наблюдательности имел неиссякаемый интерес к жизни, и правдоподобнее всего предположить, что стихия хаоса и распада через ум его не проходила…
Верейский дополнил:
– Сам Гоголь упрекал современников за ругань на «Переписку»: «Сужденья были слишком уж решительны, слишком резки, и всяк, укорявший меня в недостатке смиренья истинного, не показал смиренья относительно меня самого. Можно делать замечанья, можно давать советы, но объявлять человека решительно помешавшимся, сошедшим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие цели – такого рода обвинения я бы не в силах был возвести даже на отъявленного мерзавца, который заклеймен клеймом всеобщего презрения. Мне кажется, что, прежде чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично, в виду всего света…» Он еще раз понял не только бессмысленность писательского труда, но и попыток кого-то убедить в истине…
– Травля…
– И главным палачом был Белинский… но об этом – не стоит.
– Но неужели понимающих не было совсем?
– Ну почему же? Понял и горячо одобрил Жуковский, поддержали Языков и Плетнёв. Были понимающие, как не быть? Но провал «Переписки», сокровенного слова, подкосил его. До самой смерти Гоголь работал над вторым томом «Мёртвых душ», но в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года он сжег рукопись: «часу в третьем, встал с постели, разбудил своего Семена и велел затопить печь. Когда дрова разгорелись, Гоголь велел Семену бросить в огонь связку бумаг. Семен говорил нам после, будто бы он умолял барина на коленях не делать этого, но ничто не помогло: связка была брошена, но никак не загоралась. Обгорели только углы, а середина была цела. Тогда Гоголь достал связку кочергой и, отделив тетрадь от тетради, бросал одну за другой в печь. Так рукопись, плод стольких тягостных усилий и трудов, где, несомненно, были многие прекрасные страницы, сгорела». Была ли это минута просветления, высокого торжества духа над телом, когда великий художник проснулся в отходящем в иную жизнь человеке и сказал: «Нет! это не то, сожги!» или это была минута душевного расстройства? Вот это останется тайной навсегда… Гоголь оказался в замкнутом лабиринте между спасением и искусством, оправданием и творчеством, плутать в котором свойственно несчастному русскому духу, мессианскому, подвижническому в сути своей…
– Что на нём ещё – худого и доброго? – Голембиовский поглядел на коллег.
– Его любили, – отозвался Муромов, – Николай Берг вспоминал: «Московские друзья окружали его неслыханным, благоговейным вниманием. Он находил у кого-нибудь из них во всякий свой приезд в Москву всё, что нужно для самого спокойного и комфортабельного житья: стол с блюдами, которые он наиболее любил, тихое, уединённое помещение и прислугу, готовую исполнять все его малейшие прихоти. Этой прислуге с утра до ночи строго внушалось, чтоб она отнюдь не входила в комнату гостя без требования с его стороны; отнюдь не делала ему никаких вопросов; не подглядывала (сохрани Бог!) за ним. Все домашние снабжались подобными же инструкциями…» Люди же, кого он сам звал друзьями, – это Пушкин и Жуковский.
– Кстати, Гоголь, – подхватил Верейский, – замечательно-тонкий литературный критик с глубоким пониманием великого и возвышенного. Известны его классические страницы о Пушкине и то, как он, тёмный и больной, горячо любил это светлое солнце, искал его лучей, чтобы согреть свою зябкую душу, – «О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни!»
Ригер полистал любимого им Юлия Айхенвальда и вклинился в беседу.
– Айхенвальд полагал, что «Гоголь не хотел быть тем, кем он был, что он страдал от своего таланта, хотел изменить характер своего писательства, облечь плотью и кровью человечность и нарисовать её так же ярко и выпукло, как выходили у него уроды. Но именно это не давалось ему. Кисть, утомленная неблагообразием, стремилась написать одухотворенное лицо, но на полотне являлись фигуры неестественные, бледные отвлеченности, и сам художник, свой лучший судия, приходил в отчаяние перед этой вереницей бездушных призраков. Созидание человеческого величия не давалось ему. Здесь он не творец, здесь он был бессилен. В этом отношении глубоко характерно его изображение женщины. О женщине он чаще говорит в высокопарном стиле, приподнято и звонко, порою с трепетом нездорового сладострастия, – а все-таки чувствуется, что женщины естественной и обаятельной он не знает. Прекрасная женщина у него мертва, как мертвая красавица «Вия», а реальны и выписаны во всей жизненности иные – те губернские дамы, просто приятные и приятные во всех отношениях, которых он так безжалостно осмеял…» Возможно, Верейский тут правее: он увидел подлинную красоту и сказал о ней, – но кто его понял?
– Как умер? – педантично поинтересовался Голембиовский.
– По-божески. За три дня до смерти исповедался, причастился, соборовался. В ночь с 20-го на 21-е в беспамятстве, но громко произнес: «Лестницу, поскорее давай лестницу!» Около 8 утра скончался, успев сказать перед смертью в полном сознании: «Как сладко умирать!» – проинформировал его Верейский.
– Кстати, анекдот, – промурлыкал Муромов, – Болеслав Маркевич писал, что во время похорон Гоголя вся полиция была на ногах, как будто ожидали народного восстания. Маркевич спросил у одного жандарма: «Кого хоронят?» Жандарм громовым голосом ответил: «Генерала Гоголя!» Вот чисто русская оценка заслуг отечеству…