Читать книгу "Уран"
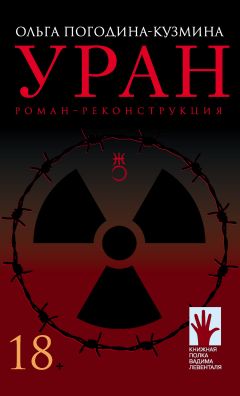
Автор книги: Ольга Погодина-Кузьмина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Лёнька Май
Лёнечка красивый, ладный, хоть в кино снимай. Зубы белые, бережет их в драке. Для их крепости и приятного запаха всегда жует, перекатывает во рту смолистую хвойную веточку.
Волосы у Лёнечки черные, вьющиеся. Бабка смеялась над ним, пятилетним – откуда такой чумазый взялся, может, цыгане подменили? Он спорил, топал ножками в красных сандаликах, хоть знать не ведал тогда никаких цыган.
Лагерникам бреют головы, но блатные имеют поблажки – носят «полубокс», «итальянку» или волнистую челку на глаза, как у Лёнечки. Глаза ему достались от матери – темно-карие, с лиловым стрекозиным отсветом, главное оружие против женского пола.
Как глянет наглыми зенками – так вольняшкам из женского персонала, не говоря уж про кухонных зэчек, сердце оборвет. Применяет и другой подход, жалостный. Губы выпятит, сделает брови домиком, ресницами похлопает – как есть сирота казанская. Другие зэки платят за женские ласки, а Лёне и так от баб не отбиться. Дарят ему теплые вещи, вяжут носки.
Веселый Лёнечка, песен знает несчетно. Идут зэки понурые, как тягловые лошади, а он вдруг частушку затянет про девок и попа. Или жестокий романс:
Я сын рабочего, подпольщика-партийца,
Отец любил меня, и я им дорожил.
Но извела отца проклятая больница,
Туберкулез его в могилу положил.
А то засвищет «Танго соловья» – заучил с пластинки, которую гоняют в лагере по репродуктору. Порфирий Иваныч смеется: «Как есть Таиса Савва, мастер художественного свиста!» А Лёнечке не обидно, он бродяжным людям настроение поднимает. Оттого и кликуху получил легкую, праздничную: Лёнька Май. От фамилии Маевский.
Лёнечка – прирожденный вор и фамилию украл у пацана, блатного кровника. Впрочем, хозяину уже не пригодится – погиб в Ленинграде под бомбежкой. Так что вроде и не обокрал товарища Лёнечка, а продолжает жить и за себя, и за кореша. Один бывший ксендз ему рассказывал, что у поляков, германцев и прочих западных народов бывает несколько имен – на счастье. А Лёнечка жиган фартовый – счастье за ним ходит, случай бережет. Девять жизней ему отмеряно, как кошке. Правда, пять из них он уж истратил.
Первая была в Москве. Из нее помнил только слона в зоологическом саду, толстую, вечно сонную няньку и зал с хрустальными люстрами, где мать сидела в меховой горжетке, а отец ел розовое мясо и дал ему попробовать кусочек, истекающий кровью – ростбиф.
Отец исчез внезапно, и Леня до сих пор не знал почему. Помнил только золотой кант на петлицах и запах табака. С тех пор, наверное, отличал по нюху дорогой сигарный табак от прочих, хоть сам и не курил.
Мать с пятилетним сыном и годовалой дочкой переехала в Ленинград.
Вторая жизнь в старинной комнате с высоким потолком запомнилась влажным балтийским ветром, летней пылью. Еще помнил Лёнечка, как болел скарлатиной и в горячке хотел потрогать лепной узор вокруг люстры. Казалось, вот сейчас дотянется рукой, без всяких лестниц и табуретов. Хотел подняться к светлому пятнышку лампы, как другие грезят достать с неба луну.
После болезни ему сшили пальтишко с заячьим воротником, записали в школу под бабкиной фамилией Ненужный. Посреди зеленого сада, рядом с голой статуей, мать строго приказала прежнюю свою фамилию не называть, а про отца говорить, что умер от тифа.
Третья жизнь продолжалась дольше двух первых, впечатала в память события, как подошва сапога вминает колосок травы в сырую глину.
В комнате буржуйка, от дыма узоры на потолке покрылись копотью. На буржуйке в котелке варят похлебку из клея. Холодно, страшно. Не слона в зоопарке, не темноты, не покойников теперь боялся Лёня, а живых людей, которых рвал железными когтями голод.
К зиме померла сестренка, вслед за ней бабуля. В феврале сорок второго года – мама. У нее на барахолке вырвали из рук кулек мороженой картошки, обменянной на золотое колечко. В кулек она зачем-то положила и хлебные карточки.
Лёнечка просидел два дня в комнате с покойницей. Убил крысу, сварил в кипятке. До сих пор помнил вкус полусырого мяса с песком и шерстью – такой вот ростбиф в пустой коммунальной квартире с десятью опечатанными комнатами.
На третий день кончились соседские книги, топить стало нечем, и пионер Лёнечка Ненужный пошел на улицу, в свою четвертую жизнь. Знал уже, куда податься – на барахолку, к ворам. Спасибо, не прогнали девятилетнего прыща. Спасли от гибели, приставили к работе.
Лазать в форточки брошенных квартир, искать припрятанные ценности, промышлять на толкучке, «дергая» товар у зазевавшихся торговцев и покупателей, Лёнечка обучился быстрей, чем тригонометрии. В двенадцать лет он уже свистел через зуб, пил вино на воровской малине, имел авторитет в среде блатных. А вот курить не стал в память о матери. Школьником дал ей слово, что не притронется к папиросам, и клятву держал.
Женщин Лёнечка тоже узнал раньше сверстников, и в этом ему повезло. Уличные шмары, жадные и глупые, при нем стыдились своей распутной жизни. Ласкали, баловали хорошенького воренка, как сестры младшего братика. Учили беречься от дурных болезней, ворожили ему красивую жизнь, большую светлую любовь. Бывшая артистка показала аккорды на гитаре. Жалостные песни Лёнечка выучил сам.
Когда прибился к малолетней банде рыжий, обсыпанный веснушками, как пестрое птичье яйцо, Лёка Маевский, стали работать в паре. Лёнечка помог тезке освоиться с блатными обычаями, научил секретным знакам и тайному языку. Но перед самым снятием блокады товарищ погиб от бомбы. Лёня горевал по нему, как не убивался по родной матери. В стылой комнате с покойницей он сам умирал, а теперь уже понятно стало, что выжил.
Оттаял Ленинград, кончилась война. В милицию навербовали демобилизованных. Воров загоняли, как стаю волков за флажки. Поймали и Лёнечку. В память о товарище и так, на всякий случай, он назвался Маевским и навсегда принял чужую судьбу. В интернате началась его пятая по счету жизнь, и кончилась она первым сроком на малолетке. Второй срок он потянул на восемнадцатом году жизни, за драку с поножовщиной.
Но и здесь ему повезло. Отправили не в суровые воркутинские лагеря, не на Колыму, которая среди блатных имела прозвание «Освенцим без печей». А попал он в образцовый трудовой лагерь на территории Эстонской Советской Республики, которая вступила на путь социалистического развития в 1940 году, перед самой войной.
Около года жизнь его в лагере протекала относительно благополучно среди воров, «чистовых», сливок местного общества.
Костя Капитан и Порфирий Иваныч держат блатной порядок в зоне, разбирают споры, вершат неспешный, но неотвратимый суд. Мимо них над бараками и муха не пролетит, и птица не каркнет. Везде у них глаза и уши. Пять без малого тысяч подконвойных и расконвоированных всякого звания чтут авторитет «смотрящих», беспрекословно подчиняются решениям. Надзиратели, собачье племя, слегка нарушают гармонию жизни, но на то и щука в реке, чтоб карась не дремал. Однако генерала Корецкого, начальника лагеря – на блатном наречии ему прозвание «хозяин» – уважают и смотрящие, и Лёнечка.
«Хозяин» свою задачу выполняет. Ему из министерства спущен план, объем работ. Комбинат № 7 – заказчик, строительство № 907 – подрядчик. Не даст норму, отложит сдачу объектов – получит генерал по шапке от своих начальников с Лубянки, а то и выше, из Кремля. Выходит, от каждого зэка, как от винтика в машине, зависят итоги советской пятилетки.
Народ в лагере разношерстый. Есть барак военнопленных, но те работают своими бригадами, на жилом строительстве. Немцев и служивших в вермахте прибалтов водят на работы отдельным путем, через северные ворота – год назад молодые рабочие с Комбината тайно собрали по лесам винтовки, патроны, чтоб расстрелять пленных фашистов с чердака, пока тех ведут на работы. Сорвалось – кто-то из своих же испугался, донес в милицию. Немчуру и в лагере не жалуют, плюют им вслед.
Среди обычных зэков, контингента «Д», есть политические по 58-й статье, много осужденных за хозяйственные преступления. Военных тоже не обошли сума и тюрьма. Бывший майор Антонов сидит за халатность, подполковник Штыбин тоже проштрафился по служебной линии. Его солдаты подрались с мадьярами на венгерской границе, порезали друг друга, вышло политическое дело. Гинеколог Чердниченко загремел за подпольные аборты, много интересного знает об устройстве женского организма. Особым уважением в лагере пользуется стоматолог Песоцкий. Рвет зубы, вставляет железные прямо в инструменталке. Напильником выпилит зуб, руки вымоет керосином и – раскрывай зевало.
Контингент «Д», рабочие спецстроя – привилегированный класс в системе большого ГУЛАГа. За выработку 151 % от плана заключенным списывается день за три. Пользуется начальство тем, что лагерный народ тоскует по воле, как лебедь по своей лебедушке. Вкалывают по десять часов, рвут жилы мужики, приближая обещанный в газетах коммунизм.
У блатных, понятно, свой закон – «чистовым» работать не положено, «западло». На положенцев записывают свою норму черти и простые работяги, такой порядок давно заведен и никем не оспаривается. Мелкой сошке и жиганам вроде Лёнечки, которым работать не по масти, а настоящий уркаганский авторитет по возрасту не положен, приходится крутиться.
Впрочем, Лёнечке и в этом до последней поры везло. То Порфирий велит бригадиру послать молодого на кухню, потаскать котлы с баландой. То знакомая нарядчица на радость поварихам возьмет веселого, ладного парня на прием и засолку рыбы. То обставит Май в картишки «бабая», новоприбывшего татарина, и тот пару месяцев на кладке кирпича вырабатывает двойную норму – за себя и за воренка. Лёне только дойти с бригадой до объекта, а там – поднимется на этаж да покуривает в стороне или дремлет на телогрейках. То вдруг взял его под свое покровительство начальник подсобного строительства молодой инженер Воронцов.
Из какой корысти – пусть другие думают, а Лёнечка пользуется. Как в той поговорке – жуй пирожок, а в нутро не заглядывай.
Одна беда, перед самыми новогодними праздниками дернул черт за язык – Лёнечка зачем-то обидно подколол бывалого каторжанина Хрыча, близкого кореша Порфирия Иваныча. Ляпнул не по масти и на следующий день получил наряд на разгрузку товарных вагонов.
Железнодорожную ветку от станции Вайвара на Хутор-7 протянули в декабре, пустили дрезину через подкомандировки. И сразу пошли с западной стороны составы с рудой для «красильной фабрики». Чего там красили, Лёнечка не знал, но, увидав покрытые мохнатым инеем вагоны, расстроился не на шутку: впервые за время отсидки ему пришлось взять в руки кайло.
Если бы Маевский каким-то образом побывал на планерке у директора Гакова, то понял бы, что «красильной фабрикой» Комбинат называется для конспирации, чтобы запутать шпионов, внедренных в делопроизводство агентов и прочих врагов. На самом же деле на Комбинате № 7 еще в 1946 году запущен технологический процесс добычи редкоземельных металлов, в первую очередь урана для спешного перевооружения армии.
Поначалу планировалось добывать необходимый продукт из местного сырья, но здешние сланцы оказались бедны ураном – всего 0,38 грамма на тонну породы. Поэтому на Комбинат стали завозить сырье из шахт Чехословакии и ГДР. По дороге, как требовала технология, урановую руду поливали водой. К прибытию на место куски породы смерзались в ледяной монолит.
Запальщики из вольных лезли на отвалы, бурили в руде отверстия для динамитных шашек и взрывали прямо в вагонах. После этого зэки ломали породу кайлом и лопатами перебрасывали в тачки. Тачки катили на сепаратор, где шла сортировка.
В первые дни на общих работах Лёнечка еще балагурил. Забравшись на горку вагона, оглядывал окрестности. Завидев стайку работниц, идущих вдоль дороги к цехам, скидывал бушлат, играл мышцами под лучами жидкого февральского солнышка. Игнорировал окрики надзирателей, тычки в спину винтовкой. Но работать его все же заставили. И после двух недель тяжелого, однообразного махания лопатой под мокрым снегом, в стужу и в метель, он перестал смотреть по сторонам. Отупел, замордовался.
Вечером, падая на свою вагонку, чувствовал, как гудят натруженные руки и ноги, как сквозь жилы горячими толчками проходит кровь. Уже не мечталось о бабах, о сладкой вольной жизни. Но главное – Лёнечка видел, как стремительно теряет авторитет. Выходило так, что обиженный каторжанин Хрыч опустил Мая сразу на несколько ступенек вниз по воровской табели о рангах. А в лагере закон: отшатнись на ступеньку – будешь катиться до самого дна, до потери человеческого облика. Это Лёнечка видел на многих примерах.
В бараке стоял обычный галдеж. В блатном углу арестанты резались в карты, обкладывали друг друга замысловатыми ругательствами. Узбеки бубнили молитву, бывший профессор помогал бывшему студенту решать задачку из растрепанного учебника – дались им эти «интригалы»? А Лёнечка, закинув усталые руки за голову, отвернувшись к стене, лежал и думал, как бы соскочить с общих работ. А задача это непростая. Уже приходил Воронцов, требовал перевести Маевского в свою бригаду. Нарядчик отказал – бери распоряжение от начальника по режиму. А как его получишь, это распоряжение?
Конечно, есть еще такие, которые пишут жалобы – кто прямо Сталину, кто Молотову, кто Кагановичу. Смешно. Всё одно что святым угодникам молиться. Зря теряют время.
Идти покланяться Порфирию Иванычу? Не любят воры раскаяния, хоть бы и между собой. Да и завистников-шептунов нажил Май за срок немало. Крутятся вокруг смотрящего, дуют в уши. Оно бы, может, лично и простил его Порфирий, снова принял в свой круг, да надо соблюсти авторитет, наказать молодого за унижение старшего. А вот прочие каторжане, особенно злой и прыткий Камча, из одной ревности могут устроить такую каверзу, после которой быть Лёнечке под шконкой, а то и лежать с гвоздем в ухе. Так пару месяцев назад нашли под утро рязанского бугая, который, «ломом подпоясанный», попер против всесильного законника.
Жалел себя Лёнечка – подбили ему жилы, накинули петлю. Эх, будь ты жив, дедушка Ленин, подсказал бы верный путь!
С верхних нар слышался гундосый голос шнифера Клеща. Тот хвастался, как симулировал кишечную болезнь и две недели провел на больничке у доктора Циммермана, с усиленным питанием и в полном покое.
«Циммерман!» – осенило вдруг Лёнечку. Вот кто поможет честному арестанту! Как же раньше он не вспомнил доктора!
Еще по прибытии в лагерь, на вторичном медосмотре, Циммерман отметил Лёнечку, велел подобрать со склада обмундирование вместо ветхой его одежки. И после выручал – вызывал на хозработы в госпиталь.
Вспомнил Лёнечка очки, кустистые брови, рыжеватые пряди доктора из-под белой врачебной шапочки. Сердце вдруг согрелось, заплясало внутри. Завтра скажется больным, пойдет к лекпому, выпросит направление в больничку. А там Циммерману обрисует всё как есть, попросится на подсобные, хотя бы на пару недель.
Лёнечка поднялся и, проходя по бараку, сверкнул в сторону блатных веселым глазом. Взгляд его поймал Порфирий. И по этой короткой, в полсекунды переглядке, Лёнечка понял, что если не затухнет, не покорится судьбе, а совершит в меру дерзкий и достойный положенца поступок, то будет прощен и снова принят в их круг.
Тася
Прачечная досталась комбинату от немецкого госпиталя. Полуподвал хорошо приспособлен для работы. В нише две машины: барабанная для стирки и центрифуга для отжима. Цинковый желоб под кранами для полоскания белья. Посередке – чугунная дровяная печь, два чана. В них Тася сперва замачивает в хлорном растворе, после вываривает серые от грязи и пота бязевые простыни, казенные рубахи и кальсоны.
После выхода Приказа 1949 года «О мероприятиях по улучшению физического состояния и трудового использования заключенных, содержащихся в ИТЛ и ИТК МВД» по всем колониям прошло распоряжение за каждым зэка закрепить спальное место с комплектом постельных принадлежностей. Следовало также улучшить работу бань, прачечных, сушилок, парикмахерских и прочих санитарных учреждений.
Во исполнение приказа завхоз лагпункта майор Цыбин и сам Корецкий, начальник ИТЛ № 1, уделяют внимание общей гигиене, снижают показатели болезней и смертности. Бывает, Цыбин самолично проверяет стопки стираного белья, хвалит Таисию, придерживая за локоть, шарит глазом за вырезом халата.
Вот уж не думала Тася, что жизнь ее накрепко повяжет тюрьма, или, как в бумагах именуют, «Специализированный исправительно-трудовой лагерь». В эстонский город Нарва она прибыла осенью сорок шестого года, вместе мужем. Свадьбу сыграли в родной деревне Петухово Томской области. Игнат Котёмкин – смелый, ладный парень, наполовину украинец, явился в село завидным женихом. Он навещал родню, Таисия только кончила семилетку – с опозданием из-за войны. Июньский воздух звенел комарами и счастьем – война завершилась победой, впереди огромная и радостная жизнь.
Уже на месте Тася узнала, что муж обманул ее. Что служит он не при военной части, как говорил, а надзирателем в батальоне при Главном Управлении лагерей промышленного строительства. Охраняет заключенных – уголовных, политических, совершивших должностные и хозяйственные преступления. Сопровождает на работы пленных немцев, эстонцев, ингерманландцев и даже нескольких румын. Вся эта многотысячная рабочая сила брошена на восстановление разрушенного бомбами города, на строительство новых корпусов для заводов и фабрик в окрестностях Нарвы.
Привычную к труду Тасю муж определил в хозчасть. Работала кухаркой, уборщицей, прачкой, санитаркой при госпитале.
Многое было в диковинку. Две крепости, русская и немецкая, стоят по разные берега реки, старые дороги на хутора вымощены круглым булыжником, амбары выкрашены в красный цвет. Дети молчаливые, а женщины будто выедают тебя недобрыми белесыми глазами.
Зэков Тася поначалу боялась, после стала жалеть, а потом привыкла.
С мужем жили недружно. По трезвости Игнат был покладист, спор на работу, но от местной самогонки терял человечье обличье, как оборотень на полную луну. Обиды копились, Тася терпела ради детей, но однажды пьяный муж, возвратившись со смены, сильно прибил ее и окатил помоями из ведра. Тут в женщине проснулась гордость, она решилась уйти окончательно. Не хотела, чтоб дети росли и смотрели на ее унижение. Лучше уж пусть никакого не будет мужа, чем так.
Поддержал ее в этом решении главный врач госпиталя Лев Аронович Циммерман. Устроил ей место на Хутор-7, в подразделение лагеря при секретном военном Комбинате, под крыло к всесильному директору Гакову. Тут намечались перспективы новой жизни, строился красивый город, семейных переселяли из бараков в отдельные комнаты. Тасе с детьми обещали жилье вне очереди, к лету.
Директор Гаков тоже вошел в ее положение, выслушал, поверил, помог добиться развода с Котёмкиным. В благодарность за помощь Тася старается, работает на совесть.
За день успевает перемыть полы в администрации, принять-пересчитать грязное, отгрузить стираное по накладным. Отбелить, отстирать, отгладить и личное белье, которое несут прачкам жены руководства. Берет и сверхурочную работу – если надо заменить кухарку в столовой, перемыть окна, хлоркой дезинфицировать отхожие места.
Тася привыкла, что ей приказывают, дают поручения, выписывают наряды. Даже в прачечной ей командует сменщица тетя Зина, которую вохровцы зовут Квашней, а зэки – бабой Квасей. Тетя Зина прибыла в ИТЛ еще в сорок пятом году вместе с малочисленным женским контингентом. Отбыла остаток срока, освободившись, устроилась тут же на Комбинате – ехать ей было некуда.
На вопрос, где ее родные, то ли в шутку, то ли всерьез Зина отвечает, мол, сгинули еще в Русско-японскую войну. Но любит помечтать о том, как помирать поедет на родную Вологодчину. Приговаривает со вздохом:
– Советская родина – она, девкя, няобъятная, как моя жопя. А мы в ней копошимся, что черви малые, по завещанию дедушки Ленина.
Числится за тетей Зиной койка в бараке, но живет она постоянно в прачечной. У нее тут обустроен уголок с периной на сундуке, с ватным одеялом. Смеется: «Ляжу не могу – одна в пологу, нет дружка – потереть брюшка. Было времячко, ела жопя семячко, а теперь и в рот не дают».
Тетя Зина женщина разговорчивая, но при этом скрытная как партизан. Тася слыхала от нее множество срамных и страшных сказок, лагерных баек. А из прибауток ее и пословиц можно составлять энциклопедию. Но за полгода работы в одной прачечной Тася так и не узнала, по какой статье сидела Зинаида, за что попала в лагерь, была ли замужем, имеет ли детей. Конечно, можно спросить Игната, он бы заглянул в архив, но Таисии такой поступок поперек сердца. Не хочет Зина открывать свою судьбу, значит, имеет на то причины.
Не разгадала Таисия и еще одну тайну – где прачка добывает спирт.
Тетя Зина всегда навеселе, но сильно пьяной Тася не видала ее ни разу. Свою норму Зинаида знает, и по части выпивки, и в работе. Бывает, Тася задержится в администрации – то собрание, после которого надо замыть полы, то перестановка мебели – бежит, думает про тюки нестираного белья. А Зинаида уж рассортировала, раскидала по вываркам и кипятильным бакам. Тасе только достать да выполоскать.
Прачка знает о человеческих слабостях не меньше, чем врач или духовник. Образование у Зины – три класса церковно-приходской, но, когда гладит белье для начальства, читает, будто по книге.
– Гляди, у Бутко-то яки подштанники добры, с начесом. А у Нинки панталоны – срамотища, хучь в каберне выступай.
– В кабаре, тетя Зина! – смеется, поправляет Тася.
– Да все едино, проститутка. Честная девкя этакую стыдобу на зад не напялит, – Зинаида расправляет, разглядывает батистовые панталончики. – Кружева-то богатые! Вот бы тебе воротничок. А курица эта на свой огузок пялит. Для полюбовника старается.
– Какой же любовник, тетя Зина, она ведь не замужем? – спрашивает Тася, не в силах сдержать любопытства.
– Девкя, ты по себе-то не меряй! Ты целкой замуж шла, а эта – сверленая дыра. А кто у ней полюбовник – то ведаю, да не скажу.
Тася опускает глаза. Думает про Воронцова. На Комбинате давно поговаривают, что у начальника Отдела подсобного производства шашни с дочкой главного инженера. Что, мол, поженятся они к лету, когда достроят Дворец культуры. Там и сыграют большую богатую свадьбу. Что ж, пара будет красивая. Жених высокий, худощавый, темно-русый, светлоглазый. У невесты фигура, ямочки на щеках. Платье по моде сошьют, не пожалеют денег. А ему костюм – говорят, скоро откроется в городе ателье.
Зинаида смеется, показывая два клыка на верхней десне да коренные в нижней – прочие зубы давно потеряны.
– Не обмирай, девкя, не про твоего анженера речь. Он-то, нябось, век холостым проходит.
Стоит подумать про Алексея, как щеки Таси заливаются румянцем. Уж и не помнит, когда в первый раз его увидала, а кажется, будто с детства знаком. Скромной повадкой, вежливой речью похож он на бывшего их школьного учителя Трофимова. Только тот был сивоусый пожилой мужчина лет сорока, а Воронцову всего-то двадцать шесть, хотя и выглядит постарше.
Как-то приснилось Тасе, что сосед ее наполовину человек, а нижней частью – конь, как видела на картинке в старом журнале «Нива». С тех пор подмечает его сходство с породистым жеребцом чалой масти. Или с наездником, будто из буденновской песни:
И боец молодой
Вдруг поник головой
Комсомольское сердце пробито.
Помнит Таисия свое положение – поломойка, прачка, не девушка – баба с прицепом. Легкая фигурка ее раздалась после беременностей, живот и груди стали тяжелые, словно налитые молоком и плодородием. А инженер человек образованный, хоть и простой в обхождении, а видно, что гордый. Порода в нем не крестьянская и не рабочая, другая. От этого в душе надрыв и беспокойство.
Помнит всё это Тася, да разве же сердцу прикажешь? За время, что живут они по соседству, Алексей стал ей ближе всякого родного человека. Бывает, заслышит его кашель за стенкой, и тепло разливается под сердцем. Или глядит на его руки с длинными белыми пальцами – хочется ей стать на коленки и целовать эти руки. А засмотрится на губы, обветренные и сухие – хочется прижаться к ним своими губами, напоить влажным поцелуем.
Бывает, мнится Тасе, что она сидит в саду на скамеечке в больших атласных юбках, точно леди Гамильтон в трофейной ленте, которую по праздникам привозила к ним в деревню кинопередвижка. А Воронцов подходит к ней в костюме молодого адмирала, рукой проводит по темно-русым волосам, и ямочка у него на подбородке в точности как у того артиста.
Нельзя сказать, что влюблена Таисия всерьез, но зреет, готовится к новой любви после обиды на Игната. Только так ей надо полюбить, чтобы чувствовать ответ. Чтобы взял сокол ясный ее лицо в ладони, прошептал с нежностью:
– Любушка ты моя! Зачем же так долго не видал я моего счастья, когда было оно здесь рядом, об руку.
И шелестит она большой атласной юбкой, и глаза делает кверху, удивленно, как та заграничная артистка, и после поцелуя замирает трепетно, склонив к мужчине голову с длинными гладкими локонами, расчесанными на пробор.
Так мечтает Таисия. А между тем не оставляет разговора. Подсела к Зинаиде Прокофьевне, толкнула плечом.
– А полюбовник у Ниночки-то, он из наших, заводских? Или с лагеря? Или со стороны? Хоть знак подайте, тетя Зина. Ведь все равно дознаюсь.
– Табе что за печаль? Одни пересуды пустые.
Квашня набирает в рот воды, щедро опрыскивает рубаху, распятую на гладильном столе.
– Эх, мне б на двадцать годков помолодее, сидел бы у меня твой анжинер как муха на клею. Да что анжинер, самого бы директора Гакова присушила. Секрет я знаю верный, как мужика при себе закрепить.
Таисия несет макитру с вываренными простынями, опрокидывает в каменный желоб. Лицо и грудь обдает мыльным паром. Хочется еще говорить про инженера, расспрашивать напарницу.
– Какой такой секрет? Уж откройте мне, Зинаида Прокофьевна.
– Вот как соберешься рога-то своему крупному скоту наставить, так и открою. А без причины нечего языком молотить.
Тетя Зина сложила ровной стопкой отглаженное белье Бутко и Ниночки. Взялась за простыни. Плюнула на утюг. И вдруг изрекла, вздыхая:
– Зря ты, девкя, берегешь ее, пязду-то. Чай, не горшок, не разобьется. А грех – он ведь пока ноги вверх. А как опустил – Господь и простил.









































