Текст книги "Уран"
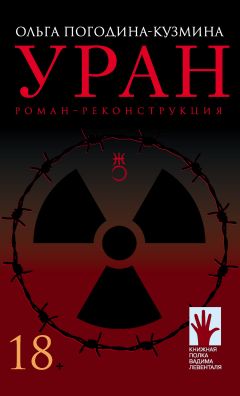
Автор книги: Ольга Погодина-Кузьмина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Гаков припомнил – да, была заявка. Но столько событий произошло за последнее время, что менее существенные вопросы оказались погребены под ворохом важнейших. Обернулся к Воронцову.
– Так что, откроем клуб к Первомаю, Алексей Федорович?
– Откроем, – сдержанно кивнул инженер.
– Ну, вот тогда и заявку вашу постараемся выполнить.
По обычаю гостеприимства для комиссии накрыли банкет в новой школьной столовой. Мероприятиями такого рода заведовала Ангелина Бутко, начальница профкома. Угощенье готовили поварихи с Комбината.
Арсений Яковлевич любил такие застолья. Себя показать, других посмотреть, посоветоваться с вышестоящими товарищами, узнать новости. Сердцем почувствовать биение великого общего дела. И архитектор, и два эстонца, направленные от ЦК республики, оказались мировыми мужиками. Шутили, поднимали тосты, хвалили красоту уютного, будто курортного городка, выросшего на морском берегу за каких-то пять-шесть лет. Гаков делился планами – скоро будет сдан кинотеатр, откроется спорткомплекс. Разрастутся в парке экзотические деревья и кусты, выписанные из рижского дендрария.
А как только установится погода, начнутся тренировки команд и состязания на футбольном поле. К маю обновят сиденья на трибунах. Третий по номеру продовольственный магазин, прозванный в народе «Тройкой», уже сейчас снабжается не хуже столичных торговых точек. Еще два гастронома откроются в городе к Новому году.
Об этом докладывал Гаков за столом эстонскому партийному начальству. Видел одобрение на лицах, радовался дружеской атмосфере. Гости отпускали шутки, делали дамам комплименты. Один Воронцов, сидя на углу стола, молча ел борщ, глядя в тарелку. Спустя полчаса инженер встал, попрощался, сославшись на срочное дело.
Гаков улучил минуту, задержал Воронцова у двери.
– Комиссия довольна, премируем ваш коллектив. Молодцы ленинградские девчонки – какими узорами украсили клуб! Вы же сами из Ленинграда?
– Да, там окончил институт.
– А родом откуда?
Воронцов отвел глаза.
– Я воспитывался в детском доме.
Гаков предложил папиросу. Воронцов отказался – некурящий.
– Дело несладкое, я сам рос без матери. А что в годы войны? Эвакуировались?
– Да.
– Мобилизоваться не успели?
Гаков смотрел в лицо Воронцова. Редкий человек не любит говорить о себе, а этот бубнит под нос, глаза отводит. Не открывает, прячет сердце. Будто груз у него на душе. От обиды, от недоверия к людям? Или есть что скрывать молодому инженеру? Надо будет запросить его анкету. Конечно, при устройстве на Комбинат каждый сотрудник проходит проверку, но от ошибок и халатности не застраховано ни одно ведомство.
Вспомнился ночной разговор с Идой, Гаков прикусил губу.
Сейчас только пришло в голову – у Воронцова бледное, красивое, но вроде как не русское лицо. Так сразу не поймешь, но чувствуется в нем какая-то чужеродность. Эти сухие скулы, глубокие впадины глаз. Еврей? Нет, уж скорей что-то немецкое. Что ж, мало ли у нас обрусевших немцев, еще со времен Петра… Да и в русском человеке столько кровей намешано, всех прадедов не разберешь.
– Почему никогда не заходите к нам, Алексей Федорович? Мы на выходных всегда с гостями. Женщины пироги пекут, мужчины в шашки, в шахматы. И молодежь. Танцуем, слушаем пластинки. На лыжах ходим. Летом на велосипедах. Весело. Дружно. Ведь приглашали вас не раз.
Инженер замялся.
– Последнее время я был болен.
– Теперь-то поправились? – Гаков всё не отпускал инженера, томил у дверей. – Вот что, на Первомай, после демонстрации, мы собираем пикник у речки. Весь инженерный состав. Уж приходите, пожалуйста.
– Да, постараюсь.
– А я подумаю насчет вашей заявки. Поговорю с начальником лагеря.
В этот момент равнодушное лицо будто ожило. Воронцов вскинул глаза, озаренные радостным недоверием. Подбитый журавль, детский дом… Арсений Яковлевич вдруг догадался безошибочным чутьем.
– У вас кто-то близкий в нашем ИТЛ?
Инженер тут же спрятал глаза, дернул щекой, проговорил сухо и резко:
– Что ж вы думаете, я стал бы просить?
Нина Бутко, секретарша, за столом расхохоталась чьей-то шутке.
– Боже мой, как вы меня насмешили! Ха-ха-ха! Умру, сейчас умру!
Весь вечер Гаков старался не смотреть в ту сторону, где мелькала желтая в горошек юбка, но всякий раз чувствовал ее приближение по жару тела, по запаху жасминовых духов. Вот ходит он, хозяин Комбината, заглядывает в души, разбирает чужие тайны. А ведь и сам имеет постыдную тайну, от которой сердце рвется журавлиной жалобной тоской.
– Зря вы ершитесь, Алексей Федорович. Обидеть вас не имею намерения. Хочу понять и помочь.
Инженер помолчал, изучая половицы. И в очередной раз удивил директора вопросом.
– Вы не задумывались, почему полы в казенных учреждениях должны быть непременно такими… буро-красного цвета?
– Такую краску закупили. Видно, самая дешевая, или проще достать.
– Да, наверное.
Гаков думал сейчас о другом. Он видел под стулом пятку лаковой туфельки, чуть сбившийся шов чулка, облегающего ножку Нины.
– Значит, договорились, на майские праздники вы с нами.
Воронцов, прощаясь, протянул руку.
– Спасибо. Постараюсь быть.
Опечатанная комната
Месяц май, пронизанный ветрами, распахнул двери в лето, пьяным небом одурманил буйную головушку, поманил лихой свободой. Вечерком, после поверки, Лёнечка, Камча и еще пара бродяг разлеглись у барака в солнечном мареве, на молодой травке, между волей и зоной.
Мечтали каторжане, загибали пальцы рук – что сделают на воле, каких молочных рек, кисельных берегов отведают, какими утехами насладятся. Каждый верил, что стоит шагнуть за ворота лагеря, как покатится в руки воровской счастливый фарт, а белый хлеб сам намажется сливочным маслом.
Весной у зэков настроение возвышенное, они вообще склонны чувствовать поэзию мира, недоступную обывателю, для которого всю романтику составляет рублевая заначка от жены да покупка трофейного гарнитура.
Лёнечке знаком лирический настрой. Даже стих придумал.
Честный вор всегда страдает,
А гнида вечно процветает.
За легкими мечтами обсуждались и не столь приятные лагерные дела. Амнистия скрипела неспешно. Целые вагоны заявлений, личных дел, анкет и выписок тянулись из далеких ИТЛ в Москву, там разбирались в неизвестных кабинетах, шли обратно. Ожидание это для зэков было особенно томительным, будто одной ногой стоишь на воле, а другую держат кандалы. Массово на волю отпускали лишь иностранных военнопленных и «пособников». Добавляла беспокойства в муторную жизнь и перетряска в ротах и охранных батальонах, устроенная при недавно назначенном начальнике лагеря.
«Новый хозяин», генерал-лейтенант Азначеев, вызывал мно го пересудов, весьма противоречивых. Фронтовик, воевал в составе стрелковой дивизии на Украинском фронте, освобождал Польшу, дошел до Берлина. Сам похлебал из жестяной миски – сидел по делу троцкистского блока, был оправдан после пересмотра обвинения осенью сорок первого года. Обиженные, особенно из политических, имели надежду на послабление от генерала – мол, видал не одно лицевое, знаком с исподним лагерной жизни.
Был и другой шум: мол, Азначеев сам татарской крови, а потому жесток, нелюдим, безжалостен и особую ненависть питает к воровской общине, «законникам» и пристяжным, от которых в свое время натерпелся на тюремной пересылке. Передавали, что в лаготделениях, где заправлял Азначеев, была налажена «трюмиловка» воров. Блатных изолировали от остального контингента, «ломали» в ШИЗО, добиваясь письменного отказа от «бандитских порядков».
Однако ни ослаблять режим, ни «заворачивать гайки» новый хозяин не торопился. Вместо этого начал налаживать в зоне агитационную работу, привычно вызывавшую у контингента насмешки и скуку. По всему лагерю развесили плакаты и лозунги. В бараках «актив» готовил политинформации, устраивал общественные «проработки» новичков, обнаруживших склонность к романтике уголовной жизни. Освобождались бараки военнопленных, в них затевался ремонт.
Свидетельством странного характера Назара Усмановича Азначеева и важным событием, вызывавшим сплетни и толки сидельцев, служило появление в лагере его жены. Красючка с лебединой шеей, в котиковом пальто и тонких лайковых перчатках, с бисерной сумочкой в руке вышла вместе с мужем на поверку и произвела на зэков оглушительное впечатление. Ее разглядывали, как диковинное чудо, вроде жирафа или райской птицы колибри, залетевшей в северные края.
Прошел слух, что зазнобу генерал присватал в прежнем лагере. Что она – знаменитая певица, выступала в приморских ресторанах, попалась на перепродаже краденых цацек с бриллиантами. Косте Капитану вроде бы пришла малява, что до встречи с «хозяином» женщина была подругой козырного вора Фортунатова, убитого в Одессе в сорок девятом году.
Такой красотки недалеким босякам вблизи видать не приходилось, у многих разыгралось воображение. В минуты отдыха блатные упражнялись в сочинении изощренных надругательств над «кумовой куницей», попади она им в руки. Очкастый студент-математик был избит и опущен за то, что позволил себе резко вступиться за честь незнакомой женщины.
Лёнечка же, увидав жену Азначеева, без причины ощутил на сердце лебединую тоску. Вспомнилась ему мать, такая же стройная и большеглазая, с печальной улыбкой. И ножки в узких «лодочках» будто прошлись каблуками по его груди.
Катилась жизнь его блатная, дарила невзгодами и случайной радостью, но, будто опечатанная комната, стоял в душе закрытым угол довоенного детства, куда он не заглядывал много лет. И вот чужая женщина по имени Мария распахнула дверь в потайную комнату, возвращая жигану память невинного счастья.
Об этой женщине всё думал Лёнечка, а тем временем разговор блатных зашелестел беззвучно, перешел на тему тревожную.
Всего пару дней, как просочились в лагерь слухи, но была у них такая сила, как у пачки дрожжей, брошенных в отхожее место. Через весь простор советской Родины, по невидимым проводам, докатилась с Колымы малява о «волынке» – массовых протестах в лагерях.
Шел звон, что кипиш начали политические, ожидавшие, что амнистия даст послабление осужденным по «идейной» 58-й статье. Но все надежды для них обрубил пункт четвертый постановления об амнистии – ограничение для выхода на свободу по срокам свыше пяти лет. При том, что срока шпионам, троцкистам и врагам народа начислялись большие, от десятки до четвертной.
Во многих лагерях блатные поддержали забастовку. Шептались, что и Порфирию знатные воры послали наказы с дальних мест: из Воркуты, Норильска, с Магадана. Но смотрящий выжидал.
Царь-Голод тоже пока сидел тихо, не спешил объявлять себя, формально подчиняясь авторитету пожилого вора.
Однако два центра притяжения в блатном бараке, как две воронки в омуте, затягивали постепенно человеческие щепки – чертей, шестерок, бродяжных людей и мужиков. Висело в воздухе предчувствие, что вскорости черная и красная масть неминуемо столкнутся и зона окрасится кровью.
«Вот бы выйти раньше этого на волю», – мечтал Лёнечка, покусывая травинку. Ехать в поезде, смотреть в окно на пролетающие мимо деревушки, на светлые березовые рощи. Выйти на центральном вокзале, влиться в человеческую суету.
На всей земле нет у жигана родного человека, никто не ждет его, кроме памятных с детства ленинградских улиц.
«Пойду в Летний сад. Мороженое съем, подцеплю козырную гагару, – так мечтал Лёнечка. – Закачусь с ней в ресторан, спрошу для форсу заграничное блюдо, вроде фрикасе. Ах, у вас нет? Ни тебе фазанов, ни павлинов? Ну, тащи, что есть – хоть жареного петуха». Еще бы взять бутылку игристого вина, для легкого кружения в голове, для большей развязности с женщиной.
Бабу найти одинокую, не сильно молодую – чтоб можно у нее пожить, осмотреться. Приискать в большом городе нужных людей. Небось, помогут фартовому бродяге, пропасть не дадут.
Так мечтал ЗК номер 213 Леонид Маевский, пьяный не вином, а запахом весеннего ветра и пробуждающейся земли. При этом знал уже, чувствовал сокровенной частицей души, которая в каждом человеке связана с общей мелодией мира, что мечтам его сбыться не суждено.
Агент U-235. Даниил
Давно я чувствую, что сопричастен движению истории и натяжению нитей по тайному пути, ведущему народы к некой цели. В эпохи древние на площадях пророки толковали ход событий, не полагаясь на один лишь разум, но сопрягая токи магнетизма, сквозь тело проходящие извне. Божественным считалось откровенье.
Я чувствую, как сквозь меня проходит волнами ток могущественных сил, идей преображения вселенной, устройства мира на других началах, и ощущаю власть над жалким стадом, которое зовете вы людьми.
За день до этого в газете видел
Я Сталина портрет
И силой мысли
Решил я уничтожить оболочку,
Мешок из кожи, полусгнивший остов,
Червей и злобы полное нутро.
Смочив слюной химический карандаш, я выбрал точку на виске портрета и стал чертить круги, сосредоточив силу мысли на причиненье смерти. Когда-то я был восхищен величьем, и властью, и пространством страха, которое простер над миром от неизвестного отца рожденный, недоучившийся семинарист. Теперь я понимаю, что он был слепым орудием могучих сил, служить которым я могу не хуже. И даже лучше, ведь осознаю их цель: порабощение толпы и возвышенье избранных, которым дается лучшая награда – власть.
Всё расширяя черное пятно, я по лицу портрета начертал: «Да будет смерть!»
Назавтра Сталин умер.
Я вижу трещины в основе мироздания.
Огромный истукан в чрезвычайном блеске
Стоял перед тобой, ужасный видом.
Сияла золотом его глава,
И серебром – грудная клетка, плечи
И руки, обагренные в крови.
Из меди бедра и пустое чрево,
Которое насытить не могли
Ни жертвоприношенья, ни молитвы,
Ни самооскопление жрецов.
Он твердь земную попирал ногами,
Как будто вырастал из этой тверди.
Его ступни из обожженной глины,
Которую творец определил
Как материал для лепки человека.
Из тысяч человеческих смертей
Производился маленький комок
Для дела подходящей жирной глины.
И Время – этот каменщик великий –
Постройки возводило из нее.
Но день пришел, с горы сорвался камень.
И то, что до сих пор казалось прочным,
Покрылось мелкой сетью трещин. Глина –
Основа жизни, общности людей,
Прах миллионов, принесенных в жертву,
Нагромождения газетных слов,
Поток знамен, плакатов и портретов,
Святая вера и большая ложь,
Как тесто, крепко сбитое руками,
Уже нельзя обратно разделить
На воду, и муку, и соль, и сахар.
И вот, огромный этот истукан,
Утративший привычную опору,
Стал оседать на глиняных ногах.
Крошилась медь, и ржавчина съедала
Железо. Распадалось серебро
На легкую поживу проходящим.
И, разрушаясь, падал истукан.
Так царство разделенное падет –
Я предрекаю.
Далее – молчанье.
Первомай
Эльзе росла в семье любимицей. Единственная дочка, знала, что всегда получит помощь и защиту от братьев, с пеленок научилась забираться на крепкие отцовские колени. Помнила и сейчас запах табака и дубленой кожи от его куртки.
Еще недавно Осе и Вайдо носили ее на закорках, мыли в бане, укладывали спать. Но чужих мужчин – даже своих односельчан, даже мальчиков в школе – матушка строго наказывала остерегаться, избегать.
Грозила матушка, пугала, рассказывала страшные сказки, но никогда не объясняла прямо, чем же опасны для девочки посторонние люди, какое насилие могут над ней совершить. И когда Ищенко напал на Эльзе в лесу, она ощутила не только ужас от свершившегося пророчества, но и смутное изумление – зачем чужак хватал и щупал ее тело, для чего рвал платье на груди?
Хотел убить – мог бы сразу свернуть шею, как цыпленку. Хотел заставить выдать братьев-партизан – пошел бы в милицию, донес на всю их семью, как делали хуторяне в соседних уездах. Что за безумие вдруг охватило этого человека, которому власти доверили такую ответственную работу шофера?
Странным образом чужак заронил в ее душу тревожное любопытство к тайне влечения между мужчиной и женщиной, такой волнующей и непонятной. После того случая в девочке проснулось спящее до времени естество, а с ним томительные, неясные мечты. Как будто ее манили куда-то нежные голоса, перед глазами являлись туманные образы. Она вдруг сделалась рассеянной – замирала с шитьем в руках, опускала на стол мучное сито или засматривалась в колодец. Ум затмевали картины, нарисованные воображением.
Эльзе не могла бы признаться в этом ни одному человеку, но время всё отчетливей вырезало на ее сердце образ юноши-чужака, которого на исходе зимы она встретила в школьном дворе.
Он сказал ей всего-то несколько слов, взял за руку, предложил прокатиться с ледяной горки. И она подчинилась, хотя никому из местных парней не позволила бы такой вольности. Воспоминания о том дне крепко соединились в ее душе с мечтой о поездке в чужой закрытый город на праздник Первомая.
Старшие классы школы, в которой училась Эльзе, готовились принять участие в праздничном шествии на Комбинате, отметить открытие нового клуба. Рисовали буквы на красном кумаче, шили повязки и банты. Матушка нахмурилась, когда впервые услышала о празднике. Отрезала коротко: «Ты не поедешь. Скажем, что была больна».
Но Осе и Вайдо заявили, что должны идти на первомайскую демонстрацию вместе с другими работниками, чтобы отметиться в списках. На счастье, директор школы Рикель, уважаемый в волости человек, встретил матушку на почте и попросил отпустить Эльзе вместе с братьями.
За ужином мать пересказала этот разговор. Вздохнула.
– Как бы не заморочили вам головы этими лозунгами и речами. Ладно, поезжайте. Только сестру не отпускайте от себя!
На другой день, растирая вареный горох для начинки пирога, мама рассказывала Эльзе:
– Раньше, до первой войны, русские ходили вокруг церквей с иконами и хоругвями – такие вышитые полотнища на высоких палках. Нынче на этих же палках они носят портреты Сталина, Ленина и прочих безбожников. А в нашей церкви только Бог на распятии. Молимся мы не картинкам, а истине. Знаешь почему?
Девочка молча покачала головой.
– Потому, что русские хоть на словах и приняли христианскую веру, но на деле так и остались язычниками. Поклоняются идолам, приносят им жертвы. И Майский день – вовсе не советский, а древний праздник поганого лесовика Ярилы. Прежде его справляли тайно в лесу бесстыдные бабы и девки, бегая голышом с молодыми парнями. Водили хороводы, прыгали через костры. Огонь весны разжигал в телах плотский жар, лесная нечисть тянула в чащу, доводила до беды.
Слушая мать, Эльзе с замиранием вспоминала страшные минуты, когда Ищенко подстерег ее на тропинке у Каменного ручья и потащил в болото. Верно, тогда, на исходе февраля, шофера обморочили болотные духи пробуждающейся весны. Может, и правда вселился в него леший Ярило, злой и могучий тролль?
– Мама, зачем же девушки ходили в этот лес? Как не боялись они помрачения?
– Знай, голубка, девушки тоже слышат зов природы. И ты, когда повзрослеешь, почувствуешь весеннее волнение. Дай бог, встретится тебе хороший парень, добрый и работящий. Он придет к нам в дом со своими родителями и сватами. Сыграем свадьбу – как недавно Пуринги выдали свою дочку за того рыбака из Кохла-Ярве.
Прежде Эльзе не держала секретов от матери и теперь ощутила острую вину за свои тайные мысли. Встала, захлопотала по дому, чтоб матушка не видела ее лица. Слышала, как горят щеки – ведь и правда на празднике у соседей Эльзе мечтала о такой же свадьбе, хотела сидеть на месте невесты в белом венке из цветов. Вот только женихом представляла не местного парня, а того чужака с ясным румяным лицом, который внушил ей смелость крепко стоять на ногах, съезжая с горки.
Мыслями о юноше из дальнего края под названием Москва-столица Эльзе будто заранее предавала мать, отца и братьев. Зачем хранила в памяти образ пришлого чужака, сына врагов ее земли? Зачем выдумала, что он веселей и красивей всех парней в их бедной округе?
Эльзе помнила, как в былые времена отец за столом читал псалмы по ветхому, с тонкими листочками, лютеранскому молитвослову. Толковал детям темные места, поминал, как часто Враг человеческий приходит в обличии красоты и соблазна.
И матушка твердила то же:
– Главное, дочка, не дай себя обмануть, заморочить, – пристально смотрела, подбивая тесто горстью муки. – Чужие люди с виду ласковы да приветливы, а в сердце носят змею. Особенно те, что просят о тайных встречах, скрываются от родных. Таким мужчинам нельзя доверять. Оплетут, обманут и оставят тебя глотать горькие слезы.
Испуганной птичкой сжалась Эльзе. Пыталась вспомнить молитву, которой учил отец. «Предаю себя, мое тело и душу, все, что есть у меня, в Твои руки. Святой твой ангел да будет со мною». Но вместо ангела мысленным взором снова видела ясноглазого мальчика, который в солнечный февральский день прокатился вместе с ней с ледяной горы.
В ночь перед Майским днем Эльзе почти не спала, всё представляла красивый город, о котором только слышала из рассказов Осе и Вайдо. Какой этот клуб – наверняка больше и красивей, чем их школа с актовым залом? Каких людей она увидит – злых и страшных, как Ищенко, как солдаты и лагерные охранники? А может, добрых, как русские учительницы, как соседка, служащая на почте? Встретит ли ясноглазого Павла? Ведь тогда, в школьном дворе, он обещал, что приедет к дяде на Первомай. А если встретит и не узнает ее? Что ему хуторская девчонка, с которой и говорил-то всего несколько минут?
В Москве, она слышала, женщины ходят в тонких чулках и крепдешиновых блузках. А у нее всего-то два шерстяных платья, сто раз перешитых и перелицованных. И пальтишко совсем износилось, из рукавов торчат худые запястья. Да и сама она бледная, худенькая, с руками, загрубелыми от домашней работы. Ей ли равняться с краснощекими актрисами, певицами, делегатками съездов, которыми полна Москва? – Их видела Эльзе, украдкой листая в библиотеке советские журналы.
Москву Эльзе представляла как огромный лесной муравейник, облепленный снующими повсюду людьми и машинами. Вздыхала: как тот мальчик живет в неуютном краю, полном чужаков? Думая о нем, всё чаще забывала, что он тоже чужак, враг, которого следовало бояться и ненавидеть.
Утром Первомая Эльзе поднялась раньше всех в доме. Умылась, повязала косы голубыми лентами. Увидела, что к ее школьному платьицу подшит красивый воротничок, который мать прежде сама надевала по праздникам, а нынче берегла в сундуке.
Брат Осе еще вечером подбил и до блеска начистил старенькие ботинки сестры. Вайдо, умевший шить почти как настоящий портной, невидимым швом заштопал чулки. И вот нарядная, взволнованная, стараясь не запачкать и не помять одежду, Эльзе простилась с матушкой. Вместе с братьями через лес вышли к шоссе, поймали попутный грузовик, подпрыгивающий на каждом ухабе.
Возле школы ждали учителя и два десятка старшеклассников, у многих на одежде прикреплены красные банты. Набились в железную коробку автобуса, подняли веселый гвалт. Кто-то затянул русскую песню. У многих на одежде виднелись красные банты, в руках портреты и транспаранты. Вся молодежь была словно пьяна тем весенним волнением, от которого предостерегала Эльзе мать.
Проехали рощу, поворот, на пропускном пункте шофер показал бумаги, затем начался город. Эльзе смотрела во все глаза. Асфальтовая дорога, вдоль нее посажены молодые деревца с гладкими светло-зелеными стволами – таких она не видела в лесу. Началась улица – двух-трехэтажные домики, покрашенные желтым и белым, украшенные лепниной. Веселый, уютный, будто игрушечный городок полюбился девочке с первого взгляда.
Зерна новой мечты упали в сердце. Как замечательно было бы здесь отпраздновать свадьбу! Пройтись по зеленым улицам с веселыми гостями, накрыть длинный стол во дворе, пригласить всех соседей. В таком вот домике с верандой и круглым чердачным окном, а не в серой хуторской избушке поселиться с мужем.
Над водонапорной башней увидела Эльзе большое аистиное гнездо. Знала от матери, что белые аисты приносят людям счастье – маленьких детей.
– Вы не говорили, что этот город так красив, – сказала с обидой, обращаясь к братьям.
– Мы здесь в первый раз, – признался старший Вайдо. – На Комбинат нас привозят другой дорогой.
Школьники, учительницы тоже смотрели по сторонам, раскрыв глаза и рты. Кажется, и сам директор Рикель был поражен увиденным.
– Смотрите, Дворец культуры! – пронеслось по рядам, и все прильнули к окнам автобуса.
Дворец с большими белоснежными колоннами стоял в окружении молоденьких елок. Чайки летали над крышей, и огромные белые вазы украшали лестницу, ведущую к морю.
– Какая красота! – шептались девочки. – Здесь будет концерт, и танцы!
Все окна автобуса были открыты. Из репродукторов звучала музыка.
«Неужели я не встречу его сегодня?» – с растущей тревогой подумала Эльзе, уже понимая, что напрасное ожидание сделает счастье неполным, погасит радость этого пронизанного солнцем дня.
Их подвезли к проходной завода, где уже собирались по цехам колонны рабочих. В толпе там и тут были разбросаны алые пятна знамен, бантов, нарукавных повязок. Много было мужчин в гимнастерках, с медалями и орденами. Бодро шагал через площадь директор Гаков в черном костюме и светлой шляпе, он тоже надел ордена. На плечах его сидела нарядная девочка лет шести. Худая женщина в полосатой юбке торопилась вслед за ним, вела за руку маленького сына.
Двери автобуса открылись, гармонист заиграл бодрую песню. Школьники ринулись к выходу из автобуса, толкая друг друга, вскрикивая в суматохе. Эльзе спрыгнула на землю одной из последних. Осе приколол ей на грудь красную ленту. Братья наказали ей не отставать от школы, а сами присоединились к группе рабочих.
Девочка стояла и смотрела на весело галдящих одноклассников, остро чувствуя свое одиночество. Близких подруг у нее не было – разве что Айно, дочь мельника из Ору. Но разве та поймет, какая забота тяготит душу Эльзе?
Матушка внушала детям, что главное в жизни – кровь, семья, уходящая вглубь времен родовая связь. Двоюродные братья, партизаны из рядов Омакайтсе – их тоже соединяла общая клятва, единая с Сеппами кровь. Самым страшным проступком у них считалось предательство, а для защиты близких каждый готов был погибнуть или убить.
Вальтер, командир партизанского отряда, узнав о том, что случилось у Каменного ручья, вынес приговор шоферу, а затем и каждый из братьев повторил звенящее слово Surm, что означает «смерть». Пять раз оно прозвучало в землянке.
Õhuke – Худой, человек с комбината, говорил, что Ищенко может донести в милицию и показать секретный бункер, но Эльзе знала, что не это главная причина. Видела, как гнев заливал краской лица мужчин, когда они слушали ее сбивчивый рассказ.
Той же ночью Осе и Вайдо привели Эльзе к месту казни, и девочка пять раз плюнула в глаза чужаку, который дрожал и скулил, как издыхающий пес, весь измазанный кровью и черным болотным торфом. Чтобы покойник не ходил после к дому, не заглядывал в окна, Вальтер прочел молитву и раздавил сердце врага – мощным ударом воткнул ему в грудь заточенный деревянный кол.
Вспоминая эту минуту, Эльзе вдруг услышала радостный оклик.
– Здравствуй! Ты меня помнишь? Как здорово, что ты пришла!
Юный чужак стоял перед ней – стройный, русоволосый. Он казался выше, чем помнила Эльзе, хотя в тот день на нем была меховая шапка. Мальчик был выше братьев и почти всех мужчин, собравшихся у проходной.
– Прошлый раз забыл спросить, как тебя зовут! Я – Павел, или просто Павка. А там – мой дядя, товарищ Гаков, он директор Комбината!
– Эльзе, – выдохнула девочка. – Там мои братья, Осе и Вайдо.
– Они работают на Комбинате?
– Да, в первом цеху.
Павел улыбался. Эльзе молчала, не зная, как продолжить разговор.
Солнце-Ярило из мрачной космической бездны посылало потоки горячих частиц, согревающих Землю, но почти не достигающих седьмой по счету ледяной планеты Уран.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































