Текст книги "Лицей 2023. Седьмой выпуск"
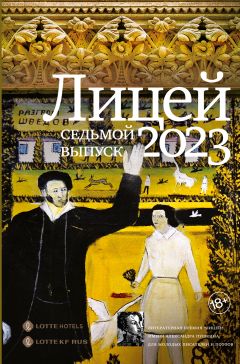
Автор книги: Ольга Шильцова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава десятая
Вадим проснулся так, как просыпается хотя бы раз в жизни каждый студент. Мама трясла его за плечо, и ее недовольный голос был способен пробить даже самый крепкий сон.
– Вадим, Вадим, да проснись ты! Двадцать минут восьмого уже! Ты же собирался с утра доучить глаголы! Вечером обещал!
О, какое же это унижение – тебе, двадцатилетнему, лежащему под одеялом в одних трусах, вставать в осеннее утро на пару, которую уже решил пробить! И ведь не объяснить маме, что к Черноусову лучше не прийти никак, чем прийти плохо готовым, что этот прогул не отразится ни на чем – до сессии еще куча времени, – что это, в конце концов, его жизнь, его выбор факультета, и за обучение никто не платит, и уж, наверное, он со всем этим как-нибудь разберется.
И даже сослаться на «мне ко второй» не получится – увы, но расписание его пар она знала. И считала сына, хоть он уже и учился на третьем курсе, едва ли не более опасным оболтусом, чем сына-десятиклассника.
За окном едва брезжил рассвет. Вдалеке, за Железнодорожной, гулко грохотал товарняк, отдаваясь эхом в дребезжащем стекле серванта: немецкий дом послевоенной застройки таил в себе деревянные перекрытия, чутко улавливавшие вибрацию проходящих поездов. В детстве Вадиму нравилось засыпать под это убаюкивающее подрагивание. Можно было представить, что ты и сам куда-то едешь далеко-далеко – на теплое море, наверное, а вовсе не на латынь первой парой в конце октября.
Но эта дорога не шла на море. Эта дорога вела на Мгу и Волховстрой, и Вадим помнил, что когда-то по этой дороге его деда увозили в эвакуацию.
Пришлось вставать. Времени не оставалось уже не только на лексический минимум из десятого параграфа учебника Попова и Шендяпина, но и на завтрак.
Вадим не очень любил приезжать в Металлострой. Не только из-за таких вот подъемов. Каждый приезд его обманывал. Вадим ждал, что будет как всегда: синее небо с балкона, овсянка на завтрак, которую, так уж и быть, можно обильно посыпать сахаром, и вечный футбол по вечерам, когда и бабушка, и дедушка болели как за родных и не могли налюбоваться на молодого Аршавина.
Сейчас мама жила там одна.
Мебель осталась на прежних местах, и балкон был таким же чугунным и крохотным, и немецкая лепнина такой же старомодной. Можно было сварить овсянку и посыпать ее сахаром, в этом не было никакой проблемы. Так отчего же каждый раз Вадим уезжал с чувством того, что его обманули? И отчего это чувство все острее?
А самое главное – после сделанного ремонта изменился запах. И в какой-то момент, в какой-то приезд Вадим понял, что он его забыл. Забыл запах. Запахи вообще узнаются легко, а помнятся трудно. Нет у человека такого органа, который бы их помнил.
Он жил поначалу с мамой после развода. И места было больше, и район получше. Когда они остались в этой квартире вдвоем, ее контроль за ним стал, по его представлениям, чрезмерным, и он мало-помалу перебрался к отцу. Это произошло постепенно: сначала Вадим стал уезжать туда чаще, чем обычно, потом оставаться на целые выходные, а потом в какой-то день перевез вещи. Предлог был благовидный: ездить оттуда в универ было ближе. И вот сейчас, видимо, мама разыгрывает этот предлог в свою пользу.
…Из железной двери парадной, бегом через двор, через аллеи с голыми деревьями, через огромную площадь с помпезным домом культуры – к двести семьдесят второй маршрутке.
Каждый приезд в Металлострой убеждал Вадима в том, что в мире архитектуры не было и нет ничего человечнее сталинской послевоенной застройки. Объяснить себе этого феномена он не мог, но это определенно было так.
Двухэтажные немецкие домики с тупоугольными эркерами и черными чугунными балконами выстраивались в линию, в ряд, в каре, организовывали собой хаос пространства, а значит – уменьшали энтропию. Было среди них множество одинаковых в планировке, и не было среди них двух одинаковых по цвету: желтые, оранжевые, малиновые, серые; были среди них отремонтированные вчера и были среди них отремонтированные в прошлом веке. Штукатурка последних переливалась разводами, напоминавшими мрамор.
Плюхнувшись на протертое кожаное кресло, Вадим ощутил такое приятное тепло, предательски исходящее откуда-то из чрева газельки, что понял: повторить глаголы он точно не сможет. Тепло разливалось по закоченевшим под тонкими джинсами ногам, убаюкивало. Хотелось уставиться в окно и ехать так целую вечность, скрестив руки на груди и спрятав ладони под мышками.
Маршрутка зачем-то дала кругаля и пошла по Железнодорожной, где сбоку от платформы, в зарослях пожухлой травы, на двух массивных бетонных распорках, напоминавших рогулины улитки, висели в воздухе железные буквы: «ЛЕНИНГРАД». Буквы когда-то были красными, а обрамлявший их прямоугольник – белым, сейчас же и то, и другое стало ржавым.
Советский проспект уже встал. Разблокировав телефон, Вадим ткнулся в синюю галочку и сонными глазами уставился в ленту. Еще не доезжая пожарной части, где над кирпичной каланчой навеки застыла в воздухе красная машина, Вадим закемарил.
В Рыбацком его растолкали.
– Вадим, скажите мне, в каких случаях употребляется Nominatīvus cum infinitīvo?
– В пассивном залоге.
– Что в пассивном залоге? Приведите пример.
– Dicunt eum virum non… non bonum socium esse[1]1
Говорят, что тот муж не… не является хорошим союзником.
[Закрыть].
– Это Accusatīvus cum infinitīvo.
– Да. Сейчас… сейчас я переделаю.
Неприятная тишина. Даже вентиляция не шумит.
– Eus vir…
– Нет.
– Is vir… is vir non… bonum…
– Вадим, это же очень просто. Конструкция Nominatīvus cum infinitīvo структурно вполне соответствует конструкции Accusatīvus cum infinitīvo. Разница только в том, что в Nominatīvus cum infinitīvo логическое подлежащее, выраженное прежде винительным падежом, здесь выражается именительным. Сохраняется и логическое сказуемое в виде любого из шести инфинитивов, и необходимость согласовать подлежащее в числе, лице и роде с управляющим глаголом. Вы правильно сказали про пассивный залог, но дело ведь в том, что зачастую этот пассивный залог сугубо формальный, грамматический. Это касается тех отложительных глаголов, которые не имеют активного залога в латинском языке, но имеют в русском. Не молчите. Мне нужно понимать, что вы понимаете, понимаете?
Вадим молчал. В общем и целом он представлял себе эту конструкцию, но воплотить ее в качестве единого целого решительно не мог. Голова гудела, д’Артаньян чувствовал, что тупеет.
На доске уже тем временем появлялись два параллельных столбика глагольных окончаний, от которых черными маркерными пучками тянулись связи к несчастному мужу, поставленному в неловкое положение меж двух падежей.
В конце концов, с грехом пополам предложение было составлено.
Затем Черноусов дал еженедельный тест.
– Первый вариант спрягает глагол «ненавидеть»… второй вариант спрягает глагол «убивать», имею в виду без пролития крови – да, латинский язык богат на такие нюансы… Первый вариант склоняет «тот достойный всадник», второй – «этот большой ученик»… и, наконец, лексический минимум: пословица… сестра… змея…
Черноусов диктовал достаточно размеренно, чтобы можно было успеть записать. Потом дал минут десять на выполнение задания и еще пару минут для проверки.
Вадим сдал почти чистый лист.
Черноусов проверял работы всегда сразу же, бегло – для него это было рутинной операцией, не сложнее чем разогреть тарелку в столовской микроволновке на четвертом этаже. В руках его резко дергалось черное стальное перо, черкавшее крест-накрест целыми кусками.
– Пословица по-латински, Вадим, будет proverbium, а не verborium… Verborium – это какое-то глаголище.
Кто-то издал нервный смешок. Вадим молчал. Он знал, что получит кол, на которые magister никогда не скупился.
Зато – приехал! Спасибо, мам. Определенно, это унижение того стоило.
Самое паршивое, что перед Черноусовым было и в самом деле стыдно. И не из-за того даже, что он, Вадим, учась на третьем курсе, пересдает предмет из первого, чтобы поменять кафедру – извинительно напрочь забыть язык, которым два года не пользовался. В случае с Черноусовым нельзя было знать наверняка, как он относится к извечной студенческой неорганизованности (на вопрос о том, будет ли зачет на вечернем факультативе, который, вроде бы, добровольный, он как-то ответил: «Каким бы няшечкой и мимишечкой ни был студент, у него есть только два мотиватора: экзамен и зачет»), но казалось, что каждое проявление их незнания ранило его абсолютно искренне.
Вадим понимал, что это было педагогической тактикой Черноусова – задирать планку заведомо высоко. И все-таки это работало.
Как-то раз, в самом начале первого курса, обращаясь к зеленым вчерашним школьникам, Черноусов, неожиданно перейдя с другой темы, спросил:
– Все же читали Эразма Роттердамского?
Аудитория дружно помотала головой.
– Но послушайте, – голос Черноусова звучал трагически. – Ведь если мы не будем читать Эразма, то мы будем всё ближе к тому, что вы, именно вы, – он указал пальцем на побледневшего парня за партой у стены, – будете тем, кто будет стрелять по толпе с крыши.
В конце первого курса Вадим попробовал почитать Эразма. Почти ничего не понял. И все-таки что-то понял.
– Планы на вечер есть?
Вадим апатично пожал плечами.
– Пойду пообедаю. Потом посплю у философов на этаже. Выучу этот проклятый лексический минимум, пойду пересдавать. Черноусов на кафедре все равно до шести.
Денис склонился над ним и с видом Мефистофеля взирал на одногруппника.
– Есть идея получше.
– Какая? – без особого интереса спросил Вадим.
– Сегодня у меня будет туса, приходи. Сестру твою я уже позвал вчера. Черноусову ты и на следующей неделе сдашь, все равно сейчас не выучишь ничего.
Вадим в очередной раз подумал, что Денис к его сестре явно неравнодушен. Она была старше их на два с половиной года, и это, может быть, было не так фатально, как в средней школе, но все еще ощутимо.
– В честь чего? – спросил Вадим. – Четверг же.
– Ни в честь чего. Квартира в моем распоряжении. Это здесь же, на Ваське, двадцать минут ходу. Синк эбаут ит.
Вадим с тоской посмотрел в окно. В стекло лепил снег, и, хотя время едва перевалило за обеденное, уже появились первые признаки грядущей темноты. Самые крохотные. Вывеска на другой стороне улицы, даже не сама вывеска, а подзаголовок под ней – вот это уже отсюда нельзя было прочесть, а остальное все было по-прежнему. Еще один убитый день. Еще один хвост к зачетной неделе.
– А кто еще будет?
– Я не знаю, с кем из них ты знаком. Много наших, но и не наши тоже будут. Ты если хочешь, можешь еще кого позвать, народу много будет.
По-хорошему, надо отказаться. Нет, конечно, можно пересдать и позже – подучив заодно Вергилия, который висит на нем еще с прошлого месяца, но лучше все-таки не копить…
С крыши двенадцати коллегий сорвалась глыба льда и разбилась об асфальт, разлетевшись мелкими брызгами.
– Ну пошли, – сказал Вадим.
Лестница, как и подобало дому того времени, навевала грустные мысли от сравнения с современностью. Перила из благородного дерева потемнели, но по-прежнему держали крепко. Окна на межэтажных площадках кое-где были инкрустированы цветным стеклом, частью потускневшим и потрескавшимся. По видимости, изначально витраж занимал окно полностью, но постепенно был заменен обычным стеклом.
На полу лежала метлахская плитка со скошенными углами, делавшими ее восьмиугольной. На ступенях по бокам тускнели медные кольца для удерживания ковра, но ковра на лестнице, конечно, не было. Кованые балясины изгибались в форме цветов и устремлялись наверх. Модерн, мимоходом отметил Вадим. Вот это – парадная, с тоской подумал он, а нынешние… правы москвичи, подъезды.
На шестом этаже Денис остановился. Извлек из кармана связку ключей, выбрал один – латунный, с большим плоским концом – и четырежды повернул в замке старой двери, обитой советским дерматином. Кое-где дерматин истерся, и сквозь него проглядывала вата.
– Значица так, народ, – громко и внушительно, как подобает хозяину, произнес он, запустив людей внутрь. – Квартира бабушкина. Так что хрусталь не бить, бычки где попало не оставлять. Перед уходом все будет нужно убрать. Рил ток, плохо уберем – больше квартиру не получим.
– А где бабушка? – спросил кто-то.
– Изволили отбыть до завтрашнего дня в Гатчину, – ответил Денис, и Вадим в который раз подивился широте регистра и скорости переключения штилей.
Вадим не помнил точно, кем была бабушка Дениса, и он любил Петербург за то, что география местожительства не диктовала социальный статус напрямую. Его бабушка могла быть женой академика – а могла быть младшим научным сотрудником. Могла в этой квартире родиться и, пережив или выжив соседей по коммуналке, отстоять фамильные метры – а могла въехать сюда уже в новом веке, с подачи заботливого сына-бизнесмена.
…К четырем часам произошло чудо: тучи раздвинулись, термометр подтянулся на три с половиной перекладины, и Петербург преобразился. Он словно помолодел на два месяца, и будто бы даже на два часа почти севшее солнце подсвечивало облака, а через них – город. Только, казалось бы, улегшийся снег стремительно таял.
На город опускался вечер. Это была та самая пора дня, когда любому живому человеку физически невыносимо быть здесь и сейчас, чувствовать своими плечами тяжесть неба. Не оттого, что оно слишком тяжелое – а оттого, что жмет слишком сильно. Вырос ты, и никогда больше не будешь маленьким, и этот неожиданно светлый и теплый осенний день не повторится.
Вопреки обещаниям, никого из здесь присутствующих Вадим не знал или почти не знал. Это была сборная солянка самых разных людей с разных гуманитарных факультетов из круга общения Дениса. Впрочем, людей было до того много, что все довольно быстро разделились на кучки и разбрелись по комнатам.
В квартире стоял равномерный гомон. Голоса, как у плохого звукорежиссера, наслаивались друг на друга, и можно было говорить, не стесняясь, что тебя будет слышно за несколько метров. Несмотря на запрет Дениса курить, дым уже висел в воздухе.
Вадим принялся блуждать, перетекая из одной комнаты в другую и невольно – а чаще вольно – подслушивая чужие разговоры. Ему было скучно – не оттого, что люди или место были плохими, но оттого, что испорченное с утра настроение не желало исправляться. Напротив, ощущение неправильного, безответственного выбора, за который неизбежно придет расплата, свербило в его мозгу.
В гостиной, большой и просторной, обставленной тяжелой, требующей к себе уважения мебелью («Я, молодой человек, Сталина живым видел, поэтому попрошу на мне ногу на ногу не закидывать», – говорил ему стул), пили ликер. Здесь был сам Денис, еще две девицы и один парень, которых Вадим не знал, и сестра.
– Здравствуй, Вадик, – доброжелательно, но все равно по-старшесестрински крикнула она ему и положила голову Денису на плечо.
Вадим кивнул.
– Ну какой чемпионат, куда нам? Все просрем, – безнадежно махнув рукой, горячился незнакомый парень. – Шестьдесят четвертое место в рейтинге ФИФА, о чем ты…
Сидевшая рядом с ним девушка слушала его очень внимательно.
– Я тебе еще раз говорю, – как ребенку, втолковывал Денис, – мы не играем отборочные, поэтому…
Вадим вышел.
В соседней комнате Вадим не знал никого. Он присел на подлокотник бархатного дивана – диван был слишком большой, неестественно большой для этой второстепенной комнаты – и попытался следить за разговором, но мысли и взгляд его блуждали, переходя с венгерского буфета на изразцовую печь-голландку, с фотографии статного мужчины в форме надворного советника на фотографию разухабистого хлопца в форме старшины второй статьи. Разговор шел о немецкой философии на языке двача, и слушать его было одновременно смешно и мучительно. Вадим, конечно, не мог поспорить с тем, что Шеллинг в сравнении с Гегелем соснул, что любой детерминизм, кроме географического, – херня полная и что, разумеется, абсолютной полнотою должно быть А, определенное через А+В, поскольку определимое должно быть определено определенным, а определенное – определимым, и вместе с тем ничто из этого не достигнет той полноты, которую достигает мамка Горячаева. Кто такой Горячаев, Вадим не знал, но предположил, что его здесь не очень любят.
Судя по посуде, здесь пили водку.
И Вадим отправился дальше, в причудливое путешествие по напластованию судеб и архитектур. Про себя он решил, что эту квартиру переделывали по меньшей мере два с половиной раза. Ее уплотняли и разуплотняли, ее причисляли и к ведомственной жилплощади, и к маневренному фонду, ее постигал капитальный ремонт шестидесятых и, к счастью, не постиг евроремонт девяностых.
В той комнате, где говорили о футболе, паркет был оригинальным и крепким. В той, где бугуртили с неотрефлексированной подмены апостериорного знания априорным, паркет высох и растрескался. Здесь, в коридоре, под ногами скрипела советская лесенка, и ее дощечки приподнимались со своих мест, когда наступаешь на них.
Рельеф стен напоминал географическую карту в издании для слепых. Сверху вниз протянулись марианские впадины отвалившейся штукатурки и горные хребты неаккуратно замазанных штроб. Все это было скрыто под материками обоев, которые, как и настоящие континенты, состояли из многочисленных слоистых отложений.
Перегородки были расставлены до того непредсказуемо, что в них можно было заблудиться. Завернув за очередной угол, Вадим снова увидел печку и несколько секунд не мог сообразить, что это та же самая печка, только с другой стороны. Внизу была видна чугунная дверца, заделанная наглухо.
Окна кухни выходили во двор, но тут же и упирались в противоположный дом. На кухне пили чай. Но горячились пуще всех прочих.
– А я не верю Навальному, – словно вколачивая гвозди, говорил какой-то парень. Его лицо налилось красным, лоб вспотел, не очень чистые волосы сползали на очки, и он постоянно поправлял их рукой.
Напротив него сидела испуганная девушка с вьющимися волосами и маленькими черными глазками, делавшими ее похожей на выдру, и молча внимала.
– Все его расследования – это просто сливы. Никто бы ему не дал просто так летать на дронах.
– Ты дрон вообще видел? – подал голос кто-то от раковины. Там уже начинали смывать следы своего пребывания на местной посуде.
– Видел, и что?
– Когда он в небе на высоте сотни метров – кто его заметит?
– А средств защиты, по-твоему, не существует?
Моющий посуду обернулся.
– То есть, по-твоему, дворцы Медведева охраняют развернутые комплексы средств радиоэлектронной борьбы? Интересно.
Его оппонент фыркнул.
Неожиданно за окном ударил салют. Все инстинктивно повернулись, но фейерверк бил с другой стороны, с улицы, и разглядеть его можно было лишь во вспышках на стеклах верхних этажей до́ма напротив. Как зеркала, они загорались и гасли, загорались – быстро, гасли – медленно.
…Володя, молодой филолог, курил в форточку и, размахивая руками, объяснял что-то девице рядом с ним. Толпа у окна зажала его в угол, но он, кажется, ни на это, ни на сам фейерверк не обратил никакого внимания.
– Я тут в стопицотый раз перечитал любимое стихотворение Рыжего, это которое: «В полдень проснешься, откроешь окно – двадцать девятое светлое мая: господи, в воздухе пыль золотая. И ветераны стучат в домино. Значит, по телеку кажут говно…»
Володя, видимо, хотел процитировать две-три строки, строфу, может быть; и читал без интонации, на одном дыхании, но так и прочитал его полностью, и тут же, без паузы, перешел к своей мысли:
– И, Аня, там «кажут»! Я все это время читал «скажут»! И я вот не могу отделаться от мысли, что мой вариант лучше, потому что вносит новую точку обзора в этот пейзаж. Мы и так понимаем, что это взгляд в прошлое из будущего, но вот это будущее время глагола на секунду добавляет будущее в прошлое. Причем это «значит» ничем не обосновано: нет никакой связи между ветеранами и говном по телевизору, кроме самой эпохи. Это как бы взгляд в телескоп: ты видишь, что там двадцать девятое светлое мая и ветераны стучат в домино, значит, это детство, и эта связка опущена; а в детстве – говно по телевизору, и это как бы само собой разумеется, тут нет даже осуждения власти или чего-то такого, просто констатация. Причем его не говорят и не сказали – его скажут. Это твердая уверенность в своем прошлом, ты как бы знаешь его на ощупь. А у Рыжего просто логичное следствие. Вернее, причина: ветераны на улице, значит, прямо сейчас кажут говно. Никакой сложной оптики, никакого двойного дна. Я уж молчу о двух стилистически сниженных словах подряд – кажут и говно, это неоправданное семантическое столкновение.
Девица внимательно слушала.
Интересно, подумал Вадим, он ее клеит или в самом деле про стихи думает.
Он вышел из кухни и двинулся в обратном направлении, мимо дверей и шкафов, ведомый половицами паркета, как деревянной гатью.
В коридоре – о да, здесь можно было стоять и говорить прямо посреди коридора – ничего не пили. Тема для беседы была наиболее избитой; да и сами спорщики большого интереса не представляли: одним был Денис, оставивший попытки понравиться Вадимовой сестре, другой была их общая однокурсница со смешной фамилией Натощак. Ее звали Ира, она была дурна собой, и не столько даже внешне, сколько внутренне. Вадим видел на ее странице ВКонтакте подписки на относительно приличные «Левый фронт» и «Пятый интернационал» и совсем уже неприличные вещи вроде «Веселого чекиста». Ира Натощак регулярно постила фотки в косплейных костюмах НКВД с разного рода маршей и митингов.
Вадиму было не очень интересно слушать ее агитки, и он зацепил лишь фрагмент ее пламенной речи:
– …ну какие массовые репрессии, Денис, у тебя что, кого-то репрессировали? У меня никого, ни деда, ни бабку, и у тебя наверняка тоже. Моей бабушке от Советской власти досталась квартира в Петро-Славянке…
Не надоест им, с раздражением подумал Вадим. Спорят так неистово, будто все это имеет отношение к современности и может на что-то повлиять. Никого из этих людей давно нет, и споры эти идут ради собственного эгоизма.
На балконе, словно пытаясь ухватить последнее – теперь уж точно последнее – тепло в этом году, стремительно таявшее с наступлением вечера, пили коньяк. Они были постарше и в целом выглядели гораздо сдержаннее прочих. Одного из них Вадим знал. Это был Миша Тверской, магистрант последнего курса с их кафедры. Высокий, русый, сероглазый, он являл собой воплощение средней полосы, как Вадим себе это представлял. Даже имя свое он оправдывал: в его походке, во всей фигуре, неторопливой и уверенной, было что-то медвежье.
Миша вел неторопливую беседу со своим товарищем, который был уже изрядно пьян.
– …они ее запевают два раза. Не всю.
– Лично я в дичайшем восторге от пантомимы Фарады в начале. Эта его пластика – вот это настоящая актерская игра. И тот, кто ему аккомпанирует – вот это задирание ноги, как будто ее рукояткой подкручивает повыше, – тоже блестяще.
Он попытался изобразить, как Фарада задирает ногу, но зашатался и схватился рукой за дверной проем, чтобы не упасть.
– А я, знаешь, – сказал Миша, – на этом примере понял, что в целом это и есть мое отношение к тому времени. Что Герман снимает жуткий конфликт про палачей и жертв. Да, его Лапшин не убивает невиновных, но он силовик… Но главное – все равно тоска и любовь к старикам, это для меня, пожалуй, главное.
Не сразу, но Вадим сообразил, что речь идет про фильм «Мой друг Иван Лапшин».
– Да, тоска по старикам, – согласился его товарищ и затянулся сигаретой. – Очень знакомое и очень живое чувство, которое, знаешь, даже тридцатые неожиданно очеловечивает. Я вот буквально на днях понял, что это отделяет для меня пожилых сталинистов от молодых. Пожилые – как мой покойный дедушка, например, – впитали это как часть своей жизни. И оправдание репрессий не мешало их поколению и ему лично быть добрым человеком. С точки формальной логики это странно, но по-житейски понятно. А вот молодые сталинисты, лишенные в подоплеке всего этого ностальгии, вызывают буквально отвращение.
Он затушил сигарету в стаканчике и подытожил сентенцию:
– И поэтому я думаю, что мы сильно недооцениваем ностальгию как одну из важнейших вещей, делающих человека человеком.
– Да, в точку, – согласился Миша. – Меня воспитывали, то есть били по башке и показывали добро и зло, сестры деда – они родились в девятьсот одиннадцатом, шестнадцатом и двадцать третьем. Бабушка была тридцатого года рождения… К сожалению, время от времени ностальгию использует власть, поэтому я сам для себя не могу сформулировать отношение, например, к Бессмертному полку.
– Я тоже. И я бы, наверное, не пошел. Но тысячи идут искренне. И движение не власть породила – власть возглавила.
– Да, от того, что искреннее, от этого еще больше сам не понимаю, как относиться, – пробормотал Миша и залпом осушил свой бокал.
– Ну так позволь себе такую роскошь, как отсутствие мнения. Вряд ли ты часто этим грешишь.
– Чаще, чем хотел бы, – тихо сказал Миша.
Что ж, подумал Вадим, Черноусов мог бы быть спокоен. Здесь явно не будут стрелять по толпе с крыши.
Миша повернул голову и впервые увидел Вадима. Улыбнулся.
– Привет, Вадим.
Тот сделал шаг вперед, выступая из темноты комнаты к уличному фонарю.
– Как дела? Не зверствуют наши ветераны? – речь шла о преподавателях с кафедры.
Вадим помотал головой. Попытался изобразить ответную улыбку.
– Терпимо.
И в этот самый момент боковым зрением он успел заметить, как там, в комнате, какая-то девушка вдруг забралась на подоконник окна смежной стены, высунулась чуть ли не всем корпусом в окно последнего этажа, держась за раму одной рукой, а потом взяла стоящий рядом чей-то бокал, отпила и, облизав винные губы, хрипло, нараспев произнесла:
– «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад. И ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград…»
Так она читала почти до самого конца, зевнув лишь на двух строфах в середине перед «Распятием».
Читала она так же, как балансировала в окне: одно неловкое движение – и ты лежишь на асфальте, одно ненужное ударение – и все мгновенно обернется невероятной пошлостью; мыслимо ли, подумал Вадим, читать такое и здесь, но, глядя на девушку, он не мог дать себе отрицательного ответа. Да, сидя в вечернем окне с бокалом кьянти на шумной студенческой вечеринке, она читала так, что на секунду ему даже показалось, что сейчас в дверь постучат и войдут, после чего начнут вспарывать матрасы и выбрасывать на пол, небрежно пролистав, книги.
Он понял это и понял также, что погиб.
А в следующую секунду, дочитав до конца строфу, девушка покачнулась и начала в самом деле падать. Как в замедленном кино, Вадим увидел, как Денис, вошедший в комнату и замерший на пороге – честь и хвала спортивным рефлексам, – в один прыжок преодолел расстояние и резко дернул ее за руку. Она все равно упала, но вперед, в квартиру, и осталась лежать на полу.
Кто-то просто закричал.
Кто-то закричал:
– Нашатырь! Блять, аптечка в ванной!
Кто-то другой:
– Воды, воды налейте, там фильтр на кухне!
А Вадим молча стоял в центре комнаты и не знал, что ему делать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































