Текст книги "Лицей 2023. Седьмой выпуск"
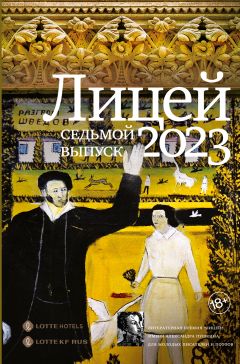
Автор книги: Ольга Шильцова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава шестая
Леонид Гольц проснулся рано. Небо еще было темным, лишь у самого края теплилась полоска света. Он поворочался еще немного в постели и понял, что не уснет. Тогда он встал, вытер специально висящим около кровати полотенцем пот с груди и со спины и, накинув тонкую хлопковую рубашку, нашарил шлепанцы. Он знал с точностью до двух минут, что сейчас шесть часов.
Все в доме еще спали, и он старался ступать тише, обходя наиболее скрипучие половицы. Пройдя через залу, Гольц спустился по винтовой лестнице вниз и на маленькой кухне принялся варить кофе на электроплитке.
В ожидании, пока вода закипит, он прислонился к окну. За окном стояли сосны, освещаемые розовым светом, и он успел заметить, как от одной сосны к другой порхнула птица.
Гольц приоткрыл форточку и шумно втянул носом свежий утренний воздух. Этот воздух был само́й жизнью, он омолаживал лет на тридцать… В этот момент он вспомнил, какой сегодня день. Да. Вот отчего он такой тихий, такой торжественный и чистый. Сегодня он выдает дочку замуж.
Вот отчего в доме так тихо: Юра и Толя уехали помогать жениху в город да там и переночевали, а все остальные так набегались за вчерашний день, что будут спать беспробудно часов до девяти. Запись в ЗАГСе назначена на два, машина придет в полдень, так что время у Елены будет… рано еще будить.
Тогда Гольц решил побриться. Он дождался, пока закипит кофе, выключил плиту и прошаркал в ванную. Из углового шкафчика он вынул немецкую электробритву, воткнул в сеть и с тоской и усталостью замер, разглядывая свое лицо в зеркале. Под глазами пролегли черные глубокие впадины. Волосы, когда-то желтые, стали совсем жидкие и выцвели. Сейчас они торчали пучками в разные стороны: пучок над левым ухом смотрел в сторону, а пучок над правым – в потолок. Надо помыть голову, подумал Гольц. Он скептически ощупал огрубевшую кожу с миллиметровым седым ворсом, вздохнул и принялся бриться. Брился он тщательнее обычного, следя за каждым волоском.
Когда он закончил, раковина была усыпана мелкой белой крошкой, будто покрылась инеем или мучной пылью. Гольц повернул кран со скрипящим вентилем и стал направлять ладонью струю воды, смывая сбритое. Вода была мягкая, даже на ощупь, как и во всем Ленинграде. Больше всего во время работы в Москве его мучила столичная вода: от нее у Зои моментально портились ее волшебные волосы, тогда еще рыжие, и чай в этой воде совершенно не заваривался. При воспоминании о Зое Гольц снова вздохнул и решил умыться.
Хорошо, что есть Александра, подумал он. (Александрой звали жену Юры, старшего сына). Не представляю, как бы я помогал Елене с платьем, как бы я унимал ее нервы и слезы. Шутка ли, утро перед свадьбой… Все-таки рядом с невестой утром в отчем доме должна быть мать. Но Зои нет, и поэтому с невестой будет невестка…
Он открыл баночку с зубным порошком и высыпал немного на крышку. Смочил под водой щетку и несколько раз ткнул ее в белоснежно-пушистую горку. Пару минут он чистил зубы, слушая, как шуршит вода. Это был целый оркестр, именуемый цивилизацией: сначала вода, нагнетенная напорной станцией, вырывалась с шипением из крана, затем ударялась об раковину, пенилась, круто сворачивала под углом вниз, падала в сифон, бурлила, сбегала в колено и уходила через стенку вниз, чтобы три километра спустя возмущенно плюхнуться в воды Финского залива.
«Ради этого мы уходили тогда ночью по тайге от семеновских казаков?», – подумал он, яростно драя и кровавя десну. Наверное. Наверное, ради этого. Точнее он не помнил.
Гольц прополоскал рот и сплюнул бело-красный сгусток в раковину. Снова посмотрел в зеркало и вывалил язык. Язык был обложен серым налетом.
Все-таки Елена слишком поздний ребенок и слишком долго тянула до свадьбы, подумал Гольц. Мне бы сейчас внучку замуж выдавать.
Он снял с себя трехдневную рубашку и бросил ее в таз. Осторожно, держась рукой за стенку, он залез в коричневую эмалированную ванну и снова пустил воду. Нет, какая же она все-таки мягкая… словно перышки падают с неба. Потом первые капли сменились струями, и сходство исчезло. Гольц взял брусок хозяйственного мыла и принялся столь же яростно, как чистил зубы, взбивать об себя пену. Он усердно намыливал седой пах, грудь, подмышки; в какой-то момент он даже почти исчез, превратившись в одну огромную гипсовую скульптуру.
Когда он вернулся на кухню, кофе уже остыл, но Гольц и не любил горячего. Он повернул рукоять радиоточки, перелил кофе из старой турки в белую эмалированную кружку, которую возил с собой с Халкин-Гола, и начал пить маленькими, птичьими глотками.
По радио говорили об очередном прекращении боевых действий в Лаосе.
Тогда он открыл холодильник и достал ветчину. Отрезал большой ломоть, положил на хлеб и, так же стоя напротив окна, начал завтракать.
Уже рассвело, и сосны теперь не казались розовыми. Яркий пейзаж, освещенный утренним солнцем, напоминал картину Шишкина. Ему подошла бы бравурная музыка. Размер четыре четверти, до мажор.
Так прошло несколько минут. Несколько прекрасных утренних минут, преисполненных торжественного одиночества. Гольц любил этот ритуал и любил, когда его удавалось соблюсти. Когда кофе был вкусным, ветчина – свежей, вид из окна – подобающим. Словно какой-то механизм, однажды заведенный, работал, отмеривая через равные промежутки времени: по-ра, по-ра.
Этот ритуал был прерван самым бесцеремонным образом: сзади кто-то дернул его за штанину. Гольц обернулся.
– Деда, давай в трям-трям играть! – звонко воскликнула Ася.
Видно было, что она только что встала: волосы не расчесаны, глаза не умыты, даже пижаму не сняла.
Вот что у нас с ней общего, подумал Гольц. Только старики и дети так могут. Юра по утрам вообще не в себе, его лучше лишний раз не трогать. Он даже завел за правило, несмотря на недосып, вставать на полчаса раньше необходимого, чтобы не натворить дел по дороге на работу или сразу по прибытии. Да и Лена такая же. А Асе – ничего, проснулась – и подавай сразу трям-трям.
– Пойдем! Ты вчера обещал! – напомнила она.
В трям-трям они играли так: дед становился в саду на четвереньки, а Ася седлала его верхом. Он медленно полз, огибая клумбы с настурциями и кусты гортензии, и в определенный момент Ася восклицала: трям! Тогда он должен был начать ее подбрасывать, повторяя: трям! трям! А она должна была не упасть, но, конечно, падала, потому что ей нравилось валяться на траве и смотреть в небо.
Впервые эта игра родилась случайно, года два назад, и жутко Асе понравилась. Родители уже несколько раз пытались объяснить ей, что и сама она выросла, да и дедушка моложе не становится, но ей очень трудно было удержаться от еще одного раза. А Гольцу было так же трудно отказать себе в удовольствии побаловать внучку.
– Давай днем, – сказал он, наклонившись к Асе и упершись руками в полинялые на коленках штаны. – Когда все уедут. А сейчас не шуми, дай тете Лене поспать.
Гольц и в самом деле не собирался ехать в ЗАГС. Это было решено несколько дней назад: во-первых, нужно было оставить с кем-то Асю, которая точно бы не выдержала несколько часов довольно скучного для ребенка мероприятия и начала бы канючить – она еще не вошла в тот возраст, когда пропустить свадьбу «тети Лены» было бы равносильно трагедии. Во-вторых, он и сам не горел желанием толкаться среди молодежи, принимать поздравления от малознакомых людей, улыбаться в камеру. А уже за торжественным обедом, в его доме, он будет чувствовать себя более уверенно. Здесь он будет вправе сесть во главе стола, напротив молодых. Тем более что он догадывался, что и Лена немного стеснялась своего старомодного, если не сказать проще – старого отца.
Одним словом, он сам вызвался остаться с Асей и взять на себя тыловую часть праздника: сервировку стола. Еда была заготовлена заранее, со вчерашнего дня, и спрятана в холодильник и погреб. Кое-что из горячего должны были привезти из Питера – в том числе за этим Юра с Толей вчера уехали в город. Словом, время было.
– Трям! – произнес он в последний раз, подкидывая Асю особенно высоко. Та не удержалась и упала на траву, покатываясь со смеху. Тяжело дыша, Гольц упал рядом с ней: сначала на локти, как некогда после сотни отжиманий, а потом осторожно перекатился на спину. Над головой раскинулось огромное безоблачное небо, и лишь черные точки в глазах мешали ему. Это была бы совсем не страшная смерть, здесь и сейчас, подумал он, но допустить этого ни в коем случае было нельзя: рядом была Ася. Он стиснул зубы, пытаясь унять заходящееся сердце, несколько раз глубоко и полно вдохнул и выдохнул.
Когда Гольц открыл глаза, небо было загорожено огромной, как солнце, головой Аси. Она серьезно смотрела на его морщинистое лицо. Морщинки разбегались от глаз, от уголков рта, и на лбу пролегали три большие глубокие морщины, похожие на морские волны. Лоб был покрыт, словно морскими брызгами, мелкой влагой.
– Деда, – спросила она, – тебе плохо?
– Пустяки, – бодро фыркнул он. – Все хорошо.
– Тогда больше не будем играть в трям-трям, – сказала она совершенно взрослым голосом и легла на траву рядом.
Подросла девочка, подумал Гольц, что-то уже соображает.
Будто прочитав его мысли, она спросила:
– Деда, а меня возьмут в октябрята?
– Конечно, возьмут, – ответил дед, – ты, главное, учись хорошо. И все тогда будет в порядке.
Он было хотел еще что-то сказать, но в этот самый момент прибыл кортеж. Гольц торопливо поднялся с травы, оправляя рубашку, и увидел, как две угловатые Волги, черная и белая, причаливали к забору. Послышался рокот моторов, хлопанье дверей, громкие голоса.
– Ася, – сказал он внучке, – стой здесь, со всеми здоровайся. Я сейчас вернусь.
Бодро, как будто и не было усталости, он поднялся на второй этаж и прошел в свою комнату. Что же надеть? Черт возьми, об этом он совершенно не подумал заранее. Забыл. Не в этой же рубахе в нелепую зеленую клетку ему быть. Пиджак?.. Где же пиджак?..
Когда он вышел из дома – в черном, несколько помятом пиджаке и белоснежной рубашке с огромным отложным воротником, без галстука, причесав остатки волос, – подъехали новые машины, и сад наполнился шумной толпой: жених с невестой (то есть уже муж с женой), свидетели, друзья, гости. Начали выгружаться. От ворот к дому растянулась вереница людей, и Гольц посторонился, чтобы не мешать, и раздавал лишь указания, что куда ставить.
Толя со вчерашнего дня преобразился: сбрил щетину, постригся, надел коричневый костюм и, в принципе, сам бы мог походить на жениха. Через его плечо шла широкая орденская лента красного атласа.
– Что это, – хмуро спросил Гольц, остановив его на полпути от машины, – Андрей Первозванный?
– Это, Леонид Семенович, так сейчас свидетели носят. Я же свидетель.
– Ну так и бери рушник, как всегда было. А эту белогвардейщину оставь…
Толя не стал с ним спорить, но и ленту снимать не стал.
– Ребята! Друзья! – воскликнула вдруг Елена с крыльца дома. В белом платье до самой земли – слава богу, подумал Гольц, что свадьбы с голыми ногами остались в прошлом десятилетии, – она была чудо как хороша.
– Я понимаю, что все уже накрыто, но… давайте на улице праздновать!
Сказав это, она задрала голову к небу, и все машинально сделали то же самое. На небе по-прежнему не было ни единого облачка.
Гольцу было жалко своих усилий, но, в конце концов, это был ее, Еленин, праздник. К тому же погода и в самом деле была замечательной. Юра и Толя вместе со свежеиспеченным зятем вытащили, сняв столешницу, стол из большой комнаты, а следом письменный. Женщины накинули на них сразу три скатерти и заново расставили тарелки, уже без намека на тот порядок, что был у Гольца. Такой же нескладной армией выстроились стулья, к которым пришлось добавить садовую лавку – диван, на котором планировалась рассадка изначально, тревожить не стали.
На лавку сел сам Гольц, Ася и какой-то незнакомый ему парень, приятель жениха, который и на свадьбу заявился в джинсах.
Едва успели сесть, из ниоткуда возник сияющий зять, оставляющий за собой в воздухе сильный одеколонный запах.
– Леонид Семенович, – сказал он даже слишком торжественно, – это вам.
Он театрально провел рукой в сторону дорожки, ведущей к воротам. Два здоровых хлопца, имен которых Гольц тоже не знал, тащили небольшую, но, судя по всему, тяжелую коробку, исписанную иероглифами. Они было водрузили ее на веранду, но зять торопливо замахал руками, и друзья, отдышавшись, понесли ее в дом. Пришлось идти с ними и указывать, куда ставить.
Гольц провел его в полукруглый эркер, выдававшийся в сад. Эта часть дома была деревянная, летняя. Зимой ее не использовали, хоть печка здесь и была.
Вскрыли коробку. В ней оказался музыкальный центр в деревянном лакированном корпусе, с проигрывателем для пластинок, пленочных бобин и даже кассет.
– Японский, – горделиво сказал Николай и протянул руку Гольцу. – Спасибо вам за дочь!
Хотя Гольцу и было приятно это внимание, смешанное с почтением, все же этот жест показался ему неприличным. Он и так знал, что партия у Елены удачная, перспективная, и вместе с тем не перспективнее, чем она сама – с ее-то отцом; и не понимал, к чему это выкобенивание – слово услужливо вынырнуло из памяти, отсылая к эпохе, быть может, более жестокой и грубоватой, но вместе с тем и более честной.
– Спасибо, Коля, – вежливо, но без теплоты в голосе сказал Гольц и протянул ему руку. Николай радостно пожал ее.
Возникла заминка. Друзья жениха уминали огромные листы упаковочного картона. Зять обводил взглядом потолок, подпирая руками бока и перекатываясь с пяток на мыски.
– Я долгое время думал, – сказал он, обернувшись к Гольцу, – что слово «дача» иностранного происхождения. А потом вдруг понял…
Он развел руками, словно демонстрируя окружающее благолепие русской усадьбы двадцатого века: широкие окна, расстекленные в мелкий квадрат; вид из них не упирался в забор, а растворялся в дали соснового леса; узкая желто-коричневая вагонка, скрипучий пол.
– Это же дача. Да-ча!
– Похвальное наблюдение, – сухо ответил Гольц. – Давайте вернемся на улицу. Нас ждут.
Все расселись в саду и начали трапезу. Тарелки наполнялись и пустели, снова наполнялись и снова пустели. К приятному удивлению Гольца, друзья жениха взяли на себя все обязанности по обслуживанию стола: меняли блюда, подносили приборы. Гольцу это было приятно до тех пор, пока он не сообразил, что они не столько обслуживают, сколько прислуживают – на лице каждого из них пряталась тревога, смешанная с жадной надеждой. И тревоги, и надежды относились к их собственному будущему.
– Где фотографировались? – спросил Гольц у дочери.
– Ой, да где только не были! На Марсовом, на стрелке, у «Авроры»…
– Я обожаю фотографироваться! – Александра всплеснула руками. – И почему-то каждый раз так волнуюсь, как будто оттуда не птичка вылетит, а выстрелит что-то.
– Да разве это фотографирование, – печально возразил сидящий на другом конце стола сват. Гольц видел его впервые: прежде возможности познакомиться так и не представилось. Он был, судя по всему, младше Гольца, и все же из всех присутствующих был ближе всего по возрасту.
– Раньше это был такой праздник! Идешь в парикмахерскую, идешь в баню… Гладишь рубашку, пиджак, идешь в ателье… Мог уйти почти целый день. Зато снимок был снимок! А сейчас… Встали, щелкнули – и дальше побежали. Один перевод пленки.
Между гостями завязалась дискуссия.
Сын сидел мрачный и явно думал о чем-то своем, не участвуя в споре. Гольц наклонился к нему.
– Что случилось, Юра?
– Да неудобно вышло. Понимаешь, остановил нас на Суворовском гаишник. Я ему говорю: капитан, ну свадьба же, видишь, кортеж едет. А он: да мне плевать, да у вас шофер пьяный… а он правда выпил, но это мы его уговорили, он сам отказывался. А у него в правах последний прокол уже был, понимаешь? Это всем настроение подпортило.
Гольц похлопал его по спине.
– Не бери в голову. Я позвоню завтра генералу Ильинскому.
Ася вылезла из-за стола, подошла к Юре, потеребила его за руку.
– Пап, можно я в дом пойду? Я наелась уже.
– Иди.
Спустя еще полтора часа желание размять ноги начали проявлять и более взрослые едоки, и Гольц повел гостей по участку.
В саду уже созрели вишни: мелкие, как дробь, и кислые, как щавель, но все же вишни.
Вдоль забора были высажены сосны. Им было по пять-шесть лет, не больше, но за ними, метрах в пятидесяти от границы участка, начиналась сосновая роща. Ближе к дому тянулись клумбы. Гольц сам занимался цветником и находил, что у него, в сущности, это неплохо получается.
Наконец, в две шеренги шли яблони четырех сортов. Увидеть бы, когда они разрастутся, думал Гольц. Да. Какой большой это будет сад.
Он мог бы без особого труда обменять эти десять соток под Сестрорецком на гектар в Кисловодске, но не хотелось. Вся жизнь его была связана с этим северным городом, и в каждой отлучке ему хотелось вернуться сюда.
Прошло еще несколько времени. Начало вечереть. Кто-то из наиболее хиппарских по внешнему виду гостей – и кто их только привел? – в другом конце сада уже начинал насиловать гитару, пытаясь выдать «Охоту на волков». Гольц поморщился.
Это время было лучшей частью дня, особенно здесь и особенно сейчас, и он решил, что пропускать его нельзя. Гольц с трудом отодвинул стул, увязший ножками в траве, встал – понял, что захмелел, – облокотился рукой на скатерть и спросил:
– А что, Коля, пройдемся?
Ему хотелось прощупать этого зятя. Очень уж он был современный: хлипкий и хищный одновременно.
Они вышли за калитку и отправились по гравийной дорожке в сторону залива. По прямой это было не так далеко, но Гольц специально повел Николая долгим путем. Он шел впереди, сгорбившись и заложив руки за спину, и долго молчал, присматриваясь к гостю. Он уже нисколько не напоминал того дряхлого и пахнущего старостью человека, каким был этим утром, нет, он снова был Леонидом Гольцем, умным и цепким, но одновременно широким и гостеприимным. Гольц вел зятя за собой через свои Лысые Горы, и деревья почтительно расступались перед ним.
– Скажи мне, Николай. Ты никогда не думал о подведении итогов?
– Да вроде бы рано еще, Леонид Семенович.
– Думаешь? – Гольц остановился и посмотрел на зятя, прищурившись. – А откуда ж тебе знать? Жизнь – она такая, бац – и кончилась.
От этого взгляда Николай поежился.
– Конечно, вы правы. И все же я пока не собираюсь подводить итоги.
– Ну а когда придется? Что бы ты себе хотел сказать в тот момент, когда придется?
Впереди уже торчали из воды камыши выше человеческого роста и пахло морем. Зять шумно выдохнул, как-то даже осел в плечах и неожиданно для Гольца ответил:
– Я давно для себя эпитафию придумал, еще в школе: «Быть может, не было великих дел, но подлости большой не совершил он». Только вот с годами все меньше чувствую за собой право распорядиться ее выбить.
Этот ответ Гольцу понравился.
– Лена еще молодая, ей пока интересны эти тряпки, машины, Лондон, Рим… Не гонись за этим.
Он снова посмотрел на Николая своими желтыми, светящимися откуда-то изнутри неведомой силой глазами, и Николай смог не отвести взгляда.
– Я тебе все дам. Ты парень способный, но из простых. А я тебе все дам. Но Лену обидеть – даже не вздумай. Будет гулять – я с ней поговорю. А будешь гулять…
И Николай кивнул.
Осунувшийся, разом потерявший свою спесь, глядя под ноги, он спросил:
– А что бы вы сказали, если бы пришлось подводить итог прямо сейчас?
– Все было, и было не зря, – ответил Гольц.
Он снова вспомнил утро, зубной порошок, семеновских казаков и сейчас с удивительной твердостью мог ответить, что все действительно было не зря.
Он стоял у огромных валунов, гасивших волны. Вот так же, наверное несколькими километрами южнее выходил к воде Ленин в июле семнадцатого. Так же стоял и смотрел на море. Финский залив штормило, и даже бакены, казалось, вот-вот сорвутся с места и тронутся в путь. Впереди зажигались огни Кронштадта, а где-то там, слева, за стеной тумана и водяных брызг, шутил, садился ужинать, танцевал и смеялся, плакал и ждал трамвая, дежурил в воинской части и мерз в очереди, стучал в дверь уборной, продувал валторну в оркестровой яме город трех революций.
Глава четвертая
Весна на Заневский проспект пришла рано. К концу зимы снег на тропинках, как это обычно бывает, превратился в сплошную, стоптанную до асфальтовой твердости корку. По сторонам он был рыхлый и серый, и все же, пока он не начал таять, жильцы окрестных домов и не догадывались, какая под ним скрыта грязь.
Тут и там валялся строительный мусор, чье количество, казалось, не уменьшалось, хотя все мало-мальски пригодное растаскивалось по квартирам. Куски кирпича, обрывки кабеля, сломанные черенки, битое стекло – земля не хотела принимать это в себя и выплевывала на поверхность.
Дома играли друг с другом в гляделки, и жители постепенно привыкали к этому, подстраивались. Окон без штор уже совсем не осталось, и теперь вечерами сторонний наблюдатель мог видеть свечение не десятков квадратных солнц, а десятков солнечных затмений.
Двор был утыкан полутораметровыми саженцами. Зелени эти несчастные деревца не давали никакой, и было понятно, что еще долгие годы и не будут. Каждый из них был подвязан при помощи трех деревянных кольев, скрещивавшихся друг с другом. Эти подвязки напоминали Клавдии Ивановне противотанковые ежи.
И она уходила с Борей подальше от домов, от грязи и пустоты пустырей, к берегу реки, носившей странное название Оккервиль. Река была мутная и очень быстрая. Моста через нее еще не было: Заневский проспект обрывался тупиком, и автобусам, кряхтя и погромыхивая, приходилось делать разворот.
(Моста через Неву тоже еще не было. Проспект существовал без конца и начала, и Боре, хоть он и был тогда еще совсем маленьким, казалось, что в этом есть что-то неправильное.)
Чуть выше по течению мостик все-таки был – деревянный, узкий, подходящий лишь пешеходам. Клавдия Ивановна бережно втаскивала коляску и переходила на другой берег.
Мост назывался Яблоновским по деревне Яблоновке, раскинувшейся на той стороне. По левую руку, почти до самой стрелки, где Охта обнималась с Оккервилем, тянулась, выходя к самой воде, Малая Яблоновка; по правую – чуть в глубине, скрываясь за буйной зеленью, стояла Большая.
Город заканчивался вместе с проспектом, и река была естественной его границей. Клавдию Ивановну, впервые попавшую в деревню на четвертом десятке и не нашедшую в ней ничего привлекательного, ее, в чьей записи о рождении в метрической книге Благовещенской церкви значилось: «санкт-петербургского мещанина дочь», все равно необъяснимо тянуло туда. Невысокие деревянные домики с покосившимися палисадами, сады, тихие улицы, утопающие в зелени, – все это зримо контрастировало с гладкими и стройными зданиями эпохи индустриального домостроительства. Потом она поняла: Яблоновка отдаленно напоминала ей Выборгскую сторону и Сестрорецк. Дачи, дачи, дачи… она вспомнила день из глубокого детства: был тот тревожный и волнительный день в году, когда ты впервые отчетливо понимаешь, что пришла весна. Клава гуляла с папой на Елагином и била ногами на лужах тонкий, хрупкий лед, вставший за ночь, но не окостеневший. А на обратном пути на Каменноостровском конка вдруг встала: уже в самом конце проспекта огромная толпа перегородила дорогу. Из дома выносили гроб, и над головами, точно по воздуху, плыл граф Витте, седой и сердитый.
Клавдия Ивановна посмотрела по сторонам и поразилась: неужели это было с ней? В этом же городе?
Она неожиданно для себя самой вспомнила жесткое сукно папиной формы, твердый картон фотокарточки – единственная память об отце была утрачена в блокаду – и запах посуды в серванте, стоявшем наискосок от печки. Она тут же решила, что сразу по возвращении достанет подаренный на новоселье сервиз и заварит чай.
Яблоновка была деревней весьма аккуратной. Здесь не было и капли той тоски, которой был пронизан воздух в бедной деревеньке за Уралом, где Клавдии Ивановне пришлось прожить одиннадцать месяцев в войну, прежде чем удалось перебраться в крупный город.
Разве можно это сравнивать? – возмутился Борис, когда вырос.
Можно, – возразила она удивительно смело для себя самой. – Не о голоде речь, не об изнуряющей работе. Речь о дровнике, Боря, о том дровнике, где нужно было всего-то две доски прибить, чтобы он не рассыпался; о сухой ветке яблони, бившей по лицу каждому, кто шел в дом, которую и пилить не надо было, можно было просто сломать; о проседающих половицах, которые прогнили еще до войны.
Борис все равно сердился, и комкал в руке край пионерского галстука, и возражал, и возражал по-своему справедливо: не до того людям было, ведь сил не было ни на что, голодали, и, конечно, не тебе, ба, мне это объяснять; она кивала; она соглашалась; и все же в глубине души чувствовала, что это две разные деревни, и не в войне дело.
Дровники в Яблоновке почти все были ровные, аккуратные, и плодовые деревья горделиво трясли правильной кроной, и гляделись в зеркало реки, как модницы при выходе из парикмахерской. Даже грязи здесь было меньше, чем на проспекте: туда она ежедневно наносилась грузовиками, здесь же грузовики не ездили, и широкие улочки были засыпаны гравием.
Бревенчатые двух– и трехэтажные дома с покатыми крышами в холодные дни коптили небо сероватым дымом, и тогда Боря немедленно требовал «кутица», что означало «крутится», что означало: нужно было остановиться на месте и смотреть на дым, потому что он закручивается в воздухе, потому что жар от него рябит, потому что бешено вращается закрепленный на искрогасителе одного из домов жестяной флюгер.
Такие же дома были и по ту сторону реки. Они прятались во дворах проспекта, со всех сторон окруженные высокими стройными многоэтажками. Казалось, что кого-то беспомощного окружила толпа здоровых и сильных и сейчас будет бить. Их и в самом деле били: ковшами, молотками и бабами; медленно, на протяжении двух десятилетий.
Клавдия Ивановна катила коляску от парадной до моста, объезжая ямы, ухабы и всякий строительный хлам. В Яблоновке она отстегивала ремешки, и Боря шел уже сам. (Эта прогулка была не так-то проста: однажды, аккурат на мосту через Оккервиль, колесо коляски не выдержало издевательств местности и подломилось. Боря, вопреки обыкновению, не был пристегнут, и от резкого качка вправо выпал прямо на деревянный настил, и тут же заплакал: не от боли, а оттого, что бабушка всплеснула руками, побледнела, и он понял, что случилось что-то страшное.) Они шли через поселок, и сбоку от дороги колосились овсяница и сизый мятлик. Тра́вы достигали Боре до груди и казались лесом.
Они шли мимо фонарей, широко отставивших ногу и напоминавших букву «Л». Некоторые из них могли похвастать модными аистовыми шляпами. По обе стороны проплывали дома, по-северному высокие, в два полноценных деревянных этажа. Их крыши почти везде уже ощетинились телеантеннами.
На участках жгли костры, и в воздухе пахло дымом и сырой листвой. Зелень еще только выглядывала из почек, как бы спрашивая: можно? Не рано я? И птицы ей отвечали: не рано, голубушки, в самый раз.
– Это вишня, – сказала Клавдия Ивановна, остановившись у особенно корявого дерева, расходящегося на несколько стволов и оттого напоминавшего кустарник.
– Висня? – переспросил Боря.
– Это такое дерево. Через месяц она будет очень красиво цвести. Она покроется маленькими цветочками, как вот этот подснежник, только они будут не голубые, а белые.
– Пьямо здесь? – уточнил Боря, показывая на ствол.
– Да, прямо здесь. И здесь, и здесь. Везде.
У Бори не было причин не верить бабушке. И все же представить себе этого он не мог. Его воображение нарисовало причудливую картину: прямо из ствола дерева растут белые подснежники на тоненьких ножках.
Это было непонятно, но так же прекрасно, как жестяной флюгер, как собака дирижера Островского-Ничипоровича, облаявшая сегодня сороку, как чай на кухне, как сама жизнь.
«Волга» Бусовцева произвела во дворе дома № 21 литера А настоящий фурор. Нет, в дальнем углу, за детской площадкой, под криво накинутым брезентом одиноко ржавел четырехсотый «Москвич», выводимый хозяином на прогулку несколько раз в год, да отставной подполковник медслужбы из сороковой квартиры хранил в гараже «Победу». Но в общем-то машин во дворе не было.
«Волга» вкатилась во двор со стороны Заневского проспекта в пятницу вечером, 8-го июня. Эту дату Константин Константиныч почему-то запомнил. Детвора со всех лестниц мгновенно высыпала на асфальт и окружила автомобиль. Какой-то мальчуган лет семи бухнулся на колени и заглянул в хищно осклабившуюся акулью пасть радиатора. Оттуда веяло жаром, бензином и маслом.
Когда Константин Константиныч спустился во двор, Бусовцев, гордый, не скрывавший своего неожиданно появившегося превосходства, любовно протирал тряпкой лобовое стекло. На приборную панель падали лучи солнца, растворявшиеся в полированном металле.
– У кого угнал, признавайся? – произнес Константин Константиныч с той же интонацией, с какой Бусовцев полгода назад предлагал ему сознаться в ночной разгрузке вагонов.
– Ни у кого, – невозмутимо ответил тот, – директорская. Дал до понедельника повозиться, кулисы заедают и со второй на третью коробка лязгает, – улыбка на лице Бусовцева померкла. Триумф обладателя «Волги» в одно мгновение исчез. И, видимо, понимая это, он громче, чем следовало, воскликнул:
– Начальство меня ценит! Доверяет!
– Так ведь ты же не автослесарь, – удивился Константин Константиныч.
– А моя военспециальность на что? – с гордостью и, кажется, с обидой в голосе ответил Бусовцев. – Скажи, а Люда дома?
Теплицын кивнул, отвечая сразу на оба вопроса, и вспомнил слова жены об интересе Бусовцева к дочери Надежды Юрьевны.
– Люда! – закричал Бусовцев, закинув голову к окнам пятого этажа.
Он просунул руку в открытое окно водительской двери и с силой нажал на клаксон.
Константин Константинычу стало неинтересно следить за развитием событий, он не вполне дружелюбно попрощался с Бусовцевым и вернулся на лестницу.
Дома его ждали дела: светлые, гладко выструганные доски лежали посреди комнаты. Пол был застелен газетами и уже присыпан опилками. Пила, молоток, гвоздодер ждали своего хозяина, чтобы продолжить начатое: строительство полок в кладовке. Узкую нишу в одной из комнат было решено превратить в чулан, для чего туда нужно было встроить полки и отгородить дверью.
И вот, на протяжении нескольких недель, почти каждый вечер по два часа Константин Константиныч ожесточенно долбил стены. К счастью, в этом он был не один – многие в доме всё еще делали ремонт; и все же в десятом часу приходилось кончать: соседи начинали стучать по батарее.
К концу весны дырки были готовы, и он приступил к изготовлению полок. Ему нравилась эта работа, нравилось держать инструмент, нравилось, как заботливо – особенно заботливо – ему наливают куриный вермишелевый суп на ужин, и даже доски ему нравились, поскольку были какие нужно: сухие, шершавые, ровные. Когда в конце концов работа была завершена, и мать, и жена удивились: оказалось, что им и нечем заполнить все эти полки, настолько большим оказался стеллаж.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































