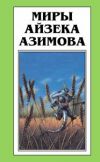Текст книги "Вальс с чудовищем"

Автор книги: Ольга Славникова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
X
Через какое-то время исхудалая Вика, сопровождаемая понизу взглядом дежурного охранника в буро-зеленом, как здешние растения, камуфляже, стала спускаться к Антонову в приемный закуток. Низкие морщины казенной косынки, повязанной до бровей, делали ее непривычно серьезной, она ни разу не улыбнулась (видимо, могла пока что улыбаться только на расстоянии, из окна, тогда как в закутке, даже и с прибавлением лестницы, для этого не хватало места), – и Антонову казалось, что он буквально слышит ее полотняную глухоту, скрипучую грубую ткань. Теща Света, немного поговорив, оставляла их вдвоем – умудрялась находить какие-то занятия в холодном вестибюле с зарешеченным пустым гардеробом, откуда, будто из киоска, тетка в волосатой мохеровой кофте продавала такие же кофты и свитера, с беленой пещерой начатого в дальнем углу и растасканного по полу ремонта, от которого становилось еще холодней.
Антонову и Вике было не так-то просто приладиться друг к другу; хорошо, если удавалось сесть – тогда костлявенькая Вика, запеленав халатом голые синюшные коленки, позволяла себя приобнять. Она то побаивалась Антонова, то напускала на себя высокомерную таинственность, туманно намекая, что приобрела дорогостоящий, не всякому доступный опыт. Она, похоже, гордилась засыхающими швами в сгибах локтей; Антонов догадывался, что Вика, обычно обеспокоенная малейшим пятнышком на платье, малейшим зернышком осыпавшейся туши, будет теперь нарочно носить короткие рукава, чтобы всем демонстрировать уродливые следы своего отчаянного подвига, – потому что эти шрамы ничем не хуже дряблых синюшных впадин у иных ее приятелей, у которых детский страх перед уколами перерос в обожание шприца. Антонов, как всякий преподаватель и отчасти педагог, попытался добиться от Вики обещания, что она «такого больше не будет», – но получил в ответ одну принужденную кривоватую усмешку, с какою иные ее приятели пытали шприцами вывернутые руки, бесчувственные, словно брюхи дохлых рыб, и поддевали, словно для разделки, собственную плоть, висевшую складкой на грубой игле. Антонов знал, что Вика побаивается наркотиков – и, видимо, не потому, что так уж стремится сохранить здравый и трезвый разум: видимо, Вику останавливала непредсказуемая цепь возможных расходов, что мешало бы ее, забиравшим все выше в смысле цены и «фирменности», приобретениям вещей. Но теперь, после финта со смертью, Антонову начинало мерещиться, что Вика пустится во все возможные тяжкие – тем более что мокренький и слякотный ее суицид так и остался необъясненным. Вика упрямо не желала изложить простыми человеческими словами то, что намеревалась сказать Антонову и теще Свете своим полуутопленным трупом. Похоже, Вика вообще не признавала, что Антонов и теща Света имеют какое-то отношение к происшествию, являются адресатами какого-то сообщения; у Антонова, однако, создалось впечатление, что она жалеет испорченный желтый купальник. Щурясь мимо Антонова на лестничный проем, где маялся, сцепляя руки то сзади, то на груди, взбудораженный охранник, имевший вид, как будто пришел сюда на свидание к девушке, которая безнадежно опаздывает, – Вика спокойно объясняла, что она попробовала и знает теперь, что дверь открыта всегда, а значит, можно пожить еще и ради интереса посмотреть, что из этого получится. Свое самоубийство она упорно называла отложенным; на беспомощные упреки Антонова, требовавшего пожалеть хотя бы мать (в действительности имевшего в виду исключительно себя), Вика, попыхивая ноздрями, заявляла, что ненавидит вранье. Пятнистый охранник, теперь зараженный Викой и временем, точно какой-то лихорадкой, то и дело поглядывал то на свои наручные часы, то на настенные, по видимости неподвижные, словно круглая казенная печать, – и, вероятно, разница в несколько минут составляла для него дополнительное, никак не проходящее мучение. Вероятно, он объяснял себе, что дожидается окончания дежурства; Антонов при всем желании не мог ему сочувствовать, хотя прекрасно знал из опыта своих ночных одиноких дежурств, что такое постоянно сравнивать показатели разных циферблатов и, чем бы ни занимался, дожидаться неизвестно чего. Он понимал, что Вика теперь совершенно рассталась с чувством времени; время ее сделалось неопределенным, несчитанным и чужим:
стоячим водоемом, где она решила пока побултыхаться, не особенно заботясь, сколько его прошло и сколько осталось до конца – потому что конец, как она любила теперь повторять, уже позади. Антонов, усмиряя обиду, уговаривал себя, что Викины особые отношения со смертью – всего лишь юношеская бравада, всего лишь несколько фразочек, из тех, которыми без конца перебрасывается эта новая молодежь с изначально морщинистыми лбами, похожими в мыслительном процессе на коврики, о которые вытирают ноги. Антонов говорил себе, что Вика – просто одна из них, из этой генерации, которую он совершенно не знает и даже не замечал до сей поры, хотя и видел их перед собою практически каждый день.
На дне его души, в илистой компотной мякоти, тихо колыхалась уничтоженная фотография: Антонов чувствовал ее чернила. Иногда, возвращаясь ночью из больницы, один посреди едва белеющей тощей зимы, заторканной на тротуаре до асфальтовых дыр, он внезапно пугался, что Вика, оказавшись дома, первым делом хватится своей реликвии, без которой, возможно, подвиг ее окажется неполным. Вдыхая играющий в воздухе снежный порошок, от которого, словно от кокаина, немело лицо, Антонов изобретал мистические, сродные Викиному действу варианты исчезновения фотографии. Собственное участие в этом казалось Антонову настолько неуместным и пошлым, что он стонал и глубже зарывался носом в надышанный, мокрый, будто полотенце после бани, полосатый шарфик; кокаиново, мертво сияющий снег, полосами наметенный вдоль зданий и кромок тротуара, казался ему отравой, нарочно кем-то засыпанной около щелей.
И бывало, что в эти одинокие возвращения Антонова окликала вдруг такая же оставленная, как и стопка уцелевших Павликовых снимков, так же упрятанная под другие бумаги, давным-давно не виденная рукопись. Ощущая в груди тепло, переходящее в жжение, Антонов то вспоминал какую-нибудь особо изящную штуку, когда-то оформлявшуюся с мультипликационной легкостью на ночной холодной кухне, прокуренной до запаха остывшей печи, то обнимал особым ясным чувством рукопись целиком, в загадочном равновесии ее написанной и ненаписанной частей, – причем ненаписанное казалось раем, вполне заслуженным и обеспеченным теми наработками, что уже лежали, надежно зафиксированные, в одном из легких, будто санки, ящиков хозяйкиного столика, стучавшего при письме, как во время спиритического сеанса. Но внезапно Антонову приходила мысль, что записи остались от какого-то другого человека, которого, как и персонажа фотографий, вряд ли можно считать живым. Шаги его невольно замедлялись, он опасливо расшаркивался перед черными, пунктирными вдоль тротуара ледяными катушками, уводившими скорей, чем надо, в перспективу промерзшей до состояния макета, абсолютно неподвижно освещенной улицы; сжимая в кармане твердую палку хозяйского ключа, способного открыть по крайней мере одну из ночных, очень крепко запертых дверей, Антонов чувствовал какое-то потустороннее бессилие, потерю крови. Горящие вывески над банком и аптекой давали ему понять, что сейчас он не может прочесть ничего, кроме этих полуметровых, печатных, уличных букв, что он каким-то образом сделался почти неграмотным, – и рукопись теперь казалась напоенной жгучим ядом, она становилась враждебна, ненаписанная ее половина представлялась возможной (и уже создаваемой) где-то в раю, за смертной чертой. Оттого, что Антонов, из-за силы и свежести первоначального замысла, не мог восстановить по памяти, где именно, на каком разбеге мысли прервалась из-за прогульщицы его желанная работа, эта черта – между сделанным и несделанным, между жизнью и смертью – казалась расплывчатой и почти мистической. Иногда – потому что задубелые ботинки предательски скользили по желтым роговым мозолям тротуара – Антонову мерещилось, будто эта черта может обнаружиться прямо впереди, где-то под ногами, и ровно ничего не стоит внезапно через нее переступить. Тогда ему не верилось даже в самое ближайшее будущее, простиравшееся перед ним в виде тусклой уличной перспективы, не верилось, что он когда-нибудь достигнет своего разбитого подъезда, вечно окруженного парною лужей от прорыва канализации, превращавшейся ночами в рыхлые наплывы топленого сала, не верилось, что сможет уснуть в давным-давно незастилавшейся, словно затоптанной постели, под тихую рыдающую дрожь водопроводных труб. Антонов сам прекрасно понимал, что становится неврастеником. Ему по ночам стали сниться утомительные сны – необыкновенно яркие на абсолютно черном фоне, чем-то похожие на палехскую живопись. Универсальное лекарство лежало в незапертом столе: стоило, не поехав разок в больницу, продолжить работу, и он бы снова почувствовал жизнь – ее значительность, ее упругость, ее невысыхающие краски. Но Антонов каким-то образом догадывался, что, при полной бестолковости его бесплодных, суетных дней, все, что происходит с ним сейчас, для чего-то нужно, все это необыкновенно важно, все это – необходимый этап устройства жизни и его, антоновской, метаморфозы, после которой из него обязательно вырастет по-настоящему большой человек. Следовало всего лишь перетерпеть, пережить, вверить себя на время течению событий, подчиниться диктату обстоятельств. И Антонов покорно подчинялся: заметил, между прочим, что у него, несмотря на неврастению, стало гораздо лучше получаться жарить яичницу, штопать носки.
***
Вce-таки он пытался добиться от Вики чего-то положительного, позитивного, даже рисковал «выяснять отношения» (отчего маленькая теща Света в глубине вестибюля, около радушной тетки, завлекавшей ее своим мохеровым причесанным товаром, внезапно застывала, силясь уловить в общем расслабленном гомоне их зазвеневшие голоса). Скоро Антонов заметил, что такие стычки стали повторяться до буквальной одинаковости слов. Теперь ему и Вике было проще говорить о ком-то постороннем – хотя бы о других пациентах шестого этажа, например о Викиных соседках, посильно выражавших собою свою непричастность к реальной действительности, но порою выглядевших здесь, внизу, совсем обыкновенно, вроде уборщиц, присевших поболтать и отдохнуть. Конечно, в этой зауряднейшей психушке, окруженной болотом, которое походило теперь на залитые белым жиром комья холодной тушенки, не обнаружилось ни цезарей, ни наполеонов; имелось, правда, мужское отделение, и обитатели его более, чем женщины, напоминали узников, потому что часто стояли около решеток и держались за них заскорузлыми пальцами, а иные даже робко ставили ноги в спадающих тапках на нижние перекладины, как бы надеясь для чего-то долезть до пустого потолка. Насколько Антонов мог судить по тем, кто спускался в приемный закуток, здешние нервнобольные мужского пола могли быть соотнесены с великими людьми только по разновидностям бород, весьма, однако же, неопрятных и не слишком густых, так что сквозь пересушенный волос рисовались собственные их небольшие, вроде корнеплодов, подбородки. Среди психов присутствовал, например, совершенный Достоевский, только с уклоном в азиатчину, с излишней высотою скул и татароватыми шипами усов; имелся и Чехов, в затемненных, как перегоревшие лампочки, модных очочках, временами, видимо, настолько забывавший о собственном присутствии, что ронял из вздрогнувших рук принесенные ему мешки. Антонова поразил еще один пациент, по внешности худой и незначительный, но с тяжкой, словно нагруженной роком, походкой Каменного Гостя; когда он, негнущийся, гладко выбритый в отличие от прочих психов, садился откляченным задом на хрустнувший стул, окружающие один за другим перемещались от него на другой конец закутка, словно стараясь общей массой скомпенсировать его ощутимую тяжесть, которую не могла уравновесить в закутке ни одна отдельно взятая вещь. Около бритого оставались только те, кто пришел непосредственно к нему, – богемного вида мужики, среди которых тоже не просматривалось ни одного нормального, плюс очкастая низенькая особа с мелкими, будто маникюрный наборчик, чертами недовольного лица, на сильно побитых, напоминающих мебельные ножки каблучищах (последнее есть автопортрет). На пятачок перед стулом, куда заранее никто не наступал, пациент неизменно ставил принесенный откуда-то сверху цветочный горшок, тоже тяжелый, точно залитый свинцом, из которого, однако, топорщилось патетическое и жалкое растение: карикатура на тропики, словно забинтованное по стеблю полосками бурых тряпиц. Антонов, если ему случалось проходить по закутку, старался избегать оцепенелого взгляда сгорбленного пациента, не становиться по возможности зрением этой статуи, у которой перемещение предметов явно вызывало некое движение мыслей, – и поэтому статуя неохотно, несмотря на собственную неподвижность, выпускала что-нибудь из сектора обзора.
Ощущение при выходе было такое, как при подъеме из ванны, с новой тяжестью сосуда, зачерпнувшего воды. Видимо, не один Антонов боялся зачерпнуть: даже ленивый охранник при необходимости старался быстренько проскочить тогда, когда перед бритым возникала преграда в виде какого-нибудь посетителя; никому не нравилось чувствовать, что представление пациента об окружающем совершенно и буквально соответствует тому, что он видит перед собой (эта буквальность, вероятно, существовала за счет отсутствия представлений о самом себе), – и даже Вика, чего с ней никогда не бывало под взглядами мужчин, проходя, смущенно запихивала пальцами под косынку петли привядших волос, придерживала халатик там, где болталась на серой нитке верхняя полуоторванная пуговица.
Женщины были попроще и действительно напоминали не больных, а какую-то обслугу, уборщиц или санитарок. Антонов, расспрашивая Вику, все пытался понять, в чем же заключается их сумасшествие, но не обнаруживал ничего разительного, кроме разве того необъяснимого факта, что фамилии обитателей шестого этажа, включая персонал, представляли собой целую кунсткамеру окаменелых грамматических ошибок: так, длинноносая Викина соседка звалась Люминиева, а заведующая отделением, поклонница Гериного таланта, носила фамилию Тихая. Другая соседка, Засышина, которую Антонов видел только внизу, осанистая женщина с темной тенью летнего загара на добротном, от природы тщательно отделанном лице и с тою торжественной посадкой большого живота, какой бывает у подушек на деревенских кружевных кроватях, все время собиралась в дорогу; каждое утро она готовилась к выписке, раскладывая по мешкам свое постиранное и помытое имущество, раздавая остатки картофельных, с черным луком, пирогов и каменных мелких конфет. Засышина всем говорила, что поедет сегодня на поезде, – она и правда была не здешняя, а откуда-то из северного леспромхоза, как будто из довоенных еще раскулаченных переселенцев; неправдоподобная дальность якобы предстоящего ей путешествия объяснялась, возможно, семейной памятью о поездах, шедших, словно сквозь туннели, сквозь множество ночей, из лета в осень или даже в зиму, – о поездах, строчивших, будто швейные машинки, и надставлявших расстояние кусками времени, так что годы, минувшие с той поры, тоже пошли, пристрочились туда же, – и Засышина теперь собиралась «домой», в нереальную даль, каждый раз степенно прощаясь со своими городскими тщедушными родственниками, щербатыми и гнутыми, будто столовские ложки и вилки, похожими рядом с большой и красивой Засышиной на постаревших без взрослости детей. Люминиева, наоборот, не ожидала никаких перемен: бесконечно наживляя на спицы рыхлую нитку, приходившую откуда-то из-под кроватей с нанизанными клоками пуховой пыли, она без конца рассказывала про мужа, что работал на заводе слесарем-наладчиком, про сыновей Андрюшу и Гошу, девяти и тринадцати лет. Как будто и не было ничего хоть сколько-нибудь ненормального в этой семейной повседневности, все, напротив, было очень обыкновенно; но оно все время как-то стояло перед Люминиевой, существовало одновременно в реальности и ее сознании – и это было удвоение, которого женщина, по-видимому, не могла постичь. Во всяком случае, Антонов понимал, почему Люминиева, так много говорившая о муже, что брезгливая Вика уже почти ненавидела этого чесночно-табачного, словно давленного для крепости запаха, мужичонку с рублевой медалькой на коричневом пиджаке, – почему она, сосредоточенная на нем и детях, в первый момент словно не совсем узнавала его. Люминиева, заколебавшись несмелой улыбкой, осторожно трогала тылом ладони его багряные и холодные с улицы щечки, убеждавшие ее, что муж пришел издалека, – в то время как он смущенно щерился и дергал сухой головой, будто растягивал тесный воротник. Вероятно, самая частота его преданных появлений грозила умножением двойного, что безопасно отстояло друг от друга на расстоянии половины замерзшего города, глиной глядевшего из-под снега в слабосильном свете окраинных фонарей. Замешательство Люминиевой при виде мужа чем-то напоминало колебательную улыбку воды, куда погружается, целиком в свое отражение, тяжелый и крупный предмет. Вероятно, муж ее каким-то образом чувствовал, что внезапное его появление может буквально расплескать ее стоячий разум, и потому никогда не топтался, как другие, прямо у лестницы за спиною охранника, а, позвонив по заезженному внутреннему телефончику, хоронился в сторонке и давал спустившейся супруге время разглядеть сначала чужих, понимая, что с ними она спокойней воспримет и его, опять не утерпевшего прийти. Люминиева, не сразу отпускаясь от лестничной стены, осматривалась, видела мужа, ощупывала его, гримасничая и мигая пронзительными и одновременно сонными глазами, – а потом в ней появлялось что-то человеческое, она деловито присаживалась на кушетку, мелко жевала на целых передних зубах какой-то гостинец, отчего стянутый рот ее словно завязывался снутри бесконечным узелком.
Раздражительная Вика, которой семейная соседка успела изрядно надоесть, не желала видеть в Люминиевой что-то особенное – но Антонову порой казалось, что он улавливает в псевдосумасшествии этой обыкновеннейшей женщины отражение реального положения вещей. «Замирание времени», – говорил он себе, удерживаясь рядом с дремлющей тещей Светой на краешке полутораместного сиденьица сотрясавшегося всем своим железом пьяного автобуса. Они ехали очень долго, одиннадцать туманных, обставленных киосками остановок, – но улицы города, где за последние несколько лет так усилилось движение легковых, все более зверевших автомобилей, никуда не вели. Город целокупно переходил из ночи в день и изо дня в ночь, – но улицы его, чересчур очевидные, в центре упирались в помпезные туманные здания, содержавшие учреждения, ненужные большинству из едущих и идущих, а на окраинах выползали из-под серых горбушек разломанного асфальта и растворялись, с сыпучим шуршанием под колесами какой-нибудь местной залатанной машинешки, в уродливых просторах карьеров и пустырей; последняя жилая изба, всегда заросшая одичалой зеленью, горькой на цвет, значила здесь не больше, чем брошенный на обочину спичечный коробок. Город пребывал в нигде, в замирании времени и пространства, и самое лучшее, что можно было себе представить, – будто улицы, замысловато переплетаясь, сливаются в шоссе, что утекает сквозь четкую выемку в лесистом горизонте, мимо уходящих под насыпь пропыленных домишек и огородиков с кучерявой картошкой, куда-нибудь в Москву. Улица, ведущая в другой, возможно, лучший город, – это представление могло служить опорой человеку, достаточно свободному для праздного витания мыслей. Но повседневная трудная жизнь, протекавшая здесь и не имевшая лучших перспектив, была подобна слову, повторенному множество раз, и наизусть впечатывалась в умы, – так что бедная Люминиева не выдержала, ей потребовалась больница. Жестокая Вика рассказывала, что семейная соседка, лежа в этом «санатории», чувствует свою вину, но боится выписки. Однажды Антонов видел в приемном закутке детей Люминиевой: два тонкошеих пацана с ушами, будто большие скорлупины, и с нежными вихрами, точно кто легонько подул на их одинаковые белобрысые затылки, имели во внешности множество не просто похожих, а поразительно одинаковых, только по-разному сложенных черт. Младший был уже ростом с гордого пунцового отца; старший, выше целой головой, красовался в дешевом, явно отцовском галстуке. Они неловко переминались и старались не глядеть на мать, вероятно, обманувшую всех, что она больна, – а младший, поцарапывая пальцами и поднимая плечи, тихо тянул из-под свитера манжеты рубашки, точно и сам хотел как-нибудь утянуться в воображаемый панцирь. Всем своим видом некрасивые сыновья Люминиевой выражали скуку и тоску: Антонов понял, что и здесь, приведенные матери на глаза, они скучали по ней и тосковали, потому что не видели способа примириться с материнским отсутствием в то самое время, когда оба они безвозвратно взрослели и входили в возраст, в котором человек, по их понятиям, уже не может мириться ни с кем и ни с чем – тем более с матерью, то и дело тянувшей руку, подсиненную, будто жгут отжатого белья, чтобы поправить на Андрюше или Гоше великоватый воротничок. Безо всякой связи с происходящим Антонов тогда подумал, что у Вики, слава богу, абсолютно правильная фамилия, может быть, единственно нормальная на всем шестом этаже: Иванова.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?