Текст книги "Черникина и другие"
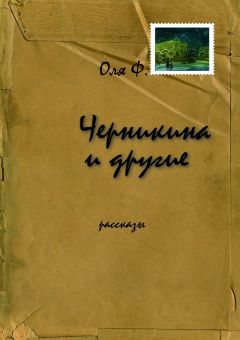
Автор книги: Оля Ф.
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Река
Река называлась Ока. В июле она уменьшалась вдвое. Лента воды становилась узкой, а ровное полотно песка было широким и бесконечным. Сверху ярким потоком на него текло солнце.
Дедушка ставил донки. Сидел на берегу, смотрел на реку и курил папиросы.
Черникина быстро поняла, что топить саму себя в реке скучно. Визжать, выпрыгивая из воды в одиночестве, невесело. Дедушка купался только один раз, когда они приходили утром. Рядом с местом рыбалки крутиться было нельзя, чтобы не распугать рыбу.
Играла Черникина с большим куском белой марли, которой дедушка накрывал от мух вялившуюся на солнце рыбу. Она повязывала её вокруг талии, превращая в длинный шлейф, и степенно выхаживала по берегу, танцуя менуэт без музыки.
Чтобы превратиться в царевну Будур, нужно было закрыть лицо, оставив только глаза. Черникина быстро бежала, отталкиваясь голыми пятками от песка, потому что её вот-вот настигнет погоня из сотни злых вооружённых саблями всадников, а спасти её может только принц Камар.
Если на марле сделать узел, то она превращалась в фату, в которой бедную Черникину выдавали замуж за короля Дроздоборода. Она так громко плакала и кричала, не желая идти за него замуж, что дедушка попросил её кричать потише, потому что у него только начало клевать.
Тогда Черникина стала играть в немую Русалочку, обмотавшись в марлю наподобие мумии. Она перебирала стянутыми ногами, семеня вдоль кромки воды, представляя, как у неё кровоточат ноги и как обидно и больно, что принц любит не её, а другую девочку, а правды никогда не узнает, потому что по правилам сказки говорить она не умела.
Марля, завязанная на шее, превращалась в мушкетёрскую накидку. Черникина, на самом деле Констанция, переодевшаяся в мушкетёра, спасала Атоса, Портоса, Арамиса и Д’Артаньяна, собственноручно заколов Миледи найденным на берегу прутиком.
Когда Черникиной надоедало носиться вдоль реки, она начинала рассматривать гнёзда ласточек – их было видимо-невидимо на песчаном обрыве, который отгораживал её от остального мира. Птицы сновали туда и обратно, моментально заныривали в чёрные круглые отверстия и исчезали, качнув на прощание раздвоенными хвостиками.
Однажды, оторвавшись от наблюдения за непонятной птичьей жизнью, Черникина обнаружила, что дедушка исчез. Она побегала по пустому берегу, долго рассматривала реку, примостив руку козырьком ко лбу, потом звала его, громко выкрикивая «де-душ-ка!» по слогам, но его нигде не было.
Черникиной стало страшно, но не потому что она испугалась не найти дорогу домой, а потому что подумала, что дедушку украли и пытают.
Она схватила марлю и начала карабкаться по тропинке на обрыв, туда, где рос густой кустарник. Грунт полз под ногами, увлекая её вниз, пекло солнце, в воздухе роилась какая-то мошкара.
Черникина тыльной стороной руки утирала пот и слёзы, как вдруг сверху раздалось:
– Это куда ты собралась?
Счастливо улыбаться на выдохе Черникина начала ещё до того, как задрала голову. По тропинке осторожно спускался дедушка.
– Я тебя потеряла, – сказала Черникина почему-то радостно. – Где ты был? Куда ты ходил?
Дедушка легко махнул рукой, указывая вниз:
– Я ходил по делам. Спускайся. Нужно донки проверить.
Черникина слетела вниз, только успевая переставлять ноги.
Сверху на неё щурилось голубое небо, которое попросили приглядывать за Черникиной.
Ногти
– Другую покажи, – мама горестно и пристально смотрела на Черникину.
Черникина нехотя, медленно протянула маме левую руку и отвернулась к окну, за которым ничего не происходило. К сожалению, левая рука Черникиной отличалась от правой только тем, что была левой.
«Сейчас опять начнётся, – думала Черникина. – Ты же девочка, глисты, деформированное ногтевое ложе, испортишь на всю жизнь, дизентерия, какой стыд, лямблии в печени, с тобой никто дружить не захочет, вот посмотри на Наташу, что же мне с тобой делать…» – «Ну что же мне с тобой делать?» – сказала мама, собрав ладошки Черникиной в свои руки. Черникина молчала. Потом осторожно сжала ладони в кулачки и высвободила их из маминых ладоней.
Пять минут назад мама застала её за упоительным превращением ногтя в податливый, чуть режущий язык кусочек удовольствия. Мамин голос вернул её за стол, на котором лежал открытый учебник. Всё время, пока её распекали, в голове Черникиной где-то очень далеко, но при этом явно проскакивали мысли о том, что есть ещё два неотгрызенных уголка на ногтях указательного и безымянного пальцев на левой руке.
Черникина уже давно устала от этой странной игры со своими ногтями. Она не понимала, как ногти на руках могут доставлять столько ужаса, печали и стыда даже при мимолётном взгляде на них и столько удовольствия, когда ты их грызёшь.
– Объясни мне, почему ты не можешь запретить себе делать это? – мама звучала серьёзно и требовательно.
Черникина опять промолчала. Мама не знала, что каждое утро Черникина даёт себе слово больше никогда не грызть ногти и отрастить их длинными-предлинными, как у Светки Келиной, и что каждый вечер перед сном она обнаруживает, что ногти опять съедены до саднящей розовой полоски мяса.
Черникина привыкла прятать руки, когда разговаривала с незнакомыми людьми. А какой холод отчаяния разливался внутри при взгляде на мамины пузырьки с лаком! Ведь Черникина знала, что лак ей никогда не понадобится, потому что такие огрызки никто не красит.
Однажды Черникина так расстроилась из-за этого, что выгрызенную в приступе злости заусеницу пришлось бинтовать и смазывать какой-то жутко горькой мазью.
Если ей попадались на глаза её фотографии в пятилетнем возрасте, Черникина с завистью рассматривала свои целые, нетронутые ноготочки на руках и быстро убирала снимки в альбом. На сердце становилось очень тяжело.
– Попробуй их пожалеть, – снова донёсся до Черникиной мамин голос. – Представь, что они живые. А ты их грызёшь. Ты их уничтожаешь!
Черникина вздрогнула. Мама продолжала говорить ещё что-то, но внутри у Черникиной запульсировало соображение, которое перекрывало все звуки. «А может, и вправду живые?» – думала в страхе она.
Утром, проснувшись от нехорошего чувства, что вчера произошло что-то дурное, Черникина дежурно поклялась себе, что с этого дня она больше не станет грызть ногти.
Вечером того же дня она лежала в кровати и с тупой тоской рассматривала любовно обглоданные до предела, за которым начиналось «больно», ногти на обеих руках.
Самогон
Однажды мама позвонила Черникиной и попросила приехать, не объясняя, в чём дело. Черникина напряглась, и не напрасно.
У мамы диагностировали рак. Оперировать нужно было безотлагательно, но эта безотлагательность особого шанса не давала. Маме исполнилось 44 года.
По идиотской традиции, присущей всем русским женщинам, перед больницей мама перестирала абсолютно всё, что можно было перестирать в доме. Квартира выглядела совершенно брошенной, несмотря на то что в ней бессмысленно перемещались четверо взрослых людей. Потом количество людей сократилось до трёх, а в комнате – на диване, столе, креслах – грудами лежало постиранное, но не глаженое бельё.
Операция начиналась в девять утра, Черникина это выяснила специально. Ровно в девять она включила утюг, притащила гладильную доску и начала гладить бельё. В четыре пополудни позвонил отчим и сказал, что операция закончена, мама в реанимации, состояние тяжёлое.
Гладить бельё Черникина закончила около одиннадцати вечера. У неё было тускло в глазах. Правая рука могла выполнять две команды: либо двигаться, сжав утюг, либо висеть вдоль тела, наливаясь тупой долгой болью. Спать Черникина легла, не раздеваясь, на освобожденный от мятых простыней и наволочек диван.
…Через день, выйдя из палаты, где лежали четырнадцать прооперированных, полуживых от боли и холода баб (накануне в больнице прорвало трубы и отопления не было), Черникина прошла по коридору, стараясь не поскользнуться на застывших лужах, открыла чудовищно тяжёлую дверь, которая и выбросила её на лютый январский мороз.
Маме было плохо. Она отказывалась от обезболивающих – говорила, что от морфина у неё пол с потолком меняются местами и сильно тошнит. Посмотрев, как медсёстры негнущимися от холода пальцами обрабатывают ей рану (они при полостных операциях поражают необъятностью и бесконечным количеством крови), Черникина хотела только одного – навсегда забыть о своей беспомощности, и вообще – забыть, забыть…
Дома на кухне, занимая половину подоконника, стояла бутыль прозрачного стекла на шестнадцать литров. В ней оранжевой змейкой плавал резиновый шланг. Если бутыль наклонить, а шланг опустить в какую-нибудь ёмкость, то оттуда начинал литься отличный, домашний, тройной очистки самогон. Бутыль была полна ровно наполовину.
Каждый раз, приходя в больницу, Черникина старалась не подходить к маме близко, ссылаясь на заложенный нос и кашель: «Ты что, мама, вдруг грипп у меня, не дай Бог, ты ещё подхватишь!» Отчим отводил глаза.
Мама поправлялась очень медленно. Она грустно смотрела на Черникину и произносила надсадно: «Идите уже домой. Я посплю». Черникина с облегчением торопилась на улицу. А потом домой.
Настал день, когда отчим, немного помявшись, сказал ей: «Ты, это, тут такое дело. Мама попросила тебя пока не приезжать». Он выглядел виноватым и подавленным в этот момент.
…Спустя три недели маму выписали. Черникина с отчимом зашли к лечащим врачам, вручили коробку конфет и бутылку поганого сладкого польского ликёра. «Не волнуйтесь, – сказали врачи Черникиной. – Мы вылечили вашу маму». Черникина смущённо пробормотала «большое спасибо».
Когда мама, освободившись от верхней одежды, обув тапочки, вошла на кухню со словами «я бы чаю выпила», Черникина повернулась к плите и зажгла газ под чайником. Потом она хотела заварить свежий чай, но не успела.
Черникину остановил мамин всхлип. Она смотрела на подоконник, а именно на бутыль, в которой жидкости осталось приблизительно на два пальца. Мама обняла её, заплакав прозрачными неостановимыми слезами, и всё повторяла: «Детка, ну как же так? Детка, ну зачем?»
Черникина смотрела поверх её плеча в угол кухни, молчала, и внутри у неё была ледяная пустота, которая не давала Черникиной ни попросить прощения, ни обнять маму в ответ.
Веснушки
Черникина дождалась, пока за мамой закроется дверь, потом открыла шкаф в прихожей и вытащила коробку, в которой хранились пассатижи, отвёртки, разнокалиберные винтики и шпунтики, старый фонарик. На самом дне лежал новенький рулончик синей изоленты. Она отложила его в сторону и убрала коробку.
Черникина спокойно воспринимала несправедливость мира: брат Женька, дура-дура-дура училка по физике, молния на сапогах, которая вечно расходилась, ангина Наташки Ветренниковой, из-за которой её не пускали к подружке, – всё это было обидно, но терпимо.
Но веснушки отравляли ей жизнь по-настоящему. Всякий раз, глянув на себя в зеркало, она задерживала дыхание. В зеркало Черникина смотрелась при каждом удобном случае, и скоро ей стало казаться, что эти веснушки и есть она. Это они получали четвёрку из-за глупой ошибки в диктанте, ведь она-то знала, как правильно! Это они промолчали, покраснели и убежали, когда Слава Новинкин сказал на перемене «давай дружить», потому что сама Черникина очень хотела дружить с Новинкиным. Это они вчера пробормотали «козёл противный», когда Женька забрал у неё его собственную переводилку, а мама это услышала и отругала её до слёз.
Черникина внимательно рассмотрела веснушки в зеркале в последний раз, криво усмехнулась, как Миледи в кино, сказала «а теперь прощайте!» и начала их выводить. Для этого она аккуратно залепила все испоганенные рыжими пятнышками участки на лице синей изолентой, посмотрела на часы и уселась на диван ждать тридцать минут. На диване сидеть было скучно, изолента противно воняла.
Через двадцать пять минут Черникина не вытерпела и решила, что этого достаточно. Она решительно потянула за самую нижнюю полоску изоленты и заверещала от боли. Лента отклеивалась медленно, тяжело, и при этом было ужасно больно!
Тогда Черникина решила её рвать, чтобы боль была быстрой. Ничего не выходило! От огня на лице полились слёзы. А ей нужно было снять ещё семь полосок изоленты, потому как Черникина заклеила все места, где был хотя бы намёк на веснушки. Тогда она побежала на кухню и начала прикладывать к лицу пакет мороженых польских овощей. По лицу текли вода и слёзы. Лента не отлеплялась.
Черникиной стало страшно.
– Женька! – крикнула она.
Брат появился в коридоре. Он несколько секунд немо смотрел на неё, а потом начал криво улыбаться.
– Чё?
В этом вопросе Черникина услышала столько оскорбительного унижения, что в первый момент ей захотелось дать братцу пинка. Она сглотнула слёзы и быстро сказала:
– Помоги мне снять это!
Женька подошёл ближе и сказал:
– А пожалуйста?
– Пожалуйста, – повторила за ним Черникина и громко всхлипнула.
Потом она закрыла глаза и орала в черноте, чтобы не видеть ухмылку брата, который отдирал изоленту с её лица.
…Черникину не ругали. Мама даже написала записку классной руководительнице, что она больна. Долгих десять дней Черникина шарахалась от своего изображения в зеркале, откуда на неё смотрела злая девочка-клоун с геометрическим белым лицом. На одиннадцатый день она замотала лицо шарфом по самые глаза и отправилась в школу.
На перемене Власова и Келина тихонько переговаривались в сторонке. Черникина подошла и услышала окончание фразы:
– …Чтобы ресницы были длинными и пушистыми, их надо просто подрезать ножницами. Я в «Бурда моден» читала, – говорила Власова. Черникина посмотрела на неё с непонятным выражением глаз и вернулась в класс.
Фокус
Утром Черникина надела новые белые гольфы, тряхнула тугим хвостиком, схваченным резинкой, потом осторожно натянула жёлтое, отглаженное накануне платье и встала в коридоре у двери. Через пять минут они с мамой выйдут из дома, чтобы Черникина вместе со школьным пионерским лагерем поехала на экскурсию в парк «двадцативосьмипанфиловцев».
Всю дорогу в автобусе Черникина проверяла, как лежат в кармашке три монетки по двадцать копеек, которые ей были вручены со словами «на мороженое и сок». Считать в свои шесть лет она не умела, но запомнила, что «шисят копеек» хватит на всё.
Тут в автобусе что-то громко забулькало и прокаркало. Черникина опять услышала только начало: «Остановка парк двадцативосьмипанфиловцев». Пионервожатые, их было четыре человека, тревожно оглядываясь, пересчитали по головам дошколят, выдохнули дружно и, построив их парами, повели по направлению к большим воротам жёлтого цвета.
Парк оказался сумрачным и прохладным. Там было безветренно и летало много переливающихся в редких лучиках солнца бирюзовых стрекоз. «Когда на аттракционы?» – закричали все, как только оказались внутри парка. Вожатые, стараясь перекричать сборище в панамках, надрывались: «Сейчас все идём во-он до той площадки, потом гуляем, а потом на карусель!»
Дети поплелись по песчаной дорожке, шаркая сандаликами. Черникина шла вместе со всеми, пока рядом, почти касаясь носа, мимо неё не проплыла стрекоза. У неё были прозрачные, розовые с зелёным крылья. Таких стрекоз Черникина никогда не видела! Она двинулась за стрекозой, которая как будто качалась на воздухе, то подлетая к кусту, то опускаясь на траву.
Наконец стрекоза оказалась на жёлтом цветке, который бабушка называла страшными словами «куриная слепота». А Черникина – на маленькой полянке, окружённой деревьями. Стрекоза никуда не торопилась, Черникина затаила дыхание. Ей был слышен гомон детей, она представила, как все они ахнут, а потом замолчат, когда она им принесёт стрекозу!
– Здравствуй, девочка, – раздалось у неё за спиной.
От дерева отделился дяденька, который немножко напоминал клоуна. Просторная одежда на нём была в полоску.
– Здравствуйте, – ответила Черникина, одним глазом продолжая следить за стрекозой и медленно приближаясь к «куриной слепоте».
Дяденька подошёл ближе.
– Как тебя зовут, девочка? – улыбаясь, спросил он.
– Черникина, – ответила Черникина.
Дяденька встал так, что полностью загородил стрекозу и жёлтый цветок, на котором она сидела.
– А хочешь, я тебе фокус покажу? – ласково продолжал дяденька.
– Хочу. А какой фокус? – спросила Черникина.
Дяденька назвал фокус. Он показался Черникиной настолько забавным, что она, задумавшись на секунду, сказала:
– Хочу, только подождите. Я за всеми схожу, это рядом! – и резво побежала по смятой ею же траве к песчаной тропинке парка.
Когда она, запыхавшись, выпалила вожатым, что там дяденька хочет показать такой фокус, который никто не видел, они вместо того, чтобы немедленно отправиться на полянку, велели всем стоять на месте, а сами тревожно зашептались друг с другом.
Через несколько минут весь отряд дошкольников, рыдая, возвращался по жёлтой песчаной дорожке к автобусной остановке. Черникину в этот день довели до самой двери дома две пионервожатые, хотя обычно из школьного лагеря она возвращалась сама.
Вечером за ужином, пытаясь подцепить лапшу по-дунгански, Черникина рассказала маме и папе про экскурсию, неистраченные «шисят копеек», стрекозу и дяденьку в полосатой одежде. Внезапно за столом всё стихло. Мама с папой растерянно переглянулись. Папа вдруг вскочил и закричал:
– Пионервожатые! Семиклассники!
Черникина обмерла. Она никак не могла понять, что она натворила.
Но потом все быстро успокоились. А Черникиной в тот вечер было досадно по двум причинам: она так и не смогла поймать стрекозу и не покаталась на карусели. Впрочем, ведь никто не покатался.
Квартира
Искала Черникина как-то жильё. Ей была нужна комната в центре Питера. И так всё удачно сложилось!
Хозяйка, Шурой её звали, худенькая невысокая женщина, поздоровалась с Черникиной, сообщила, что сама она маляр, недавно с каким-то мужчиной сошлась, а комнату на 5-й Советской сдает. Попросила Черникину не опаздывать, чтобы в обеденный перерыв уложиться, с часу до двух, пока она Черникиной её показывать будет.
Поднялись на четвёртый этаж, вошли. Обычная питерская коммуналка, четыре семьи ещё проживают. Шура юркнула в коридор, поскребла ключом и открыла Черникиной комнату: четырнадцать метров, кровать, стол – всё честь по чести.
Потом так же стремительно показала Черникиной санитарные удобства, привела на кухню, где стояло пять столов и одна газовая плита. На плите, стоя к ним спиной, мужчина в майке и тренировочных штанах жарил картошку на сале. Больше никого в квартире Черникина не видела.
Квартиросъёмщицу все устроило. Она вручила Шуре деньги за три месяца вперёд и получила ключ. Та попросила Черникину на всякий случай представляться её племянницей.
В ближайшую субботу Черникина и её бывшие однокурсники в количестве четырёх человек, обливаясь потом, тяжело дыша, втащили на шестой этаж её скарб. Вещи в коробках, книги в коробках, обувь в коробках, две тумбочки и матрас. Коробок было много, а вещей мало. Черникина открыла дверь в квартиру, и они перетащили всё в комнату.
Ребята уехали. Черникина распихала по углам коробки и куда-то умчалась по делам.
Вечером, когда она попыталась открыть дверь в квартиру, у неё ничего не получилось. Черникина маялась с ключом, вставляла его риской вниз, риской вверх – замок не поддавался. Делать было нечего, пришлось жать в дверной звонок.
Дверь открыли быстро. Семь человек встретили Черникину в полутёмном коридоре. Зажёгся свет. От компании столпившихся людей отделилась дородная женщина средних лет с химией на голове и тщательно выщипанными бровями.
– Значит, так. Слушай меня, жить ты здесь не будешь.
Черникина не ожидала такого поворота событий.
– Почему? – она задала самый логичный в этой ситуации вопрос.
– Потому что я не собираюсь с тобой жопой на одной кухне тереться, пока Шурка со своим хахалем будет в однокомнатной квартире шиковать!
Вводных в этой фразе было предостаточно, чтобы сообразить, что к чему, но Черникина была очень молода и в ответ начала бормотать про то, что тетя Шура меня прописала и что вы не имеете права.
Тогда женщина с выщипанными бровями схватила её за руку и потащила вдоль коридора, распахивая двери комнат по очереди и выкрикивая:
– Вот смотри! Здесь я живу, в одиннадцати метрах. Мужа в Афганистане убили, у меня двое детей!
Черникиной было видно двухэтажную кровать, на которой сидели два мальчика лет восьми-десяти.
Она рванула следующую дверь:
– Вот тут Михалыч живет с парализованной матерью на восемнадцати метрах!
Из комнаты тяжело пахло мочой, на столе стоял радиоприёмник. В этот момент Михалыч сделал шаг вперёд, и Черникина узнала мужчину, который жарил картошку на кухне накануне.
Женщина тем временем распахнула следующую дверь:
– Вот семья Анисимовых. Восемь метров на троих!
Внутри было темно, смутно угадывалось трюмо, которое перегораживало комнату.
Потом женщина открыла ещё одну дверь, потом затащила Черникину в ванную, где кругом стояли тазы с замоченным бельём, потом публика оказалась на кухне. Всё это время женщина бешено быстро говорила, что на таких умных, как Шурка, управа найдётся, что Черникина этой Шурке такая же племянница, как она балерина Большого театра, что она завтра же позвонит в ЖЭК, что прописать Черникину в квартире Шурке не удастся, что совесть надо иметь, чтобы Черникина собирала свои манатки и ушлёпывала.
Население квартиры так и стояло в коридоре, не прерывая и не вмешиваясь.
Наконец она, отдышавшись, сказала: «Сегодня переночуй, а завтра твоего духу чтобы здесь не было, поняла?»
Черникина быстро ушла в свою комнату, легла, не раздеваясь, на кровать и уставилась в потолок. На улице дул ветер, и над ней извивались чёрные тени деревьев. Болела спина.
На следующий день коробки Черникиной, матрас и две тумбочки были снесены вниз, погружены в машину и отправлены на время пожить к Вадику с Таней.
Шура же, расстроенная, нервничающая, вернула Черникиной деньги за три месяца. Она только спросила:
– А ты им сказала, что ты моя племянница?
– Сказала, – ответила Черникина.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































