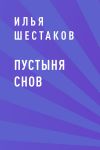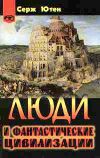Текст книги "Аромат изгнания"

Автор книги: Ондин Хайят
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Талин молча повиновалась и направилась в ванную. Встретив свое отражение в зеркале, она заставила себя улыбнуться и встала под холодный душ. Ледяная вода пощипывала кожу, по телу побежали мурашки. После душа она мало-мальски пришла в себя. Матиас ждал ее в гостиной, одетый в темно-синий, сшитый на заказ костюм и белую рубашку, украшенную запонками с его инициалами. Она вошла, уже затянутая в платье, в черных туфельках, каштановые волосы были собраны в свободный узел, из которого выбивалось несколько прядей. Серьги с изумрудами, подарок Ноны, дополняли наряд. Она не стала душиться, даже Нониной амброй, но сунула флакон в сумочку. У Матиаса сразу разболелась бы голова, и тогда упреков не оберешься.
– Ты очаровательна, дорогая. Постарайся произвести хорошее впечатление сегодня вечером, – сказал он.
Вечеринка проходила в квартире площадью около двухсот квадратных метров, из окон открывался великолепный вид на Эйфелеву башню. Она вспыхнула огнями в тот момент, когда Талин вошла в гостиную, ища знакомые лица среди гостей, толпившихся с бокалами шампанского в руках.
– Талин, рада тебя видеть! – воскликнула хозяйка.
– Здравствуй, Кассандра. Как поживаешь? – ответила Талин.
На нее пахнуло дурманящим запахом «Опиума» от Ива Сен-Лорана, когда они поцеловались. На коже Кассандры начальные ноты – мандарин, альдегиды и кориандр – звучали весьма отчетливо и окисляли эти духи, хотя Талин их очень любила. Когда она сама изредка ими пользовалась, проявлялись ноты сердца, особенно бензойная смола, ваниль и пачули, раскрывая роскошь и чувственность их композиции. Талин повернула голову, отворачиваясь от кислого запаха кожи хозяйки, которая целовалась с Матиасом. К ним подошел Фабрис, муж Кассандры. Его туалетная вода с нотками лимона смешивалась с запахами стресса и кофе. Тот же запах, что и у Матиаса… Хозяин уже выпил несколько бокалов шампанского и сопровождал каждую свою фразу раскатистым смехом. Талин смотрела на Матиаса, он разговаривал со всеми сразу и пребывал в своей стихии. Она в очередной раз осознала, до какой степени он другой на людях.
– Как продвигается твой контракт с «Ситаксо»? – спросил Фабрис Матиаса.
Талин почувствовала, как тот слегка напрягся.
– Все отлично, скоро подпишем. Я опять лечу в Нью-Йорк через два дня.
Она не знала, что он уезжает так скоро, но вздохнула с облегчением.
– Я слышал, это оказалось сложнее, чем ожидалось, – добавил хозяин. – Я работал с ними несколько лет назад, у них скверная репутация. Советую тебе быть с ними осторожней.
– Обо мне не беспокойся, – ответил Матиас, подливая хозяину шампанского.
Талин отметила, что у Матиаса нервно дернулись уголки губ; он деланно улыбнулся и сменил тему. Она пыталась следить за разговором, но было скучно, и она отошла. Наблюдая за гостями, которые громко разговаривали и смеялись, она снова почувствовала себя чужой.
Что я здесь делаю?
Она обошла квартиру. Белые стены, современные картины, холодные тона, строгий дизайн – все напоминало ей квартиру Матиаса. Мою квартиру, поправилась она. Она там никогда не чувствовала себя дома. До нее донеслись голоса. Она направилась в уголок террасы и замерла, узнав голос Матиаса.
– Чего ты добиваешься, метишь на мое место? – говорил он.
– Я получу его, когда захочу, ты это отлично знаешь. Что ты натворил, черт побери?
Талин спряталась за портьеру. Фабрис был очень зол.
– Я не стану больше тебя прикрывать, слышишь?
– Ты мне и не нужен, что ты о себе возомнил? – отозвался Матиас.
– Ты влип по-черному. На этот раз ты рискуешь вылететь, и я больше ничем не могу тебе помочь.
Талин услышала шаги: Кассандра шла к своему мужу. Тот сладко улыбнулся ей. Атмосфера тут же изменилась. Они засмеялись и пошли к гостям, столпившимся на другом конце террасы. Талин задыхалась. Что имел в виду Фабрис, сказав, что Матиас «влип по-черному»? Она заледенела.
– Шампанского? – предложил мужской голос.
Талин обернулась. Темный костюм, белая рубашка, запонки, стресс, кофе, тестостерон. Еще один банкир.
– Нет, спасибо, – сухо ответила она.
– Юго Лесье, – представился мужчина, очень уверенно протягивая ей руку.
У нее не было никакого желания к нему прикасаться, но руку она протянула. От его мягкой белой кожи ее передернуло.
– Прекрасный вечер, правда? – не унимался он.
Она не ответила, забившись поглубже внутрь себя.
– Я люблю эти парижские вечеринки. В них есть особый шарм. Дайте угадаю, – продолжал он, окинув ее взглядом, – вы не в финансах?
Талин огляделась в надежде, что кто-нибудь его отвлечет, но они были одни в этом отдаленном уголке квартиры.
– Вовсе нет.
– В чем же вы? – спросил он, обольстительно улыбаясь.
– Она в моей жизни, – ответил за нее Матиас, встав между ними и обнимая ее за талию.
Мужчина побледнел, извинился, и только его и видели. Матиас крепко держал Талин за талию. Он сдавил ее сильнее.
– Ты делаешь мне больно, – сказала она, пытаясь высвободиться.
– Я просил тебя произвести хорошее впечатление сегодня вечером, – упрекнул ее Матиас.
– Но я это и делаю!
– Позволяя себя клеить этому придурку?
Талин резко оттолкнула его.
– Он сам ко мне подошел.
– Непохоже, чтобы тебе это было неприятно, – повысил тон Матиас. – Ты стояла и кокетничала с ним.
– Неправда! Я не кокетничала.
– Еще как. Ты вынуждаешь меня постоянно за тобой присматривать, я не могу тебе доверять.
Талин внимательно смотрела на него. Ситуация была гротескной. Снова это чувство, будто живешь не в своей жизни… Однако, чтобы из нее выбраться, не хватало детали пазла. В смятении она почувствовала, что теряет почву под ногами, нервы были обнажены. Она пожалела, что не нанесла на запястья несколько капель Нониной амбры. Теперь она не могла достать флакон из сумочки и изо всех сил сосредоточилась на воспоминании об амбре на коже бабушки. Округлый, глубокий, роскошный аромат отгородил ее от Матиаса. Он продолжал ее отчитывать, но его слова больше не задевали ее. Закрывшись, как щитом, запахом Ноны, она решила обороняться.
– А ты что мне скажешь насчет «Ситаксо»? – спросила она.
Матиас побледнел. Она поняла, что выиграла очко. Он грубо схватил ее за руку.
– Прекрати, мне больно! – закричала она, безуспешно пытаясь вырваться.
Матиас огляделся, они были одни в коридоре, который вел в гостиную.
– Не вздумай больше так говорить со мной, иначе…
– Иначе что? – воскликнула она.
К ним шла Кассандра.
– Я вас везде ищу, – сказала она. – Десерт подан, идемте!
Она потащила их в гостиную. Голоса и смех немного сняли напряжение. Матиас снова стал неотразимым и обаятельным, каким умел быть в обществе. Талин знала, что стычка продолжится позже, в приглушенной тишине их квартиры.
Их много, и они окружили ее. Мужчины, женщины, дети… потерянные, голодные, с остановившимися взглядами. Они приближаются, тянут к ней руки. Нельзя здесь оставаться. Она озирается, но убежать не может. Ее тело тяжелое, обремененное ношей, которую несут они. Она хочет закричать, но не слышно ни звука.
Беззвучный крик.
Их глаза… Она не может выдержать их взглядов… Запавшие в глазницы, вернувшиеся из объятой огнем страны…
Талин проснулась от стука собственного сердца. От этой кавалькады даже перехватило дыхание. Она поспешно зажгла свет и огляделась. У кровати никого не было. Матиас зашевелился.
– Погаси этот чертов свет сейчас же, Талин, – проворчал он.
Она повиновалась, и сбежала в гостиную. Открыла тетрадь Луизы и погрузилась в чтение.
8
В следующее воскресенье, последний день моей болезни, все вышли в сад. Жиль с Пьером забрались на дерево, и Жиль долез почти до верхушки. Он поднял обе руки к небу в знак победы. Когда я увидела, как он спускается с такой высоты, меня охватил жуткий страх. Мария тоже закрыла глаза руками, и Пьер обнял ее, чтобы успокоить. Он часто обижал меня, но Марию всегда защищал. Его лицо, обычно жесткое, менялось и смягчалось на глазах, когда он был с ней рядом, словно он хотел подарить ей все лучшее, что было в нем. Жиль слез с дерева и улыбнулся мне, эту улыбку я храню в памяти и сегодня, после стольких лет. Особенно меня завораживали его незабываемые глаза, в них читалась несказанная сила, они пленяли. Это и поразило меня, когда я увидела его впервые – невероятная непокорность, решимость, которая жила в нем в любых обстоятельствах. У него уже были повадки мужчины, хоть он еще не вышел из детского возраста. Можно было предугадать, что он рожден для великих свершений, несмотря на все несчастья, которых было так много в его жизни. Я рассказала Жилю, что заболела вскоре после смерти бабушки.
– Как это бывает, когда у тебя температура? – спросил он.
– Это как будто огонь жжет тебя изнутри, – ответила я.
Когда он посмотрел на меня, я снова ощутила жар.
Под вечер мы медленно возвращались домой. Пьер и Мария почти исчезли. Я вдруг оказалась наедине с Жилем посреди сада. Деревья защищали нас, а душистые цветы вымостили путь нашим детским желаниям. Он остановился и вдруг взял меня за руку со смесью робости и решимости, от которой часто забилось мое сердце.
На следующий день я увидела перед домом несколько упакованных посылок. Слуги скрылись в пристройке. Подталкиваемая любопытством, я последовала за ними и увидела десятки таких же посылок, целую пирамиду.
– Для кого все это? – спросила я одного из слуг.
– Для сирот из Аданы.
Я была впечатлена.
– А что в них?
– Одежда и еда.
– Я могу тоже послать посылку сиротам?
– Тебе надо спросить дедушку, – ответил он.
Я с сожалением оторвалась от зрелища, пора было идти в школу. Ранец показался тяжелым, словно свинцовым.
К счастью, день начался уроком поэзии с сестрой Эммой. Она взяла мел и написала на доске большими буквами, своим красивым летящим почерком, имя армянского поэта Бедроса Турияна, умершего в возрасте двадцати лет, что произвело на нас сильное впечатление. Она дала нам прочесть его стихотворение под названием «Турчанка». Я забыла обо всем на свете, запоминая самые прекрасные в мире стихи «Она хочет смотреть, но лишается чувств, ее сердце дымится, как ладан, горя от любви…»
Мое сердце тоже дымилось, как ладан: оно горело от любви к Жилю. После урока сестра Эмма подошла ко мне.
– Луиза, мне бы очень хотелось, чтобы ты принесла стихи, которые пишешь. Я хочу предложить их одному журналу для публикации, – сказала она.
Я посмотрела на нее, ошеломленная этим предложением, и пообещала без промедления показать ей стихи.
Я вышла из школы и с удивлением обнаружила деда, который ждал меня в коляске. Мы поехали по крутым улочкам города, таким красивым в весеннем свете. Рыночная площадь была пуста в этот час. Коляска мало-помалу удалялась от города. Мы ехали молча, слушая стук конских копыт по пыльной дороге. Таврские горы возвышались вдали. Их загадочные глыбы как будто росли из земных глубин. Я смотрела на гору впереди, огромную и величественную. Ослепительные солнечные лучи бились о скалистые выступы. Открывшееся зрелище захватило меня. Дед остановил коляску, чтобы мы могли насладиться чудесным видением и затеряться в красоте этого незыблемого пейзажа.
– Отец возил меня смотреть на Тавр, когда я был ребенком, – сказал он.
– Ты был ребенком, дедушка?
Он рассмеялся.
– Конечно! И до сих пор остался ребенком! Это единственное условие счастья!
Его лицо вдруг посерьезнело.
– Дедушка, почему ты такой грустный?
Он поколебался долю секунды и, наверно, решил, что я достаточно взрослая, чтобы говорить со мной откровенно.
– Была резня в Адане. Наш народ доброжелательно отнесся к приходу к власти младотурецкого правительства, но нас предали.
Его лоб тревожно наморщился.
– Много людей погибло в Адане? – спросила я.
Его голубые глаза смотрели прямо в мои.
– Да, много людей.
Я почувствовала, как бесконечная печаль разлилась вокруг нас.
– Но почему турки их убили?
– Младотурецкое правительство думает, что армяне хотят основать новое армянское царство и виновны в подрыве единства империи, – ответил он.
Я знала от деда, что первые массовые убийства армян случились между 1894 и 1896 годом, в царствование султана Абдул-Хамида II. Погибло двести тысяч человек. Я пожелала точно знать, сколько армян было вырезано в Адане.
– Около тридцати тысяч…
Дед надолго ушел в свои мысли. Я задала вопрос, который жег мне губы.
– Теперь много сирот в Адане?
– Да, много. Твой отец возвращается сегодня из Сирии. Он отправится на несколько дней в Адану с посылками, которые прислали нам армяне из соседних провинций.
Я сказала, что хочу во что бы то ни стало поехать с ним. Он ласково улыбнулся мне и похлопал по руке.
– Тебе надо ходить в школу, сейчас это лучший способ помочь нашему народу.
– Но можно мне тоже готовить посылки для сирот?
– Конечно. У тебя светлая душа, Луиза. Береги ее.
Лошадь шла шагом. Покачивание коляски в вечерний час убаюкивало меня. Коляска свернула на узкую проселочную дорогу. Мы были совершенно одни. Толстые деревья, там и сям пучки травы, взлетавшие гроздьями птицы – все было на своих местах. От всего этого исходило глубокое чувство покоя, наполнившее нас до краев, изгнавшее из наших мыслей проникшую в них черноту. Дед взял меня за руку. Воздух был удивительно чистый, и я вдыхала его полной грудью. Листва на деревьях тихонько колыхалась под теплым ветром. Все показалось мне вдруг таким безмятежным, что трудно было поверить, какие в мире могут твориться ужасы.
– Дедушка, а турки будут резать еще людей, сделают в Мараше то же, что сделали в Адане? – спросила я тоненьким голоском.
– Нет, тебе нечего бояться.
Поздно вечером папа вернулся из Сирии. Заслышав его гулко разнесшийся по дому голос, я выбежала ему навстречу. Он выглядел усталым. Его лицо, всегда безупречно выбритое, покрывала щетина, глаза покраснели и ввалились от недосыпа. Когда он прижал меня к себе, я почувствовала кислый запах его кожи. О подарках в этот вечер не было и речи.
Назавтра я занялась приготовлением посылок, которые папа должен был отвезти в Адану. Я рассказала об этом подругам. Дедушкин дом стал нашим сборным пунктом. Мы звонили в двери и просили одежду и еду. Вскоре эта лихорадка охватила весь город. Дед организовывал собрания и объявил сбор средств на постройку в Адане сиротского приюта. Нельзя было допустить, чтобы армянских детей забрали турки. Я слышала, как дед объяснял кому-то, что, когда это происходит, маленьких армян воспитывают по турецким правилам. Они должны трижды в день совершать намаз и читать суры из Корана. Я была потрясена, когда услышала, что им даже дают мусульманские имена и строго следят, чтобы они забыли свою идентичность и свою веру. Озадаченная, я пошла в кабинет деда.
– Дедушка, что значит «забыть свою идентичность»?
– Это все равно что стереть память, погрузить ее во мрак. Как если бы ты оказалась в другой стране, где тебе пришлось бы начать жизнь заново и забыть родителей, дом, Прескотта и все, что наполняет сегодня твою жизнь. Идентичность – это сад, где ты сажаешь каждое событие в твоей жизни. Если ты ухаживаешь за ним, в нем растут прекрасные цветы. Но если кто-то проникнет в него и вытопчет их, сад будет разорен, а у дерева, которое в нем растет, не останется корней.
Я пожелала узнать, зачем нужны корни и есть ли они у меня.
– Корни – это то, что возносит тебя к небесам. Они – цоколь, от которого ты можешь оттолкнуться и взлететь.
Я задумалась.
– Как Пия, когда она сидит на своем насесте и я вижу, как она взмывает к солнцу?
– Да, как Пия. Без корней мы летаем беспорядочно, по воле ветра. Поэтому всегда надо помнить пейзажи своего детства.
После этого разговора я с удвоенным пылом готовила посылки, потому что хотела любой ценой не дать выполоть корни маленьких армянских сирот!
Жиль застал нас воскресным утром посреди этой суеты. Он тоже захотел что-нибудь дать и положил в посылки свои любимые голубые шарики. Я узнала, подслушивая под дверью, что во многих свертках, дошедших до обездоленных из Аданы, была нестираная, пропитанная ужасным запахом прогорклых духов и испорченной помады одежда. Мало того – иногда она была просто грязной, закапанной жиром или алкоголем. Эти узлы присылали богатые армяне из Стамбула, не очень озабоченные судьбой своих несчастных братьев. Зато другие посылки были собраны тщательно. Они приходили зачастую из отдаленных армянских провинций, и собирали их бедные армяне. Это был урок для меня, ведь я всегда думала, что богатые великодушнее других. Дед сказал мне, что все наоборот: когда у тебя много добра, с ним труднее расставаться, потому что накопленное богатство создает невидимую преграду между тобой и другими, делая тебя равнодушным к чужим несчастьям.
Пьер ушел в свою комнату и вернулся с саблей, с которой не расставался. Он протянул ее мне, чтобы я положила ее в посылку, но вмешался папа.
– Ты думаешь, сабля – подходящий подарок для детей, чьих родителей зарезали? – спросил он Пьера.
Тот задумался и признал, что идея плоха.
– Я просто хотел показать вам, что я великодушный!
– Мы знаем, что ты великодушный, сынок.
В хорошем расположении духа Пьер был само очарование: старался всем понравиться и блистал остроумием. Но внезапно он как будто достигал пика хорошего настроения и оседал, как французский торт, который однажды не удался нашей кухарке. Он мрачнел, становился угрюмым, агрессивным и беспокойным. Резко закипал, и горячая лава его детских страстей заливала все вокруг. С моим братом было трудно, дорогая моя детка, и что-то в нем навсегда осталось для меня непостижимой тайной.
Теперь я хочу рассказать тебе о Жиле. Он оставался со мной, во мне – все эти годы… Я несколько раз в тот день ловила на себе его пронзительный взгляд. Был ли он вправду ребенком? Я не смогла бы этого сказать – столько в нем было силы и решимости. Благодаря воскресным дням у нас из его глаз исчезло лихорадочное блуждание, и сохранилась лишь глубина, делавшая его взгляд таким особенным. Было в нем, несмотря на все его слабости, что-то непримиримое, упорно отказывающееся капитулировать перед властью. Меня смущал огонь, так ярко горевший в его глазах, когда он смотрел на меня, ведь это всегда происходило внезапно, после того как он вел себя под стать малому ребенку, которым и был. Тогда в нем не оставалось больше ничего детского, ничего легкомысленного и пустого. Его взгляд вселял в меня уверенность, хотя я еще не понимала, что это значит. Куда девались наши мысли друг о друге? Записывались ли они в большую книгу человечества или исчезали в глубине галактик? И что такое сама мысль?
Когда посылки были готовы, я увела Жиля в заброшенный уголок сада. Там была только вскопанная земля, не в пример остальной территории с идеально ухоженными цветочными аллеями. В этом месте земля оставалась сухой и шершавой, цветов почти никаких, а редкие травинки с трудом выживали под постоянным напором солнца. Чахлое деревце росло как могло. Я увидела пару почек, которые сумели, несмотря ни на что, набухнуть на одной из его хилых веточек. Это было наше с Марией любимое место, потому что все здесь вызывало у нас жалость. Иногда мы часами возились с леечками, чтобы доказать этой убогой природе, что мы никогда ее не оставим. А подальше, словно поддразнивая травку, деревце и жалкие цветочки, раскинулся густой лес с ослепительно яркой зеленью. Я показала Жилю Тавр, высящийся вдали. Он долго смотрел на него, потом повернулся ко мне.
– Знаешь, Луиза, я должен переживать только прекрасные вещи, потому что у меня крепкая память, и я обречен помнить все.
– Значит, ты и меня будешь помнить?
– Нет, ты, Луиза, не будешь жить в моей памяти, ты будешь жить в моей жизни! – пылко ответил он.
С этими словами он пристально посмотрел на меня.
– Когда вырасту, я на тебе женюсь.
– Я тоже, когда вырасту, на тебе женюсь.
На следующее утро папа уехал в Адану с нашими посылками. Он оставался там много недель и писал нам письма. Нам читали только короткие отрывки, в которых говорилось, что он много работает и сталкивается с множеством проблем. Действительность в Адане была куда хуже, чем нам рассказывали. Ему пришлось схлестнуться с вали вилайета Адана[3]3
Вали – представитель султана в вилайетах. Вилайет Адана – провинция, населенная армянами в Османской империи. – Примеч. автора.
[Закрыть] Джемал-беем, который хотел навязать турецкий язык в учебных заведениях для армянских сирот, чьи родители были убиты этими самыми турками. Я повсюду в доме совала свой нос и наткнулась на одно из писем, которое прочла до конца.
…Я посетил сиротский приют, то есть армянский колледж, где около четырехсот сирот нашли какое-никакое пристанище. Хоть я и был готов к этому страшному несчастью, но увидел такие ужасные вещи, что это превосходит всякое воображение. Я никоим образом не мог их представить себе даже приблизительно, пока не увидел собственными глазами. Целый вилайет был уничтожен. Выжившие и те, что бежали сюда, так деморализованы, что, если бы не насущная забота о естественных потребностях, они бы тоже умерли от горя. Никакого выхода, никакого света впереди… Смерть, руины, голод, болезни и тюрьма… Когда я попал в этот край, в первый момент мне показалось, что я вошел в дом покойника – еще не похороненного, новопреставленного. Было бы невозможно отличить армян от турок, не будь на лицах первых написана эта безутешная боль, которую вызывают лишь самые жестокие страдания…
Это письмо произвело на меня огромное впечатление. Я перечитала его несколько раз с отчаянно колотящимся сердцем. Особенно строки, в которых папа писал, что «в первый момент мне показалось, что я вошел в дом покойника – еще не похороненного», тронули меня до глубины души. Он выбрал такие убедительные слова, что я сама как будто оказалась перед лицом ужаса. Письмо продолжалось в том же тоне, с подробным изложением каждой из трудных битв, которые пришлось выдержать папе. Это были мучительные описания душераздирающих встреч, в том числе – с человеком, который схватил папу за руку и сказал ему: «Мы, армяне, не люди, даже не слуги, мы рабы». Я поняла, что эта поездка была болезненным ударом для папы, столкнувшегося с действительностью, намного превосходящей все, чего он мог ожидать.
В это беспокойное время я все же успела переписать свои стихи для сестры Эммы. Однажды после уроков я протянула ей их, чуть дрожащей рукой, потому что не решалась напомнить о недавнем ее обещании опубликовать их в журнале.
– Ты же написала гораздо больше, чем я думала, Луиза! Это чудесно! Надеюсь, ты не бросишь писательство, у тебя ведь настоящий дар украшать поэзией нашу унылую жизнь, – сказала сестра Эмма.
Она медленно прочла «Бродягу».
– Ты знаешь, что молодой поэт Даниэл Варужан опубликовался в журнале в тысяча девятьсот третьем году, когда ему было всего семь лет? – спросила она.
– Мне восемь, и я готова принять вызов! – пылко ответила я.
– Ты разрешаешь мне послать твои стихи в журнал?
– Но что будет, если мне откажут?
Она улыбнулась мне.
– Я уверена, что тебе не откажут. А если это и случится, мы постараемся опубликовать их иным образом.
– Спасибо, сестра Эмма!
Она обняла меня в неописуемом порыве материнской нежности и долго прижимала к себе. Впервые меня обнимала монахиня. Это удивило меня, потому что ни одна из них никогда не выказывала нам любви. Сестра Эмма была намного моложе остальных монахинь, которые нас учили. Я подняла голову, чтобы разглядеть ее лицо, медного оттенка кожу, высокие скулы, красивые черные глаза и полные губы. Представила ее с распущенными волосами – они всегда были прикрыты этим ужасным чепцом. Я ощутила в ней душевную рану и не смогла удержаться, задала ей вопрос, который жег мне губы:
– Вы такая красивая! У вас нет возлюбленного?
Я тотчас пожалела об этом, потому что лицо ее залила бледность, а глаза стали похожи на небо перед грозой. И вдруг ливень заструился по ее прекрасному лицу. Я замерла, не зная, что делать, как исправить ужасную ошибку, которую я совершила. Плечи ее затряслись от рыданий, и все тело согнулось под натиском боли. Потом она отстранилась от меня, утерла залитое слезами лицо и привела в порядок волосы.
– У меня был возлюбленный… Он умер, – сказала она.
Потрясенная, я не нашлась, что ответить, но с этого дня она стала мне еще дороже. Я не могла выкинуть из головы этот случай, потому что мне было больно за нее, запертую не в своей жизни. «У меня был возлюбленный… Он умер». Значит, все кончено? Неужели нет где-то другого возлюбленного для нее?
Много вопросов теснилось в моей голове. Как обычно, когда это происходило, я пошла к деду в кабинет. В очередной раз я прониклась магией этого места. В нем царила атмосфера, отличная от остального дома, как будто стены впитали все просьбы, высказанные здесь за много лет.
– Можно ли найти в другом человеке то, что было в ком-то, кто умер?
Деда удивил мой вопрос, и он надолго задумался.
– Конечно, можно пережить продолжение. На самом деле ничто никогда не останавливается. Мы проживаем жизнь эпизодами. Связываясь, они составляют единое целое.
Я настаивала.
– Но… можно ли еще любить, когда тот, кого любили, умер?
Он устремил на меня свой завораживающий взгляд ослепительной голубизны.
– Любовь никогда не умирает. Она существует сама по себе, независимо от человека, на которого обращена. Смерть – сорная трава. Ею зарастает наш сад. Мы должны выпалывать ее, чтобы она не захватила весь сад и не задушила цветы и деревья, которые мы терпеливо выращиваем. Есть время для печали и время для возрождения. Мы – плодородная почва. Если мы старательно поливаем ее каждый день, она приносит хорошие плоды. Но случается, что на эту землю обрушивается град, и плоды гибнут. Вся трудность тогда состоит в том, чтобы не опускать руки, дать земле отдохнуть и снова посеять семена.
Я закрыла глаза и увидела разоренную землю сестры Эммы. Все ее плоды были побиты грозой, теперь надо было собрать их один за другим и подготовиться к новому урожаю. От этого у меня стало так светло на душе, что я почувствовала себя прозрачной.
Вернувшись в свою комнату, я написала:
Эмма, зреют в тебе плоды, плодоносит земля…
Но поразила их однажды гроза,
разорив твои поля…
Разбила гроза твое сердце…
Папа вернулся из Аданы через месяц. Я кинулась ему на шею, вдохнула запах пыльных дорог, бессонных ночей и жгучего солнца. Он занимался нами весь остаток недели, был нежным и внимательным. С него как будто слетела природная властность, а к излияниям нежности мы не привыкли. Однако мы быстро научились на них откликаться. Наверно, зрелище такого количества сирот с пустыми взглядами, брошенных на произвол судьбы, приблизило его к нам. Он пытался этой лаской утешить целые пласты своей полной печали памяти. Возвращаясь из школы, мы заставали его в холле. Он ждал нас и звал поиграть в саду, который был очень уж хорош весной, полный удивленных почек и пьянящих запахов. Особенно приводил меня в восторг вечерний запах жасмина, когда его цветы отдавали впитанное за день солнце. Нам нравилось с Марией подходить к ветвям, вырисовывавшимся на темно-синем небе, и вдыхать их аромат полной грудью. Мы одновременно откидывали головы назад, забыв обо всем и глядя на звезды. Всегда находилось место, где запах жасмина был особенно силен. Мы кружили вокруг него, нюхая теплый и тяжелый воздух, пока не засыпали, убаюканные ароматом цветов.
Ужины в том году были для всех нас временем благодати. Дом озарялся оранжевыми отсветами. Кругом царило чувство глубокого покоя, будто укорененное в самой земле. Ничто никогда не нарушит спокойствия этих бесконечных дней – так мы все думали тогда, устремив глаза на Тавр, чья неподвижная глыба ловила последние лучи солнца. Как же мы были неправы!
Примерно месяц спустя сестра Эмма попросила меня задержаться после уроков. Я еще не решилась подарить ей написанное для нее стихотворение, но всегда носила его с собой в ожидании удобного случая. Не говоря ни слова, она протянула мне журнал «Базмавеп» отцов-мхитаристов.
– Открой его там, где я загнула уголок, Луиза, – сказала она.
Я повиновалась и увидела мое стихотворение «Бродяга». Я смотрела на него с бешено колотящимся сердцем. Эмма объяснила мне, что монастырский орден отцов-мхитаристов был основан в 1700 году в Константинополе молодым монахом по имени Мхитар, а остров Святого Лазаря в Венецианской лагуне является резиденцией ордена. Он очень быстро стал для армян самым знаменитым литературным центром.
– Их журнал «Базмавеп» впервые вышел в тысяча восемьсот сорок третьем году, и напечататься в нем – большая честь, – сказала она.
Я перечитала стихотворение, как будто увидела его в первый раз. Мое имя, Луиза Керкорян, было напечатано большими буквами, с датой рождения: 1901. Я вдруг почувствовала себя важной особой.
– Спасибо, сестра Эмма! Это так!..
Я достала из своей сумки стихотворение и сказала ей:
– Я написала это для вас.
Она развязала красную ленточку и медленно прочитала каждое слово. Я замерла, не решаясь прервать чтение. Не смея дышать, я ждала, когда она дойдет до конца стихотворения, но, закончив, она села за свой стол и прочитала во второй раз, не говоря ни слова. На миг я испугалась, что опять оплошала, но она, подняв голову, улыбнулась мне. Выражение ее лица неуловимо изменилось.
– Я никогда не получала такого подарка. Я буду тебе вечно благодарна, Луиза.
Обратный путь в коляске показался мне таким долгим, что хотелось пройти пешком последние километры, отделявшие меня от дома. Когда мы наконец подъехали, я спрыгнула с подножки и побежала вверх по лестнице, размахивая журналом.
– Смотрите, смотрите! – кричала я.
Но никто не вышел мне навстречу, и я вдруг почувствовала себя очень глупо. В зеркале отразилась взъерошенная девочка в помятой блузке, с растрепанными волосами, поднявшая над головой скомканный журнал. Я невольно улыбнулась: совсем не так должна себя вести юная поэтесса, чьи стихи опубликованы в журнале «Базмавеп»! Я мало-мальски привела себя в порядок и побежала в кабинет деда. Журнал, открытый на моем стихотворении, я положила на видное место на стол. Он увидел мое имя и прочитал стихи, а потом устремил на меня свой ясный взгляд.
– Многие прочтут это стихотворение, Луиза. Твои слова теперь обойдут всю Землю.
Я улыбнулась, представив, как мои слова путешествуют вокруг света. В чьих сердцах сделают они остановку?
Дед повел меня в большую гостиную и созвал весь дом. Пьер и Мария, которых оторвали от игр, смотрели на меня с непониманием. Дедушка протянул им журнал, и все смогли прочесть мое имя, четко напечатанное над стихами. Я увидела гордость в глазах родителей.
Вечером я положила журнал под подушку, ни за что не желая с ним расставаться. Я уснула с таким легким сердцем, что мне казалось, будто ночью я улечу.
В следующее воскресенье я поспешила показать журнал Жилю.
– Ты великий поэт, Луиза. Ты будешь писать всю жизнь, обещаешь?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?