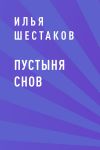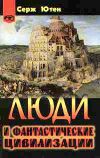Текст книги "Аромат изгнания"

Автор книги: Ондин Хайят
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
* * *
Я погружаюсь в воспоминания, и это переворачивает мне душу, дитя мое. Порой одолевает искушение убежать подальше, но разве можно жить без памяти?
* * *
Я приняла первое причастие перед летними каникулами. Накануне я легла в таком возбуждении, что проспала едва ли несколько часов. Утром я, разумеется, не могла ничего есть, потому что хотела предстать перед Богом легкой, как перышко. Мама помогла мне одеться. Я побежала смотреться в зеркало. Меня нарядили во все белое. Белоснежное платье с пышными рукавами и изящным воротничком шло мне изумительно. Я застегнула пряжки белых лакированных туфелек и надела белые перчатки, совершенно неуместные в душную летнюю жару. Я уже начала потеть, но изо всех сил старалась как-то с этим совладать, потому что, приобщаясь к святости, потеть нельзя. В церкви я встретилась с тремя другими девочками, тоже принимавшими причастие. Священник обратился к нам.
– Вы принимаете сегодня Господа в ваши сердца. Вы всегда были хорошими девочками, исполненными достоинств, поэтому Он наверняка будет заботиться о вас с особым вниманием. Сегодня вы примете тело Христово в первый раз. Пусть этот момент будет для вас важнейшим событием сегодня, завтра и всегда.
Я вдруг почувствовала себя очень важной особой. В конце концов, не каждый день принимаешь тело Христово через хлеб и вино, такие будничные вещи, но они, как уверяли нас, представляют преображенное тело Христа. Я вспомнила увиденного однажды на рыночной площади пьяницу, сжимавшего в руках бутылку вина. Наверно, никогда ни один человек не был так близок, как он, к телу Христову!
Я шагнула к священнику, и он протянул мне облатку.
– Тело Христово, – с пафосом возгласил он.
Дрожь пробежала по моему телу. Трепеща, я открыла рот. Он положил облатку мне на язык. Я закрыла глаза, чтобы проникнуться телом Христовым. Правда, у него был вкус мела, и я немного растерялась. Священник протянул мне кубок с вином.
– Кровь Христова.
Я выпила от всей души, и ему пришлось вырвать у меня кубок, чтобы в меня не перелилась вся кровь бедняги Иисуса. Потом к причастию подошла вся церковь. Я беспокоилась о теле Христовом, боясь, что после службы от него мало что останется.
Вечером я уснула, сжимая в пальцах медальку первого причастия.
Настал наконец день отъезда в Хагиар, в наш летний дом на берегу моря. Мы проводили там каждое лето. Приготовления длились бесконечно долго. Этим летом мы решили взять с собой Жиля. Он никогда в жизни не уезжал на каникулы и не знал, как это. Дед обошел угодья со слугами, чтобы удостовериться, что все в порядке, и запер дом. Наша процессия отправилась в путь. Жители Мараша стояли на балконах или у дверей своих домов, здоровались с нами и желали хорошего отдыха. Я держала Жиля за руку добрую часть пути, и его тепло разливалось по моим жилам.
В Хагиаре нас встретил залитый светом дом. В воздухе висела водяная пыль, принесенная морскими волнами. Хагиар, окруженный полями и виноградниками, был раем для детей. Повсюду высились скалы, в которых мы любили прятаться и предаваться мечтам. А главное – там был пляж и море, такое синее, что сливалось с небом. Песок был белый, как мое платье первопричастницы. Приходилось щурить глаза – так он слепил. Дом был поменьше, чем в Мараше, и Пьер спал в одной комнате с Жилем, а Мария со мной. Я обожала нашу комнату. Ее окна выходили на море, и мы могли вволю слушать плеск волн, лениво набегавших на песок. Ночами эти звуки убаюкивали нас лучше любой колыбельной. Море просто ошеломило Жиля. Папа научил его плавать. Мы с Марией писали слова на песке и смотрели, как их слизывает море.
Дни пробегали незаметно. Казалось, время движется в ином ритме, совсем не так, как в Мараше. Нашу свободу никак не ограничивали, только ложиться спать надо тогда, когда велят. Мы предавались тысячам игр, бегали по виноградникам, хватая свободу за хвост, и объедались нагретыми солнцем ягодами, таявшими во рту. Я почти забросила тетрадь со стихами, ведь моим эмоциям была отдана лучшая территория из возможных. Каждое утро начиналось с радости, с чувства безопасности, с объятий беззаботности.
У самого моря я нашла куст – раздвоенный, с удобной выемкой у самых корней. Жиль иногда садился рядом со мной, молча, чтобы не нарушать моих грез. Мы сидели так часами, слушая, как разбиваются волны о песок. Вдыхали полной грудью морской воздух – свободные, такие свободные, что даже горизонт не мог остановить наш бег к вечности. Жиль был для меня светом – таким же, как дедушка, Мария и мама. Я шла по дороге, вымощенной звездами, и понимала, как мне повезло, что меня так любят. Я думала, что бабочки никогда не попадут в сети жестокости, а птицы всегда будут петь по утрам, пробуждая в нас желание жить.
Однажды я повела Жиля к морю по тропинке, которую сама нашла. Я поднырнула под плакучую иву, обхватив ее ствол руками. Жиль подошел ко мне и тоже обнял ее. Наши руки соприкоснулись. Я закрыла глаза, слушая нежную мелодию листвы, колышущейся под весенним ветром. Он придвинулся ко мне и неловко поцеловал в щеку. Я почувствовала, что становлюсь красной, как помидоры, которые наша кухарка клала в табуле. Потом он прижался губами к моим губам. Это был мой самый первый поцелуй. Стало немного щекотно, как будто облачко тихонько легло на мой рот. Я приоткрыла его и еще отчетливее ощутила мягкость пухлых губ Жиля. Казалось, поцелуй длился много часов, я целиком отдалась этой благодати. Пора было уходить, но какая-то часть меня осталась в плену этого момента, и мне было очень трудно вернуться к настоящему. Я двигалась медленно, увлекая за собой ту, что осталась под деревом, прильнув губами к губам Жиля. Она не хотела идти со мной и тащила меня к себе, чтобы я вновь и вновь переживала восхитительный поцелуй, преобразивший этот день.
Вечером я долго смотрелась в зеркало, вглядывалась в свое лицо, выискивая изменения. Мои щеки раскраснелись, а рот как будто припух. Он был похож на ягоды ежевики, которые мы, сластены, собирали летом на тропинках вдоль моря. Мария ничего не заметила, и я решила сохранить в себе этот поцелуй, который таял в сердце, как сладкая конфета.
Все тщательно готовились к дню рождения Марии. Мы старались не показывать ей наших приготовлений, чтобы она была уверена, что мы забыли эту дату.
Когда великий день настал, она вскочила с кровати и кинулась ко мне, блестя глазами.
– Ну? – спросила она.
– Что – ну? – отозвалась я.
Прелестная гримаска разочарования была написана на ее сонном личике. Она побежала в комнату Пьера, который всегда окружал ее заботой и вниманием.
– Ну? – спросила она его.
– Что – ну? – отозвался он.
Ее плечики чуть ссутулились. Она спустилась к маме, которая ставила цветы в вазу, и повисла у нее на шее.
– Мамочка!
– Доброе утро, милая!
– Но… Ты мне ничего не скажешь?
– Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала, милая?
Я увидела, как Мария нахмурилась. Решив, что, возможно, перепутала дату, она побежала в кабинет деда, проверить по календарю, от которого он каждый день отрывал листки, какое сегодня число. Но было действительно двадцать первое июля. С тяжелым сердцем она вернулась в комнату. Прескотт смотрел на нас полными укоризны глазами. Мария была такая грустная, что я чуть не выдала ей наши планы. После завтрака я увела ее на пляж, зная, что, когда мы вернемся, все будет готово. Набрав ракушек, я села вместе с ней у воды и закопала наши ноги в песок.
– Вот я, когда вырасту, ни за что не буду забывать про дни рождения моих детей, – сказала мне Мария.
Я сделала вид, что не слышала. Когда нас позвали, Мария уже потеряла всякую надежду и шла к дому как приговоренная на казнь. Но вдруг грянула музыка, все вышли на крыльцо и приветствовали ее, хлопая в ладоши. Ее лицо расплылось в улыбке. Она почти перестала дышать от волнения. Все поздравляли ее с днем рождения, и она, смеясь, бросалась в объятия ко всем по очереди. Нас усадили за большой стол с видом на море, до стола долетали морские брызги, смешиваясь с запахом жареного мяса. Кухарка приготовила на обед все, что любила Мария. Глаза ее округлились, когда она увидела изобилие блюд, приготовленных специально для нее. Ее тарелки скоро не стало видно под долмой, буреками с мясом, табуле, кюфтой с кумином… Еды было гораздо больше, чем она могла съесть, аппетит у нее был как у бабочки.
Наконец кухарка принесла именинный торт, который каждый год пекли для Марии. Это была огромная шарлотка с малиной, покрытая вкуснейшим розовым кремом. Слуги ели вместе с нами и ухаживали за Марией, которую просто обожали. Светлые волосы обрамляли ее личико. Она выглядела такой хрупкой, что мы все, не задумываясь, отдали бы за нее жизнь.
За лето моя кожа стала еще смуглее. Особенно я любила разглядывать свои руки: промежутки между пальцами всегда оставались светлыми. Волосы Жиля выгорели на солнце, а зелень глаз стала еще ослепительнее. В нас кипела такая жизненная сила, что порой приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Для нас не было ничего невозможного. Мы топтали песок наших детских желаний, оставляя на нем следы грез.
В получасе ходьбы от дома находился водопад. Я старалась бывать там при любой возможности. Можно ли вообразить такую красоту? Я сидела там часами на плоском камне и писала стихи, полные восхищения изобилием природы. Густая растительность фестонами обвила скалу, по которой стекали хрустальные капли. Как же восхитительно! Я слушала журчание живой воды, ловя каждую нотку. Иногда со мной приходил Жиль, отчего волшебство этого места для меня лишь усиливалось. Он садился на камень и молчал, боясь замутить хоть каплю благодатной воды. Мы прятались от жгучего солнца, а когда жара становилась слишком тяжелой, окунались в воду. Я украдкой косилась на Жиля, избегая его ослепительного взгляда. Чтобы успокоить сердце, я прижимала ладони к прохладной скале и закрывала глаза, уносясь в пылкие мечты. Жиль подарил мне в один из этих особенно отрадных дней маленькое гладкое деревянное сердечко, которое сам для меня сделал. Он повесил его мне на шею.
– Я буду его носить всю жизнь! – пообещала я страстно.
От водопада мы всегда уходили какими-то притихшими, потому что он окончательно успокаивал смятение, порой сжигавшее нас. Дни, проведенные в Хагиаре, были днями песка и соли, раскаленными солнцем. Днями, когда самое невозможное счастье ложилось на наши ладони каплями чистого детства.
* * *
Долина Кадиши так прекрасна сегодня утром! Деревья гнутся под тяжестью лет и приветствуют солнце у парадного подъезда воспоминаний. Я открываю окно моей жизни и вдыхаю долетающие брызги. Прости меня, дитя мое, если факты теснятся, цепляясь один за другой, но я предприняла долгое путешествие в гроты моей памяти… Кто я буду после самой себя? Я столько бежала в прошлом, что мне трудно вернуться к себе. Я знаю, что уже не совсем целостна, что оставила куски сердца на извилистых дорогах моей жизни. Они запутались в кустах сомнений и повисли на колючках отчаяния. Я смотрю на тетради со стихами, единственные следы моего прошлого. Они – ее верные свидетели. Мне кажется, что я только начинаю жизнь, а ведь я уже переступила ее порог. Все пережитое лишь готовило меня к тому, чем я в итоге стала. Понадобилось столько гроз, столько молний, чтобы расколоть небо моих убежденностей и погрузить звезды одну за другой во мрак! Столько было бессонных ночей, и вкус прощания наполнил мои закрома. Тучи ушли с затянутого горестями неба, и я смогла вновь услышать мелодию тех зачарованных дней. Я принадлежу земле, так истерзавшей мою душу. Я – хрустальное создание, надколотое бездной. Я так хотела вырасти, идти быстрее своей жизни. Свобода была иногда так близко – только руку протянуть, однако я не могла ее схватить. Я пыталась бежать за ней по извилистым тропкам абсурда, но мне было не угнаться. Моя душа всегда была свободна, но тело держало ее в тенетах плоти. Она, как птица в клетке, билась о стены невозможного. Действительность всегда марает мечту, и все же надо снова и снова мечтать. Нырять в эти бездны, видеть, как тает каждая частица твоей веры. Лежать с перебитыми крыльями в окружении стен и оград, но уметь терпеть, имея единственным союзником дыхание ночи. Кто нас этому учит?
Я едва не исчезла совсем, поглощенная равнодушием. В самом потайном уголке я разбила свой лагерь, где залечивала раны. Всматриваясь в себя, я вижу огромные шрамы, навсегда изменившие мои леса. Сегодня я лечу над перекопанной поляной моей жизни… Не важно, что наши ветви хрустят и ломаются на ветру, дитя мое, ведь ты хочешь собрать с них немного памяти времен. Ты несешь эту историю в себе, ты – продолжение воспоминаний. Сердце надо питать, чтобы оно могло взлететь и объять зарю своей доброты.
Я сижу у окна жизни и краду немного голубизны у неба. Очертания моего тела теперь неопределенны, я живу в каждом из кедров, что высятся передо мной. Я наконец стала всем – всем тем, чем так стремилась стать. И сегодня я вспоминаю…
9
Когда мне исполнилось двенадцать, мое тело внезапно изменилось. Равнины вдруг стали округлыми холмами, и это смутило меня, потому что сначала я не знала, что делать с новым пейзажем. Мне пришлось отправиться в экспедицию, чтобы мало-помалу исследовать его рельеф. Как будто внезапное землетрясение необратимо изменило мою географию. Эта резкая перемена не обошлась без боли, и острые углы сгладились лишь спустя некоторое время. Чистый ручей, протекавший во мне, однажды расцвел маками. Алия, наша служанка, объяснила мне, что он будет окрашиваться красным каждый месяц. Я не рассказала об этом Марии, чье тело было по-прежнему хрупким. Я завидовала ей, ведь она оставалась той, кем была всегда, и бегала по саду, гоняясь за бабочками. Я, конечно, тоже осталась кем была, но несказанная печаль порой сжимала мне сердце, и мне понадобился почти целый год, чтобы обрести такие нужные мне ориентиры. Мое восприятие изменилось, и это волновало меня, потому что чувствительность была главной моей ценностью. В этот год я была в разладе со всем тем, из чего состояла жизнь. Это был бесплодный год для моей поэзии, мне не удавалось облечь чувства в слова. Сказалось это и на моих отношениях с Жилем. Между нами повисло смущение, и я реже приглашала его в свою комнату. Его тело тоже изменилось, он очень вырос, а голос зазвучал ниже, чем прежде. Характер у него стал еще тверже, и он теперь отлично умел высказывать свое мнение. Он много читал. Сиротский приют больше не тяготил его, потому что впереди виднелся выход. Весь этот год я жила в постоянном дискомфорте, жалея о прежней маленькой девочке, гонявшейся за беззаботностью. Сад тоже казался мне другим, он будто уменьшился, и я с трудом узнавала места, где столько раз находили приют мои детские грезы. Зачем расти? Как бы я хотела, чтобы ничего не изменилось! Неужели нет способа остановить время и навсегда остаться ребенком? По утрам мне стало тяжелее просыпаться, как будто мое выросшее тело было нагружено камнями. Куда девались легкость и невинность?
Смирившись наконец с моим новым телом, я вольготно расположилась в нем. Оно стало моим домом, и я ухаживала за ним, следуя советам Алии, которая дала мне крем и другие женские средства. Я любила расчесывать волосы, одна в своей комнате по вечерам, перед большим зеркалом, которое папа привез из Франции. Это было зеркало в полный рост, и я удивилась, впервые увидев в нем свое отражение. Я привыкла видеть себя мечтательной, встрепанной девочкой, но, когда в зеркале отразился мой новый образ, пришлось признать очевидное. Я увидела девушку с серьезным выражением лица, которую не сразу узнала. Давало ли это тело в зеркале точное представление о той, кем я была на самом деле? Откуда эти изгибы, этот цвет волос и кожи? Откуда эти светлые глаза, этот рот и эта улыбка? Можно ли измерить мою душу по рельефу тела, или они никак не взаимосвязаны? Я снова почувствовала себя потерянной и побежала к деду, который всегда стоял на перекрестке моих сомнений. Только он один мог в любых обстоятельствах развеять их.
– Дедушка, вправду ли я похожа на то, что я есть?
Он задумался, вынашивая свой ответ.
– Ты была бы совсем другой, родись ты в Африке. Но выражение, написанное на твоем лице, похоже на то, что ты есть. Не важны холмы и долины, большие или маленькие, не важен цвет, ведь все определяется чувствами. Эти чувства рождаются в твоем сердце, поэтому они – выражение того, что ты есть.
Итак, я могла родиться маленькой и другого цвета, но это не главное. Форма иллюзорна, моя плоть лишь была залита в матрицу, которая могла быть совсем другой. Но то, что я делала с этим материалом, определяло меня и походило на меня по-настоящему. Моя грусть, мой смех, выражение моих глаз были фрагментами меня, они запечатлевались в моей плоти и преображали ее. Мне нравилось обо всем этом думать. В очередной раз объяснение деда развеяло мои сомнения.
– А детство? Куда оно уходит, когда вырастаешь? – спросила я.
– Оно никогда не уходит. Это мы его гоним. Расти – значит познавать мир. Если не беречь свою невинность, действительность уничтожает ее. Надо беречь способность смотреть как в юности, ведь по-настоящему взрослым становишься только тогда, когда способен чувствовать как дитя, а взлететь можно, лишь укоренившись в действительности, – ответил он.
Доля детства, разумеется, оставалась во мне, и я продолжала играть в саду, умиляясь всяким пустякам. Несколько лет назад папа установил в доме обычай, который один мог бы раздуть угли детства в самом холодном сердце. Раз в году мы имели право на день «да», целый день, когда свобода была на расстоянии вытянутой руки. Все было нам позволено, мы получали подарки, и в ожидании этого дня сердце билось чаще. За неделю до него наша богатая фантазия рождала самые безумные идеи, и мы – Пьер, Мария и я – соревновались в выдумках. Мы неизменно расходились, не представляя, что придумает каждый из нас. В том году я получила тетрадь в кожаной обложке и бутылочку красных чернил. Я попросила Жиля написать что-нибудь в моей новой тетради и с волнением прочла алые буквы: «Луиза и Жиль – навсегда», обведенные сердечком.
Приближалась зима. Кончились долгие дни, овеваемые теплым ветром. В доме царила суета. Надо было сделать запасы на зиму, которая обещала быть особенно суровой. Повалил снег, не давая нам выйти. В доме чистили кабачки, баклажаны… Все это хранили на чердаке. Зерна пшеницы кипятили и сушили, потом очищали и смешивали с холодным кислым молоком. Мы называли это «тархана». Эти запасы кормили нас всю зиму. Дни становились короче, и наконец оставалась лишь тонкая полоска света. Я ненавидела зиму, в доме было холодно, несмотря на все усилия деда повысить температуру. Я ложилась спать дрожа, и с радостью куталась в многочисленные одеяла, которые раскладывала на моей кровати Алия. Проснувшись, я ощущала колючий холод в доме, и нам требовалось много времени, чтобы согреться. Под вечер мы с Марией усаживались у камина и смотрели, как идет снег, защищенные ласковым теплом огня. Мама играла на пианино, и большая гостиная озарялась мягким оранжевым светом.
Я помню Рождество моих тринадцати лет, в 1914-м. Дедушка велел нам приготовить, как и каждый год, тюки с одеждой для самых бедных. Мы относили их в церковь накануне Рождества. Стоял колючий холод, и я изо всех сил призывала лето. Город жил в постоянном возбуждении, ибо слухи о войне все росли. Еще до того как она разразилась в Европе, правительство, опасаясь объединения армянских националистов с русскими, послало жандармов в города и деревни, чтобы реквизировать оружие. Их интересовали только армяне. Ни турки, ни курды, ни черкесы сдавать оружие были не обязаны. Мараш не стал исключением, и всем пришлось сдать оружие и боеприпасы. Дед только благодаря своим связям избежал этого, и я узнала, подслушивая под дверью, что он, серьезно рискуя, согласился прятать оружие в доме под полом. Генеральные инспекторы из Европы, недавно назначенные в армянские области, были высланы, что посеяло панику среди армянского населения. Война еще не была официально объявлена, и мы ничего не подозревали, но Османская империя уже приступила к всеобщей мобилизации и создавала грозную «Специальную организацию», призванную координировать программы истребления. Двадцать девятого октября 1914 года Турция объединилась с Германией и вступила в войну с Антантой. Так что это Рождество было омрачено страхом. Все христиане города собрались в церкви для общей молитвы. Люди всех возрастов и всех положений молились с одинаковым пылом. Царящая в храме атмосфера окрылила меня. Нам дали свечи. Я держала свою высоко, чтобы Бог хорошо разглядел ее с небес. Жиль взял меня за руку. Каждый молился изо всех сил. Но Бог, видно, был очень занят в тот вечер, потому что ни одна из наших молитв не была услышана. Мы еще не знали, что скоро будем гонимы сквозь хаос и что все наши мечты пойдут прахом. Мы возвращались всей семьей со службы с легким сердцем, даже засыпавший город снег не был нам помехой, а потом мы обменивались подарками под большой елкой.
Жиль провел каникулы с нами. Я любила его всей душой, и, несмотря на наш юный возраст, мы с ним часто говорили о будущем. Мы поженимся и будем строить завтрашнюю Армению. Его увлекала политика. Он слушал все, что о ней говорилось, и особенно интересовался партией Дашнакцутюн, созданной в 1890-м. Он говорил, что вступит в нее, когда вырастет, и что Армения должна стать независимым государством. Дедушка часами беседовал с ним, объясняя, что в правление Абдул-Хамида все подвергалось цензуре – пресса, слово, литература – и что было запрещено употреблять слова «партия», «Армения», «свобода», «независимость»… Когда младотурецкое правительство свергло его в 1909-м и к власти пришел комитет «Единение и прогресс», руководимый Энвер-пашой под эгидой нового султана Мехмеда V, в армянах проснулась надежда. Конечно, резня в Адане поколебала их доверие к новому правительству, но всем хотелось верить, что это всего лишь последние содрогания старой империи. Младотурецкое правительство дало стране новую конституцию и надежду на лучшую участь всем меньшинствам. Даже партия Дашнакцутюн, способствовавшая их приходу к власти, поверила в перемены. Но вскоре появились тревожные знаки, и даже самые восторженно настроенные вдруг стали осторожнее.
Трудности деда росли день ото дня, потому что турецкое правительство требовало поставок, ничего не платя. Однажды я даже услышала, как дедушка сказал папе, что малейшее нарушение нас разорит, так что следует быть осторожными. Папе пришлось поехать в Дамаск с ценными подарками и хвалебной рекомендацией за подписью военных властей Мараша. После многочисленных демаршей и долгого обмена телеграммами с Константинополем ему все же удалось добиться оплаты, за вычетом 25 % реально причитающейся суммы. Дед сказал, что это пустяки, главное – что мы выиграли дело. Он выглядел ужасно озабоченным. Я часто приходила к нему в кабинет, пытаясь вытянуть из него хоть какую-то информацию. Он был неразговорчив – видно, не хотел тревожить меня еще сильнее. Он старался, чтобы разные сообщества могли прийти к согласию, и теперь чувствовал растущую угрозу этому шаткому равновесию. Седьмого апреля 1915 года город Ван восстал и установил временное армянское правительство. Реакция была немедленной и несоразмерной. Сославшись на якобы сыгранную армянами роль пятой колонны, младотурецкое правительство приняло решение, которое разбило наши жизни о стены ужаса.
* * *
Подожди немного, я не могу больше говорить. Я смотрю на небо, такое голубое, и не могу поверить, что этот кошмар действительно имел место. Земля так тиха сегодня… Дорогая моя детка, ты доказательство жизни, того вопроса, который не перестает задаваться. Он уходит корнями в землю и неустанно пишется в облаках. Мы не зря боролись все эти годы, ведь мы породили будущее, то будущее, на котором запечатлевается каждый твой шаг. Мы завоевали мужество и право вернуться из нашего бесконечного изгнания. Вы – те, кто освободился из нашего плена, те, кто сотрет следы крови на песке, чтобы море никогда больше не запятнал пепел. Вы – те, кто подарит бесконечности новый горизонт. Прильни ухом к миру и послушай историю сгинувшего детства, искавшего в руинах дорогу своей памяти…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?