Читать книгу "Лилия долины"
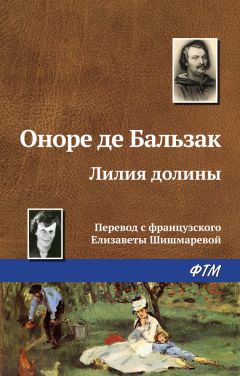
Автор книги: Оноре Бальзак
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Оноре де Бальзак
Лилия долины
Члену Королевской Академии медицинских Наук Ж.-Б. Накару[1]1
Накар Жан-Батист (1780–1854) – старый друг семьи Бальзака, домашний врач писателя.
[Закрыть].Дорогой доктор, вот один из наиболее тщательно отделанных камней фундамента, на котором медленно и старательно возводится литературное здание[2]2
…на котором медленно и старательно возводится литературное здание. – Речь идет о замысле большого цикла романов, возникшем у Бальзака в начале 30-х годов и позже получившем название «Человеческая комедия».
[Закрыть]; мне хочется начертать на нем ваше имя отчасти для того, чтобы отблагодарить ученого, некогда спасшего мне жизнь, отчасти для того, чтобы оказать внимание близкому другу.Де Бальзак.
Графине Натали де Манервиль.
«Я покоряюсь твоему желанию. Женщина, которую мы любим больше, чем она любит нас, обладает огромным преимуществом, ибо мы то и дело забываем ради нее о здравом смысле. Мы готовы преодолеть непреодолимые расстояния, отдать свою кровь, пожертвовать будущим, лишь бы не видеть, как хмурится ее лоб, лишь бы изгладить недовольную гримаску, в которую складываются ее губы при малейшем противоречии. Сегодня ты захотела узнать мое прошлое. Выслушай же повесть о нем. Только помни, Натали, повинуясь тебе, я впервые преступил тайный запрет своего сердца. Но зачем тебе вздумалось разгадывать, любимая, что кроется за внезапной задумчивостью, в которую я впадаю порой даже в самые счастливые минуты? Зачем ты так мило гневалась из-за моего невольного молчания? Неужели ты не могла примириться со странностями моего характера, не доискиваясь их причины? Или у тебя на сердце лежит тайна и для своего оправдания тебе надо было постигнуть тайну моей жизни? Словом, ты разгадала ее, Натали, и, пожалуй, будет лучше, если ты узнаешь все. Да, над моей жизнью витает призрак; малейший отзвук пережитого вызывает его из далекого прошлого, а иногда он и сам встает передо мной. В глубине моей души погребены неотступные воспоминания, схожие с теми водорослями, что в тихую погоду глаз различает на дне морском, но в бурю волны, обрывая их, выбрасывают на прибрежный песок. Хотя труд, необходимый, чтобы облечь мысли словами, и заглушил эти давние чувства, которые, внезапно пробуждаясь, причиняют мне такую острую боль, боюсь, как бы мое чистосердечное признание не оскорбило тебя. Вспомни тогда, что я повиновался твоей воле под угрозой разрыва, и не карай меня за послушание. Мне хотелось бы, чтобы эта исповедь удвоила твою нежность. До вечера.
Феликс».
Какому скорбному таланту суждено создать трогательную элегию, верную картину мук, перенесенных в молчании еще не огрубевшими душами, которые встречают лишь тернии в семейном кругу, чьи нежные ростки обрывают грубые руки, чьи цветы губит мороз раньше, чем они успеют раскрыться? Какой поэт расскажет нам о страданиях ребенка, вскормленного горьким молоком ненависти, чья улыбка застывает на губах под огнем сурового взора? Вымышленная повесть о несчастных детях, которых угнетают те, кто самой природой предназначен развивать их чуткие сердца, была бы подлинной историей моих юных лет. Кого мог я оскорбить, чью гордость задеть при рождении? Каким физическим или духовным недостатком вызвал я холодность матери? Чему я обязан своим появлением на свет? Чувству ли долга родителей или случаю, а быть может, сама жизнь моя была для отца с матерью укором? Кто мне ответит на это? Не успел я родиться, как меня отправили в деревню и отдали на воспитание кормилице; семья не вспоминала о моем существовании в течение трех лет; вернувшись же в отчий дом, я был таким несчастным и заброшенным, что вызывал невольное сострадание окружающих. Я не встретил ни искреннего участия, ни помощи, которые помогли бы мне оправиться после этих первых невзгод: в детстве счастье было мне неведомо, в юности – недоступно. Вместо того, чтобы облегчить мою участь, брат и обе сестры забавлялись, причиняя мне боль. Негласный союз детей, которые скрывают от взрослых свои шалости и, заступаясь друг за друга, познают чувство чести и товарищества, не существовал для меня; напротив, я часто видел, что меня наказывают за проступки брата, хоть и не смел жаловаться на несправедливость. Было ли тут дело в угодливости, свойственной даже детям, но только брат и сестры участвовали в этих преследованиях, стараясь заслужить одобрение нашей суровой матери. А быть может, на злые выходки их толкала склонность к подражанию? Или желание испробовать свои силы? Или же отсутствие жалости? Не знаю. Вернее, все эти причины, вместе взятые, помешали мне изведать прелесть детской дружбы. Лишенный с пеленок всякой привязанности, я никого не мог полюбить, а ведь природа наделила меня любящим сердцем! Слышат ли ангелы вздохи ребенка, чью нежность грубо попирают взрослые? Есть люди, у которых отвергнутые чувства обращаются в ненависть, но у меня они накопились, стали еще сильнее и, вырвавшись на волю, захлестнули впоследствии всю мою жизнь. У иных натур постоянные обиды поражают нервные волокна, вызывая робость, а робость неизменно ведет к уступчивости, к слабости, которая принижает человека, сообщая ему что-то рабское. Во мне же постоянные невзгоды укрепили силу воли, закалили ее в горниле испытаний, подготовив мою душу к борьбе с судьбой. Вечно ожидая новых невзгод по примеру мучеников, ожидавших новых истязаний, я всем своим видом олицетворял унылую покорность, под которой пряталась детская резвость и непосредственность; меня считали поэтому глупым ребенком, что подтверждало в глазах посторонних мрачные предсказания моей матери. Сознание людской несправедливости преждевременно пробудило в моей душе гордость – плод размышлений – и не позволило развиться дурным наклонностям, которым могло лишь способствовать полученное мною воспитание. Хотя мать и пренебрегала мною, я вызывал иногда у нее укоры совести; порой она говорила о необходимости дать мне образование и выражала намерение сама заняться им; но при мысли о муках, какие мне сулило постоянное общение с ней, дрожь ужаса пробегала по моему телу. Я благословлял свою заброшенность и был счастлив, что могу оставаться один в саду, играть камешками, наблюдать за насекомыми и смотреть на голубой небосвод. Одиночество обычно порождает мечтательность, но любовь к созерцанию вызвал во мне случай, который покажет вам, каковы были горести первых лет моей жизни. Обо мне так мало заботились, что гувернантка подчас забывала уложить меня спать. Как-то вечером, спокойно примостившись под фиговым деревом, я смотрел с чисто детским любопытством на яркую звезду, и под наплывом печальных мыслей мне чудился в ее мерцании проблеск дружеского участия. Сестры играли и кричали вдалеке; поднятый ими шум долетал до меня, не нарушая моих размышлений. Но вот все стихло, наступила ночь. Мать случайно заметила мое отсутствие. Желая избежать упреков, грозная мадемуазель Каролина, наша гувернантка, подтвердила опасения матери, заявив, что я ненавижу бывать дома, что без ее бдительного надзора я бы давно сбежал, что я не глуп, но скрытен и хитер, что среди всех детей, которых ей приходилось воспитывать, не было ни одного с такими дурными наклонностями. Гувернантка притворилась, будто ищет меня, и стала звать, я откликнулся; она подошла к фиговому дереву, заранее зная, что я там.
– Ты что тут делаешь? – спросила она.
– Смотрю на звезду.
– Ты не смотрел на звезду, это неправда, – проговорила мать, наблюдавшая за нами с балкона, – разве в твоем возрасте интересуются астрономией?!
– Ах, сударыня, – воскликнула мадемуазель Каролина, – он оставил открытым кран от фонтана – вода залила весь сад.
Поднялась страшная суматоха. Дело в том, что мои сестры, забавляясь, открывали и закрывали кран, чтобы посмотреть, как течет вода, но когда сильная струя неожиданно обдала их с головы до ног, они растерялись и убежали, так и не завернув крана. Меня обвинили в этой шалости, а когда я стал уверять, что я тут ни при чем, мне сказали, будто я лгу, и строго наказали. Но это еще не все: в довершение несчастья меня жестоко высмеяли за любовь к звездам, и мать запретила мне оставаться в саду по вечерам. Деспотические запреты сильнее обостряют желания у детей, чем у взрослых; дети начинают думать только о запретном плоде, и он влечет их неудержимо. Итак, меня часто наказывали розгами за мою звезду. Мне некому было излить свои горести, и я продолжал поверять их звезде на том прелестном и наивном языке, на котором ребенок выражает свои первые мысли, как некогда он лепетал свои первые слова. В двенадцать лет, в коллеже, я все еще любовался своей звездой, испытывая неизъяснимую радость, столь глубоки бывают впечатления, полученные на заре жизни.
Мой брат Шарль, на пять лет старше меня, был таким же красивым ребенком, каким он стал впоследствии красавцем-мужчиной; он был любимцем отца и матери, надеждой семьи, а следовательно, домашним тираном. Хотя он отличался крепким здоровьем и был хорошо сложен, его воспитывали дома и наняли ему наставника. Меня же, слабенького и хилого, поместили пяти лет экстерном в городской пансион; каждое утро камердинер отца сопровождал меня туда, а вечером приводил обратно. Мне давали с собой корзиночку со скудными припасами, тогда как мои одноклассники приносили всевозможные лакомства. Этот контраст между моей бедностью и их богатством послужил для меня источником бесчисленных терзаний. Прославленные турские блюда – ломтики жареной свинины и золотистые шкварки – составляли обычную трапезу учеников между утренним завтраком и обедом, который ждал нас по возвращении домой. Эти кушанья, столь ценимые гурманами, редко появляются в Туре на столе аристократов; если я и слышал о них до поступления в пансион, то дома мне никогда не намазывали на хлеб аппетитные золотистые шкварки; не будь они в таком фаворе среди учеников пансиона, мое страстное желание попробовать их не уменьшилось бы; оно стало чем-то вроде навязчивой идеи, подобно желанию одной изящнейшей парижской герцогини, мечтавшей отведать рагу, состряпанного привратницей; впрочем, как истая женщина, она добилась своего. Дети так же хорошо угадывают во взгляде голод, как вы читаете в нем любовь; поэтому я стал превосходной мишенью насмешек. Мои одноклассники, принадлежавшие по большей части к мелкой буржуазии, показывали мне жареные ломтики свинины, спрашивая, не знаю ли я, как ее приготовляют, где она продается и почему у меня нет с собой ничего вкусного? Они облизывали губы, расхваливая на все лады свиные шкварки, похожие на хрустящие трюфели; они шарили в моей корзинке и, обнаружив в ней лишь кусок сыра из Оливэ или сухие фрукты, приставали ко мне с вопросом: «Так, значит, тебе не на что купить еду?» – который показал мне, какая пропасть лежит между мной и братом. Контраст между моей отверженностью и счастьем других омрачил дни моего детства и набросил тень на мою цветущую юность. В первый раз, когда, поверив щедрости приятеля, я протянул руку, чтобы взять лицемерно предложенную тартинку, мой мучитель быстро отдернул руку с лакомством под хохот посвященных в проделку товарищей. Но если даже самые возвышенные души поддаются тщеславию, как не оправдать ребенка, который плачет, видя, что его презирают, высмеивают? Сколько детей, попав в мое положение, стали бы лакомками, попрошайками, трусишками! Чтобы избежать преследований, я начал драться. Смелость отчаяния придавала мне силы; теперь меня боялись и ненавидели, но я оставался безоружным против подлости. Как-то вечером, возвращаясь из школы, я почувствовал сильный удар в спину: в меня запустили пригоршней камней, завязанных в тряпку. Когда камердинер, жестоко отомстивший за меня, рассказал о случившемся матери, она воскликнула:
– Этот проклятый мальчишка вечно доставляет нам одни неприятности!
Для меня наступило ужасное время, я потерял всякую веру в себя. Заметив, что я внушаю в школе такое же отвращение, как дома, я окончательно отдалился от сверстников. Так началась для меня вторая волна морозов, задержавшая всходы семян, посеянных в моей душе. Я видел, что дети, пользовавшиеся любовью, были отъявленными плутами; моя гордость нашла опору в этом наблюдении, и я замкнулся в себе. Итак, мне по-прежнему некому было излить чувства, переполнявшие мое бедное сердце. Видя меня постоянно грустным, нелюдимым, одиноким, учитель подтвердил предвзятое мнение родителей о моих якобы дурных наклонностях. Как только я научился читать и писать, мать отправила меня в Пон-ле-Вуа в коллеж конгрегации ораторианцев[3]3
Ораторианцы – религиозные общества, основанные в Западной Европе в XVI веке, получившие свое название от ораторий – молитвенных домов. Ораторианцы пытались приспособить науку и философию к целям пропаганды католицизма.
[Закрыть]; там меня определили на отделение, называемое «Начальная латынь», где учились также мальчики с запоздалым развитием, неспособные усвоить даже простейших знаний. Я пробыл в коллеже восемь лет, никого не видя из родных и живя как пария. И вот почему. Я получал всего-навсего три франка в месяц на мелкие расходы, а этой суммы едва хватало на перья, перочинный нож, линейку, чернила и бумагу, которые ученики должны были приобретать сами. Я не мог купить ни ходуль, ни мяча, ни каната с узлами, словом, ни одного из предметов, необходимых для развлечения, и оказался изгнанным из всех школьных игр: чтобы получить к ним доступ, мне пришлось бы льстить сынкам богатых родителей или подлизываться к силачам из моего класса. Но все восставало во мне при мысли об этом унижении, хотя другие дети не останавливались перед такой малостью. Я проводил свободное от занятий время под деревом, углубившись в грустные мысли, или читал книги, которые мы брали раз в месяц у библиотекаря. Сколько страданий таило в себе это противоестественное одиночество! Какую тоску порождала моя заброшенность! Подумайте, что должна была испытать нежная душа ребенка при распределении наград, тем более, что я заслужил две первые награды – за перевод с французского на латынь и с латыни на французский! Когда среди приветственных возгласов и звуков духового оркестра я поднялся на сцену, чтобы получить награды, ни отец, ни мать не поздравили меня, они просто не приехали, а между тем в зале собрались родные всех остальных учеников. Вместо того, чтобы, следуя обычаю, поцеловать учителя, раздающего награды, я бросился к нему на грудь и разрыдался. Вечером я сжег в печке полученные мною венки. Родители учеников обычно оставались в городе всю неделю перед раздачей наград, таким образом, мои товарищи радостно покидали школу каждое утро. А я, хотя мои родители жили всего в нескольких лье от города, проводил время на школьном дворе вместе с «заморскими учениками» – так называли мы детей, семьи которых находились в колониях или в чужих краях. По вечерам, возвращаясь к молитве, счастливчики безжалостно хвастались лакомствами, которыми их угощали родители. И так бывало со мной всегда: по мере расширения социальной сферы, в которую я вступал, увеличивались и мои невзгоды. Сколько сил я потратил, чтобы изменить приговор старших, вынуждавший меня жить, словно улитка в раковине! Сколько надежд, которые я лелеял с неукротимыми душевными порывами, было развеяно за один день! Напрасно умолял я родителей приехать ко мне в школу, напрасно писал им послания, исполненные любви и преданности, правда, несколько высокопарные. Эти письма неизменно вызывали лишь упреки матери, насмешливо критиковавшей мой витиеватый стиль. Однако я не падал духом, обещая выполнить любые условия родителей, только бы они навестили меня; я просил похлопотать за меня сестер, которым аккуратно посылал поздравления ко дню ангела и ко дню рождения. Увы, настойчивость несчастного, заброшенного ребенка оставалась тщетной! С приближением дня раздачи наград я стал еще красноречивее, заговорил о торжестве, которое, по-видимому, выпадет на мою долю. Введенный в заблуждение молчанием родителей, я ждал их, горя нетерпением, и даже объявил об их приезде товарищам; мое сердце болезненно сжималось всякий раз, когда по прибытии гостей во дворе раздавались шаги старого привратника, но он так и не выкрикнул моего имени.
Однажды я сознался на исповеди, что совершил тяжкий грех, ибо проклял свою жизнь; в ответ духовник указал мне на небо, напомнив о награде, обещанной Спасителем в одной из заповедей блаженства: «Beati qui lugent!»[4]4
Блаженны плачущие (лат.).
[Закрыть]. Готовясь к первому причастию, я всей душой предался глубокому таинству молитвы, так пленили меня религиозные идеи, духовная поэзия которых покоряет юные умы. Воодушевленный горячей верой, я молил господа бога еще раз совершить ради меня одно из чудес, о которых читал в мартирологе. В пять лет я устремился в заоблачные выси к своей звезде, в двенадцать стучался у врат алтаря. Среди охватившего меня мистического экстаза расцвели несказанные грезы, которые обогатили мое воображение, обострили чуткость и дали толчок мысли. Я часто думал, что эти видения ниспосланы мне ангелами, которым поручено облагородить мою душу для ожидающего меня высокого призвания. Это они наделили меня способностью проникать в сокровенный смысл вещей и подготовили сердце к чудесной и горестной доле поэта, обладающего роковым даром сравнивать то, что он чувствует, с тем, что есть, сопоставлять свои великие замыслы с ничтожностью достигнутого. Это они написали для меня книгу, в которой я мысленно мог прочесть то, что мне надлежало выразить. Это они прикоснулись горящим углем к моим устам, и я обрел дар красноречия.
Мой отец, недовольный обучением в школах монашеских конгрегаций, взял меня из коллежа Пон-ле-Вуа, чтобы поместить в парижское учебное заведение, находившееся в Марэ. Мне было тогда пятнадцать лет. После вступительных экзаменов ученик класса риторики коллежа Пон-ле-Вуа был допущен в третий класс пансиона Лепитра. Страдания, которые я испытал в семье, в школе и коллеже, приняли в этом пансионе новую форму. Отец не давал мне карманных денег. Родители знали, что я сыт, одет, напичкан латынью и греческим, а до остального им не было дела. За время моего пребывания в закрытых учебных заведениях у меня было около тысячи однокашников, но ни к одному из них родители не относились так холодно, так равнодушно, как мои родители относились ко мне. Г-н Лепитр, человек, самозабвенно преданный Бурбонам, поддерживал дружеские отношения с моим отцом еще в тот период, когда ярые роялисты пытались похитить королеву Марию-Антуанетту из тюрьмы Тампль[5]5
…пытались похитить королеву Марию-Антуанетту из тюрьмы Тампль. – В результате народного восстания 10 августа 1792 года Людовик XVI был низложен, королевская семья была заключена в тюрьму Тампль. После казни Людовика XVI (21 января 1793 года) роялистами делались неоднократные попытки устроить побег Марии-Антуанетты; она была казнена 16 октября 1793 года.
[Закрыть]; теперь старые друзья возобновили знакомство, и г-н Лепитр решил исправить упущение моего отца; но он выдавал мне ежемесячно очень скромную сумму, так как не был осведомлен о намерениях моих родителей. Пансион помещался в старинном отеле Жуайез, где имелась швейцарская, как и во всех старинных аристократических домах. Перед тем как отправиться в лицей Карла Великого, куда нас ежедневно водил дядька, сынки богатых родителей забегали позавтракать к нашему привратнику Дуази, настоящему контрабандисту, перед которым заискивали все учащиеся, так как тайком от г-на Лепитра он потакал нашим похождениям, покрывал нас, когда мы поздно возвращались в пансион, и служил посредником между нами и лицами, дававшими напрокат запрещенные книги. Выпить чашку кофе с молоком было признаком аристократического тона, и это понятно, так как при Наполеоне колониальные продукты стоили непомерно дорого[6]6
…при Наполеоне колониальные продукты стоили непомерно дорого. – В 1806 году Наполеон I объявил о полной блокаде Англии (политика континентальной блокады). Англия в ответ на это установила контроль над французской морской торговлей. Это привело к резкому подорожанию колониальных товаров во Франции.
[Закрыть]. Если употребление сахара и кофе считалось роскошью у наших родителей, то среди нас оно вызывало чувство тщеславного превосходства, вполне достаточное, чтобы пристраститься к этому напитку, помимо других побудительных причин, вроде склонности к подражанию, чревоугодия и моды. Дуази отпускал продукты в кредит, считая, что у каждого из нас найдутся сестры или тетки, готовые постоять за честь учеников и с радостью оплатить их долги. Я долго противился соблазнам буфета Дуази. Если бы мои судьи знали о силе искушения, о моем героическом стремлении к стоицизму, о подавленных приступах ярости во время длительной борьбы с собой, они осушили бы мои слезы вместо того, чтобы наказывать меня. Разве может ребенок, каким я еще был тогда, обладать душевным величием, которое дает силу презирать презрение окружающих! Кроме того, влияние социальных пороков еще усиливало мои аппетиты. В конце второго учебного года отец с матерью приехали в Париж. О дне их прибытия мне сообщил брат; он жил в Париже, но ни разу не удосужился меня навестить. Сестры тоже принимали участие в поездке, и мы должны были осмотреть Париж всей семьей. В первый день предполагалось пообедать в ресторане у Пале-Руаяля[7]7
Пале-Руаяль – дворец в Париже, построенный в начале XVII века; во времена Бальзака там помещались игорные дома, увеселительные заведения, кафе, модные магазины. Пале-Руаяль был местом любовных свиданий.
[Закрыть], а потом отправиться в находившийся поблизости театр Французской комедии. Программа этих нежданных развлечений привела меня в восторг, но мою радость развеяла та буря, которую неизменно навлекают на себя пасынки судьбы. Мне предстояло сознаться, что я задолжал сто франков г-ну Дуази, угрожавшему потребовать эти деньги у моих родителей. Я придумал тогда обратиться к брату: пусть он ведет переговоры с Дуази, пусть будет моим посредником и заступником перед родителями. Отец был склонен к снисходительности. Но мать оказалась неумолимой. Гневный взгляд ее темно-голубых глаз пронзил меня насквозь, она изрекла ужасные пророчества: разве из меня выйдет что-нибудь путное, если в семнадцать лет я способен на такие безрассудства? Я выродок, а не ее сын! И, конечно, разорю всю семью! Разве, кроме меня, у нее нет детей? Разве карьера моего брата Шарля не требует денег? Но он заслужил эти траты, он гордость семьи, я же покрою ее позором! По моей милости у сестер не будет приданого, и они останутся старыми девами! Неужели я не знаю цены деньгам и не понимаю, как дорого стоит мое воспитание! Какое отношение к наукам имеют сахар и кофе? Вести себя так может лишь негодяй! Марат просто ангел по сравнению со мной!
После того, как на меня обрушился этот поток жалоб и проклятий, вселивший в мою душу безмерный ужас, брат отвел меня обратно в пансион; я лишился обеда в ресторане «Братья Провансальцы» и не увидел Тальма в «Британнике». Такова была моя встреча с матерью после двенадцатилетней разлуки.
Когда я окончил классическую среднюю школу, отец оставил меня под опекой г-на Лепитра: мне предстояло пройти курс высшей математики и приступить к изучению права. Я был наконец освобожден от уроков в пансионе и получил отдельную комнату; казалось, в моих несчастьях наступила передышка. Но, несмотря на то, что мне было девятнадцать лет, а может быть, именно поэтому, отец продолжал придерживаться системы, лишившей меня съестных припасов в школе, мелких развлечений в коллеже и вынудившей брать в долг у Дуази в пансионе. У меня почти не было денег. А что делать в Париже без денег? К тому же мою свободу сумели искусно ограничить. По приказанию г-на Лепитра ко мне был приставлен дядька, который провожал меня в Юридическую школу и сдавал с рук на руки тамошнему преподавателю, а вечером приводил обратно. Молоденькую девушку и ту охраняли бы менее тщательно. Но что поделаешь, эти предосторожности были внушены матери опасениями за мою особу и желанием уберечь меня от соблазнов. Париж недаром страшил моих родителей. Ведь все юноши втайне заняты тем же, чем и барышни в пансионах! Что бы вы ни делали, одни будут говорить о женщинах, а другие о кавалерах. В те времена в Париже все разговоры учащихся вертелись вокруг сказочно-прекрасного мира Пале-Руаяля. В наших глазах Пале-Руаяль был Эльдорадо любви, где по вечерам рекой лилось золото. Там можно было положить конец девственным сомнениям, удовлетворить разгоревшееся любопытство! Но Пале-Руаяль и я были двумя полюсами: мы никак не могли встретиться. Вот как судьба посмеялась над всеми моими попытками. Отец представил меня одной из своих теток, жившей на острове св. Людовика; я ходил к ней обедать по четвергам и воскресеньям под охраной г-на Лепитра или его жены, которые в эти дни бывали в гостях и по возвращении забирали меня домой. Странное это было развлечение! Маркизе де Листомэр, церемонной великосветской даме, ни разу даже в голову не пришло подарить мне золотой. Старая, как собор, раскрашенная, как миниатюра, всегда пышно одетая, она жила в своем особняке, словно во времена Людовика XV, и принимала лишь знатных стариков и старух, похожих на выходцев с того света, среди которых я чувствовал себя, как на кладбище. Никто не обращался ко мне, я же не смел заговаривать первым. Под враждебными или холодными взглядами окружающих я стыдился своей молодости, которая, казалось, всем была в тягость. На их безразличие я и рассчитывал для успеха своей затеи, собираясь незаметно скрыться в один прекрасный день по окончании обеда, чтобы стрелою полететь в Деревянную галерею Пале-Руаяля. Стоило старой даме усесться за вист, как она переставала обращать на меня внимание, а ее камердинеру Жану было наплевать и на меня и на г-на Лепитра, но, к моему огорчению, злосчастный обед неизменно затягивался по вине беззубых ртов и несовершенства вставных челюстей. Наконец как-то вечером, между восемью и девятью часами, я выскользнул на лестницу, трепеща, словно Бьянка Капелло[8]8
Бьянка Капелло – дочь венецианского патриция, убежавшая из дома со своим возлюбленным; впоследствии жена герцога Франциско Медичи (XVI век).
[Закрыть] в день своего побега; но едва швейцар распахнул передо мной дверь, как я увидел на улице наемный экипаж, а в нем г-на Лепитра, который просил вызвать меня, с трудом выговаривая слова от одышки. Рок трижды вставал между адом Пале-Руаяля и раем моей юности. Наконец в двадцать лет, стыдясь своего неведения, я решил пренебречь любой опасностью, лишь бы покончить с ним; в ту минуту, когда я собирался улизнуть от г-на Лепитра, садившегося в экипаж, – что давалось ему с трудом, ибо он хромал и был тучен, как Людовик XVIII, – подъехала, словно назло, моя мать в почтовой карете! Ее взгляд приковал меня к месту, и я замер, как кролик перед удавом. Какой случайности был я обязан этой встрече? Все объяснялось весьма просто. В то время владычество Наполеона подходило к концу. Отец, предвидя возвращение Бурбонов, хотел дать добрый совет моему брату, который уже числился на дипломатической службе императора. Он приехал в Париж вместе с матерью, решившей забрать меня домой: надо же было уберечь младшего сына от опасностей, которые угрожали столице, по мнению проницательных людей, следивших за ходом событий. Итак, не успев опомниться, я очутился вне Парижа в тот самый момент, когда пребывание там становилось для меня опасным.
Еще в пансионе мое беспокойное воображение, желания, которые то и дело приходилось обуздывать, тяготы жизни, омраченной вечным безденежьем, побудили меня отдаться наукам по примеру тех, кто, разочаровавшись в жизни, уходил некогда в монастырь. Учение стало моей страстью, которая могла оказаться гибельной, отгородив меня от мира в ту пору, когда молодым людям надлежит следовать волшебному голосу пробуждающейся в них весны.
Этот беглый очерк моей юности, которая таила в себе, как вы легко можете догадаться, тысячи невысказанных элегий, был необходим, чтобы понять, какое влияние она оказала на мое будущее. Удрученный своей горькой участью, я и в двадцать лет был мал ростом, худ и бледен. Моя душа, исполненная бурных порывов, боролась с хилым на вид телом, в котором, по выражению одного пожилого турского врача, выковывался железный темперамент. Ребенок телом и старец умом, я столько читал и размышлял, что успел мысленно проникнуть в горние сферы жизни, когда впервые заметил, как извилисты ее ущелья и пыльны дороги ее равнин. Стечение злосчастных обстоятельств задержало мое развитие, и я все еще пребывал в той восхитительной поре, когда душа объята первым волнением чувств, когда она пробуждается для наслаждений, когда все для нее ново и свежо. Мое отрочество затянулось, а усиленные занятия задержали наступление зрелости, которая лишь с опозданием давала о себе знать, пуская нежные ростки в моем сердце. Ни один юноша не был лучше подготовлен, чем я, к страсти, к любви. Чтобы вам легче было понять меня, перенеситесь мысленно в тот чудесный период жизни, когда уста еще не знают лжи, когда взгляд чистосердечен, хотя глаза и прикрыты ресницами от робости, которая борется в вашей душе с пробудившимся желанием, когда разум не хочет подчиняться лицемерию света, когда смятение чувств так же велико, как и бескорыстие первого побуждения.
Не стану вам рассказывать о путешествии, которое мы совершили с матерью из Парижа в Тур. Холодность ее подавляла всякое проявление чувства с моей стороны. На каждой почтовой станции я давал себе клятву поговорить с ней; но достаточно было одного ее взгляда, одного слова, чтобы тщательно обдуманные фразы улетучились у меня из головы. В Орлеане, перед тем как лечь спать, мать упрекнула меня за молчание. Я бросился к ее ногам, принялся целовать ее колени, проливая горючие слезы; я открыл ей свое исполненное нежности сердце, попытался тронуть ее красноречием, подсказанным жаждой любви, причем моя искренность могла бы разжалобить даже мачеху. Но мать возразила, что я разыгрываю комедию. Я пожаловался на ее пренебрежение ко мне, она назвала меня недостойным сыном. Я испытал такую душевную боль, что в Блуа побежал на мост, чтобы броситься в Луару. Моему самоубийству помешала только высота парапета.
Когда я вернулся в отчий дом, две младшие сестры, совсем не знавшие меня, были скорее удивлены, чем обрадованы; однако позднее по сравнению с матерью они показались мне даже ласковыми. Мне отвели комнатку на четвертом этаже. Вы поймете глубину моих терзаний, узнав, что мать не дала мне, двадцатилетнему юноше, другого белья, кроме того, что я носил в пансионе, и не обновила моего парижского гардероба. Если вечером в гостиной я со всех ног кидался, чтобы поднять ее упавший платок, она роняла в ответ лишь холодное спасибо, которым женщина обычно благодарит лакея. Я стал наблюдать за ней, чтобы узнать, есть ли в ее сердце уязвимое место – мне так хотелось проникнуть туда, чтобы раздуть хотя бы маленькую искорку нежности, – и я увидел перед собой высокую, сухопарую женщину, надменную эгоистку, завзятую картежницу, дерзкую на язык, как и все представительницы семейства Листомэров, у которых дерзость считается одной из статей приданого. В жизни она не ценила ничего, кроме долга, – впрочем, все холодные женщины, которых мне приходилось встречать, неукоснительно выполняли свой долг, – и принимала наши знаки внимания с безразличием священника, вдыхающего во время обедни запах ладана; по-видимому, все скудные материнские чувства, жившие в глубине ее сердца, достались на долю моего старшего брата. Она постоянно терзала нас едкой иронией – этим оружием бессердечных людей, – пользуясь им против собственных детей, которые ничего не смели ей возразить. Несмотря на эту колючую преграду, врожденные чувства коренятся так глубоко, трепетный страх, внушаемый матерью, в которой нам слишком тяжело разочароваться, сохраняет такую власть над душой, что возвышенная иллюзия, подсказанная детской любовью, продолжается обычно до того более позднего часа жизни, когда мать предстает наконец перед нашим беспощадным судом. И тогда начинается возмездие детей; их равнодушие, порожденное былыми разочарованиями, усугубленное картинами прошлого, которые всплывают из темных глубин памяти, бросает тень даже на материнскую могилу. Жестокий домашний деспотизм развеял сладострастные грезы, которые я безрассудно мечтал осуществить в Туре. С отчаяния я заперся в отцовской библиотеке и принялся читать подряд все неизвестные мне книги. Правда, этот усидчивый труд избавил меня от общества матери, но ухудшил мое душевное состояние. Иногда старшая сестра, вышедшая впоследствии замуж за нашего кузена, маркиза де Листомэра, пыталась утешить меня, но она была не в силах смягчить глухой гнев, клокотавший в моей груди. Мне хотелось умереть.









































