Читать книгу "Лилия долины"
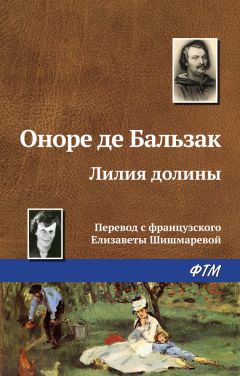
Автор книги: Оноре Бальзак
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Франция! Франция! Вот она, Франция! – воскликнул он, по его собственным словам, как ребенок, который кричит в бреду: «Мама! Мама!»
Рожденный в богатстве, он был теперь беден; предназначенный для того, чтобы командовать войском или стать государственным деятелем, он потерял власть и не имел будущего; некогда здоровый и крепкий, он возвратился больной и изношенный. Очутившись без образования в стране, где за это время успели измениться и люди и вещи, чуждый всему новому, граф понял, что он лишился не только физических, но и духовных сил. При отсутствии состояния громкое имя стало для него обузой. Непоколебимые убеждения, героическое прошлое, связанное с армией принца Конде, былые невзгоды, горестные воспоминания, расшатанное здоровье – все это обострило его обидчивость, недостаток, который не щадят во Франции, стране шутников. Полумертвый от усталости, он добрался до Мена, где благодаря случайности, нередкой во время гражданской войны, революционное правительство забыло продать довольно богатую ферму Морсофов, а арендатор сохранил ее для законного владельца, выдав за свою. Когда герцог де Ленонкур, живший по соседству, узнал о прибытии графа, он тут же предложил ему поселиться у себя на все время, необходимое для устройства приличного жилья. Ленонкуры проявили много благородства и великодушия по отношению к графу, который несколько оправился во время этой первой передышки и постарался скрыть от окружающих свои болезни. Ленонкуры потеряли принадлежавшее им некогда огромное состояние, а по родовитости г-н де Морсоф был приличной партией для их единственной дочери. Молодая девушка не только не противилась этому браку с больным и преждевременно состарившимся графом, которому в ту пору было тридцать пять лет, но, казалось, с радостью приняла его предложение. Замужество давало ей возможность жить с теткой, герцогиней де Верней, сестрой князя де Бламон-Шоври, любившей ее с материнской нежностью.
Г-жа де Верней, близкая подруга герцогини Бурбонской, принадлежала к религиозному обществу, душой которого был уроженец Турени Сен-Мартен, прозванный «Неведомым философом»[23]23
Сен-Мартен, прозванный «Неведомым философом». – Сен-Мартен Луи-Клод (1743–1803) – реакционный французский философ-мистик, находившийся под влиянием шведского философа-мистика Сведенборга.
[Закрыть]. Последователи этого философа стремятся обрести добродетели, превозносимые умозрительной философией иллюминизма. Сия мистическая доктрина открывает доступ в божественные миры, рассматривает жизнь как ряд превращений, готовящих человека к возвышенной судьбе, освобождает понятие долга от унизительного подчинения законам и учит принимать житейские невзгоды с неизменной кротостью квакеров[24]24
Квакеры – члены христианской секты, возникшей в Англии XVII века во время Английской буржуазной революции. Квакеры проповедовали строгий образ жизни, набожность, воздержанность, смирение.
[Закрыть], пробуждая в сердце верующих нечто вроде братской любви к ангелу-хранителю, обитающему на небесах. Это своего рода стоицизм, подкрепленный верой в будущее. Действенная молитва и чистая любовь – таковы основы учения Сен-Мартена, которое выходит за пределы римско-католической церкви, сближаясь с христианской церковью первых веков. Мадемуазель де Ленонкур осталась, однако, в лоне апостолической церкви, которой, несмотря ни на что, была верна и ее тетушка. Перенеся жестокие испытания во время революции, герцогиня де Верней предалась под конец жизни пламенному благочестию, которое, по словам Сен-Мартена, пролило и в душу ее племянницы «свет небесной любви и елей духовной радости». После смерти тетушки графиня несколько раз принимала этого проповедника мира и добродетели в Клошгурде, где он часто бывал и прежде. Гостя у нее, он следил за изданием своих новых книг у Летурми в Туре. Еще до свадьбы своей любимицы г-жа де Верней, мудрая, как и все старые женщины, познавшие стремнины жизни, подарила ей Клошгурд, желая, чтобы у графини был свой очаг. С добротой пожилых людей, которая бывает безукоризненна, когда они действительно добры, герцогиня отдала ей все, оставив себе лишь маленькую комнатку над своей прежней спальней, которую теперь занимала графиня. Внезапная смерть г-жи де Верней омрачила медовый месяц четы Морсофов и наложила неизгладимую печать грусти на Клошгурд и на суеверную душу новобрачной. И все же первые дни пребывания в Турени были для графини единственными днями, когда за неимением счастья она впервые наслаждалась покоем.
После тягот жизни в чужих краях г-н де Морсоф с радостью увидел впереди более светлое будущее; для него как бы наступило нравственное исцеление; поселившись в прекрасной долине Эндра, он вдыхал пьянящий аромат расцветающей надежды. Чтобы поправить свои дела, он занялся сельским хозяйством и даже нашел в этом некоторое удовлетворение; но тут появился на свет Жак, и врач приговорил новорожденного к смерти; это горе было ударом грома среди ясного неба: оно разрушило и настоящее и будущее несчастного отца. Граф тщательно скрыл роковой приговор от жены; затем сам обратился за советом к врачу и получил страшный ответ, который был подтвержден впоследствии рождением Мадлены. Эти события и уверенность графа в правильности слов врача ухудшили болезненное состояние бывшего эмигранта. Итак, род Морсофов угаснет, молодая, чистая, безупречная женщина будет несчастна по его вине: дети принесут ей не радость материнства, а одно лишь страдание. Горечь минувшего, породившего новые муки, поднялась в душе графа и окончательно ожесточила его. Г-жа де Морсоф отгадала прошлое мужа, судя о нем по настоящему, и сумела заглянуть в будущее. Хотя нет ничего труднее, чем составить счастье человека, угнетенного сознанием своей вины, графиня взялась за этот достойный ангела подвиг. Ей пришлось научиться стоической твердости. Спустившись в бездну, откуда был виден, однако, клочок голубого неба, она посвятила себя служению одному человеку, так же, как сестра милосердия посвящает себя служению всем страждущим, и, желая помирить мужа с самим собой, простила ему то, чего он не мог себе простить. Он был скуп – она согласилась на любые лишения; он был подозрителен, как все, кто вынес из светской жизни лишь чувство омерзения, – она стала жить уединенно, безропотно снося недоверие супруга; она прибегала к женской хитрости, чтобы направить его на путь добра, и внушала графу мысли, которые он принимал за свои, наслаждаясь в семейном кругу превосходством, недоступным ему в обществе. Затем, после нескольких лет замужества, она решила никогда не выезжать из Клошгурда, считая, что истерические вспышки мужа неизбежно вызовут пересуды и насмешки, вредные для воспитания детей. Она опустила такую плотную завесу на свою неудавшуюся жизнь, что никто не мог заподозрить подлинного ничтожества г-на де Морсофа. У графа был изменчивый и скорее раздражительный, чем злобный характер, но этот себялюбец нашел подле жены благоприятную почву, ибо его скрытые страдания облегчил наконец бальзам утешения.
Вот краткий пересказ того, что мне поведал г-н де Шессель в порыве невольной досады. Знание света помогло ему приподнять покров тайны, погребенной в Клошгурде. Но если благородное поведение г-жи де Морсоф и обмануло свет, ничто не могло обмануть всевидящего ока любви. Я уже лег спать в своей маленькой комнатке, как вдруг меня озарила догадка о муках графини; я вскочил с постели, оделся, крадучись спустился по винтовой лестнице башенки и вышел на улицу через боковую дверь: мне невыносима была мысль, что я нахожусь во Фрапеле, вместо того чтобы смотреть на окна ее спальни. Холод ночи успокоил меня. Я перешел через Эндр по мосту возле Красной мельницы и, прыгнув в лодку графа, по счастью, привязанную у берега, доплыл до Клошгурда, где в последнем окошке со стороны Азе еще виднелся свет. Тут я погрузился в свои прежние мечты, но более спокойные, прерываемые трелями певца любовных ночей и звонкой однообразной мелодией «болотного соловья». Мысли проносились в моей голове, скользя, как привидения, и увлекая с собой траурный покров, который окутывал до сих пор мое будущее. И душа моя и чувства были равно очарованы. С каким пылом я всем существом устремлялся к ней! Сколько раз, как безумный, спрашивал себя: «Неужели она будет моей?» Если в предыдущие дни мир в моих глазах преобразился, то за одну ночь в нем появился центр. Все мои желания, все честолюбивые замыслы сосредоточились на ней, я хотел быть всем для этой женщины, чтобы возродить и заполнить ее истерзанное сердце. Как хороша была ночь, которую я провел под ее окнами, внемля журчанию воды у мельничной плотины и бою часов на колокольне Саше! В эту лучезарную ночь моя неземная лилия озарила всю мою жизнь; я отдал ей душу с беззаветной преданностью несчастного кастильского рыцаря, над которым мы смеемся, читая Сервантеса, но разве мы испытываем не то же самое, когда в нас пробуждается любовь? При первом проблеске зари, при первом крике птицы я укрылся в парке Фрапеля; ни один крестьянин не заметил меня, никто не заподозрил моего отсутствия, и, вернувшись домой, я спокойно проспал до той минуты, когда зазвонил колокол, призывая к завтраку обитателей замка. Выдав себя за страстного любителя природы, я, несмотря на жару, спустился после завтрака в долину, якобы для того, чтобы вновь обойти берега и острова Эндра, луга и холмы; на самом деле я с быстротой вырвавшегося на свободу оленя очутился в той же лодке и в один миг доплыл до Клошгурда и до милых моему сердцу ив. Кругом царила трепетная тишина, какая бывает в полдень в деревне. Неподвижная листва деревьев отчетливо выступала на фоне голубого неба; зеленые стрекозы и золотистые мухи вились вокруг деревьев и зарослей камыша; коровы мирно жевали жвачку в тени, красноватая земля виноградников пылала на припеке, и ужи бесшумно скользили по склону холма.
Как изменился пейзаж, который был так свеж, так ярок ранним утром! Вдруг мне показалось, что я увидел графа; я мигом выскочил из лодки и стал взбираться по тропинке, огибающей Клошгурд. И действительно, он шел вдоль живой изгороди, собираясь, по-видимому, выйти на дорогу, вьющуюся по берегу реки.
– Как вы себя чувствуете сегодня утром, граф? – спросил я.
Лицо г-на де Морсофа просияло: очевидно, его не часто величали графом.
– Благодарю вас, хорошо, – ответил он, – но вы, верно, очень любите деревню, если гуляете по такой жаре?
– Как же иначе, граф? Ведь ради деревенского воздуха меня сюда и послали!
– Хотите взглянуть, как жнут рожь?
– С большим удовольствием. Признаться, я круглый невежда во всех этих вопросах. Я не умею отличить рожь от пшеницы и тополь от осины. Я ровно ничего не понимаю в земледелии и способах ведения хозяйства.
– Ну так идемте со мной! – сказал он с явным удовольствием. – Там, немного выше, есть калитка, войдите в нее.
Он вернулся назад вдоль внутренней стороны изгороди, в то время как я шел с ее внешней стороны.
– Вы ничему не научитесь у господина де Шесселя, – продолжал граф, – он слишком большой барин, чтобы заниматься хозяйством, его дело лишь оплачивать счета управляющего.
Г-н де Морсоф показал мне свои дворы и постройки, свои сады и огороды. Наконец он привел меня в длинную аллею, обсаженную акациями и лаковыми деревьями, которая шла над рекой, и я увидел в дальнем ее конце г-жу де Морсоф; она сидела на скамье вместе с детьми. Как хороша бывает женщина под сенью мелкой, словно ажурной листвы! Быть может, графиня и была удивлена наивной поспешностью моего визита, но она не показала этого и спокойно ждала, пока мы подойдем к ней. Г-н де Морсоф обратил мое внимание на панораму долины, казавшейся совсем иной, чем та, которую мы видели по пути в Клошгурд. Отсюда она напоминала уголок Швейцарии. Прочерченная ручьями, впадающими в Эндр, долина сливалась с далеким горизонтом, теряясь в голубоватой дымке. По бокам ее тянулись скалистые холмы, покрытые рощами, а в стороне Монбазона глаз видел широкое зеленое поле. Мы ускорили шаг, подходя к г-же де Морсоф, но в эту минуту она выронила книгу, которую читала вместе с Мадленой, и подхватила на руки Жака, так как мальчик судорожно закашлялся.
– В чем дело? Что случилось? – вскричал граф, сильно побледнев.
– У него болит горло, – ответила мать, не обращая на меня никакого внимания. – Не тревожьтесь, это пройдет.
Обняв сына, она поддерживала ему голову, а глаза ее, казалось, вливали жизнь в это несчастное, слабое создание.
– Вы поступаете удивительно неосторожно, – заметил граф желчно. – Здесь сыро и холодно от реки, а вы к тому же посадили Жака на каменную скамью.
– Но ведь скамья накалилась на солнце, папенька! – воскликнула Мадлена.
– Им было душно в комнатах, – проговорила графиня.
– Женщины вечно хотят поставить на своем! – проворчал граф, обращаясь ко мне.
Не желая ни поддержать, ни осудить его взглядом, я перевел глаза на Жака, который жаловался на сильную боль в горле; матери пришлось унести его домой.
– Когда производят на свет таких слабых детей, надо хоть научиться ухаживать за ними! – крикнул он ей вслед.
Этот упрек был, конечно, глубоко несправедлив, но самолюбивому графу хотелось оправдать себя, во всем обвинив жену. Графиня быстро поднялась по откосу, затем она так же стремительно взошла на крыльцо и скрылась в доме. Г-н де Морсоф сел на скамью и в задумчивости поник головой; мое положение становилось невыносимым; он молчал и даже не смотрел на меня. Ну что ж, придется отказаться от прогулки, во время которой я рассчитывал завоевать его расположение! Не припомню, чтобы мне случалось проводить более тягостные минуты. Пот градом катился по моему лицу, и в нерешительности я спрашивал себя: «Что делать? Остаться? Уйти?» Как тяжело, по-видимому, было на душе у г-на де Морсофа, если он даже не пошел узнать, как чувствует себя Жак! Но вот он порывисто встал и подошел ко мне. Мы обернулись, чтобы еще раз взглянуть на живописную долину.
– Давайте отложим до другого раза нашу прогулку, граф, – мягко сказал я ему.
– Нет, идемте, – возразил он. – К сожалению, я привык видеть такие припадки, хотя, не задумываясь, отдал бы свою жизнь за жизнь несчастного ребенка.
– Жаку лучше, мой друг, он уснул, – послышался серебристый голос.
Г-жа де Морсоф неожиданно появилась в конце аллеи, и, когда она приблизилась к нам, я не заметил на ее лице ни обиды, ни досады.
– Я рада, что вам полюбился Клошгурд, – сказала она, любезно ответив на мой поклон.
– Не съездить ли мне верхом за доктором Деландом, дорогая? – предложил граф, желая загладить свою вину.
– Не мучайте себя понапрасну, – ответила она, – все дело в том, что Жак плохо спал ночью. Вы знаете, какой это нервный ребенок: он увидел дурной сон, и мне пришлось без конца рассказывать сказки, иначе он никак не мог заснуть. Припадок чисто нервный. Жак успокоился и задремал, как только я дала ему леденец от кашля.
– Бедная моя! – проговорил он, сжимая руку жены и смотря на нее полными слез глазами. – А я даже не знал этого.
– К чему было беспокоить вас из-за пустяков? А теперь ступайте в поле и присмотрите за уборкой хлеба. Иначе фермеры пустят сборщиков колосьев прежде, чем будут свезены все снопы.
– Я приступаю к изучению сельского хозяйства, – заметил я.
– Вы находитесь в прекрасных руках, – ответила она, указывая на графа, который самодовольно улыбнулся, или, как говорят в просторечии, «сложил губы сердечком».
Только два месяца спустя я узнал, какую ужасную ночь она провела, опасаясь, что у Жака круп. А я-то сидел в лодке, баюкая себя любовными мечтами, и воображал, будто она заметит из своего окна, с каким благоговением я созерцаю отблеск ее свечи, которая озаряла тогда лицо матери, снедаемой смертельной тревогой! Ведь в Туре свирепствовала эпидемия крупа.
Подойдя к калитке, граф сказал растроганно:
– Моя жена просто ангел!
Эти слова сразили меня. Я еще мало знал Морсофов, и раскаяние, столь естественное в юности, охватило мою душу. «По какому праву хочешь ты нарушить согласие этого семейства?» – думал я.
Граф, довольный тем, что нашел собеседника моложе себя, над которым нетрудно будет взять верх, заговорил со мной о возвращении Бурбонов и о будущем Франции. Во время нашей непринужденной беседы я услышал от него поистине ребяческие суждения, очень меня удивившие. Он не знал самых простых вещей, боялся образованных людей, отрицал авторитеты и смеялся над прогрессом, впрочем, быть может, не без основания; в конце концов я обнаружил у г-на де Морсофа столько слабостей, что всякий разговор с ним утомлял, как головоломка, ибо приходилось проявлять крайнюю осторожность, чтобы не обидеть собеседника. Прощупав, если так можно выразиться, его недостатки, я приложил не меньше усилий, чем графиня, чтобы примениться к ним. Будь я постарше, я, несомненно, раздражал бы его. Но я был робок, как дитя, не доверял себе, считая, что старшим известно все на свете, и был искренне поражен чудесами, которых добился в Клошгурде этот рачительный землевладелец. Я с восхищением выслушивал планы его преобразований. Наконец, и то была невольная лесть, снискавшая мне благосклонность пожилого дворянина, я от души расхваливал его красивое поместье, любовался местоположением Клошгурда и ставил этот земной рай несравненно выше Фрапеля.
– Фрапель, – сказал я графу, – похож на массивный памятник, а Клошгурд – на драгоценную безделушку.
Это изречение граф часто повторял впоследствии, ссылаясь на меня.
– А ведь знаете, до нашего переезда Клошгурд был в полном запустении! – заметил он.
Я весь превращался в слух, когда он говорил о своих посевах и питомниках. Как новичок во всем, что касалось деревенской жизни, я засыпал его вопросами о ценах на продукты, о способах ведения хозяйства, а он, по-видимому, был рад, что может сообщить мне эти подробности.
– Чему только вас учат в школе! – восклицал он иногда с удивлением.
В этот день, по возвращении домой, граф сказал жене:
– Господин Феликс превосходный молодой человек!
Вечером я написал матери, прося ее прислать мне белье и платье, ибо я намерен некоторое время погостить во Фрапеле. Ничего не зная о крупных переменах, происходивших тогда в политической жизни страны, и не предвидя их влияния на мою дальнейшую судьбу, я собирался вернуться осенью в Париж, чтобы окончить курс юридических наук, а так как занятия начинались в первых числах ноября, у меня еще было два с половиной месяца свободы.
В начале своего пребывания в деревне я постарался сблизиться с графом, и то была для меня пора тяжких испытаний. Я открыл в этом человеке беспричинную раздражительность и крайнюю взбалмошность – черты характера, испугавшие меня. Но иногда в нем неожиданно оживало мужество воина, отличившегося в рядах армии принца Конде, проявлялась воля, которая в критическую минуту может нарушить ход истории с внезапностью взорвавшейся бомбы и превратить дворянина, обреченного прозябать в своем поместье, в вождя восставших, вроде Эльбея, Боншана или Шаретта[25]25
…вроде Эльбея, Боншана или Шаретта. – Речь идет о главарях контрреволюционного вандейского восстания во время Французской буржуазной революции конца XVIII века.
[Закрыть], если, конечно, он наделен при этом смелостью и энергией. Высказывая какую-нибудь мысль, граф становился вдруг неузнаваем: он сжимал губы, чело его прояснялось, взор метал молнии, но вскоре опять угасал. Порой я боялся, что, прочтя выражение моих глаз, г-н де Морсоф убьет меня на месте. Я был в ту пору на редкость уязвим. Воля, которая так удивительно преображает людей, еще только выковывалась во мне. Из-за чрезмерной силы желаний у меня бывали вспышки болезненной чувствительности, похожие на приступы страха. Борьба не страшила меня, но я не хотел умереть, не изведав счастья взаимной любви. И препятствия и моя любовь возрастали одновременно. Я был охвачен мучительной тревогой. Как признаться ей в своих чувствах? Я ждал случая, наблюдал, сближался с детьми, и они привязались ко мне, пытался стать своим человеком в доме. Мало-помалу граф перестал сдерживаться в моем присутствии. Я стал свидетелем беспрестанных перемен в его настроении, глубокого и беспричинного уныния, безрассудной вспыльчивости, горьких сетований, холодной злобы, резких выходок, детского лепета, старческого брюзжания и неожиданных порывов гнева. Нравственная природа человека отличается от его физической природы тем, что в ней нет ничего абсолютного: поступки находятся в прямой зависимости от характеров или от идей, возникающих при виде какого-нибудь явления. Мое пребывание в Клошгурде, все мое будущее зависело от взбалмошного характера г-на де Морсофа. Не умею вам описать, какое беспокойство томило мою душу, которая в ту пору столь же легко расцветала от радости, как и сжималась от горя, когда я переступал порог этого дома, говоря себе: «Как-то граф примет меня сегодня?» Какая тоска ложилась мне на сердце, когда я замечал на его бледном лице признаки приближающейся грозы! Мне вечно приходилось быть настороже. Итак, я подпал под деспотическую власть этого человека. Мои муки помогли мне понять терзания г-жи де Морсоф. Скоро мы стали обмениваться понимающими взглядами, и порой мои глаза увлажнялись, в то время как ей удавалось сдержать свои слезы. Таким образом, мы познали друг друга в несчастье. Сколько открытий я сделал за первые сорок дней знакомства, исполненных подлинной горечи, тайных радостей и то возрождающейся, то гибнущей надежды! Однажды я застал г-жу де Морсоф в глубокой задумчивости, она смотрела на солнечный закат, под лучами которого сладострастно пламенели вершины холмов и широкие тени ложились на мягкую, как ложе, равнину; вечер был так прекрасен, что нельзя было не внимать извечной Песне Песней, которой природа склоняет людские сердца к любви. Возрождались ли в душе графини былые девичьи грезы? Или же она по-женски страдала, сравнивая их с действительностью? Мне показалось, что ее поза говорит об истоме, благоприятствующей признанию, и я заметил:
– В жизни бывают тяжелые минуты.
– Вы прочли мои сокровенные мысли. Как вам это удалось?
– Ведь у нас с вами так много общего! – ответил я. – Разве мы не принадлежим к тем избранным натурам, которые умеют страдать и радоваться сильнее других? Все сердечные струны звучат у нас в унисон, вызывая могучий внутренний отклик, а наша духовная природа находится в неизменной гармонии с первоисточником всего сущего. Поместите таких людей, как мы, в среду, где все противоречиво, нестройно, и они будут тяжко страдать, но зато испытают восторженную радость, встретив родственные мысли и чувства или близкого по духу человека. Однако нам знакомо и другое несчастье, свойственное лишь болезненно чутким людям, которые при встрече невольно узнают друг друга. Случается, что нас не затрагивает ни хорошее, ни плохое. Наш внутренний мир бывает похож тогда на чудесный орган, но он играет сам по себе, без органиста; мы пылаем беспредметной страстью, вместо мелодии издаем нестройные звуки и стонем, хоть наши стоны и не находят отклика: страшное противоречие души, восстающей против пустоты небытия, изнурительная внутренняя борьба, во время которой бесцельно уходят наши силы, словно кровь, вытекающая капля за каплей из неведомой раны. Чувства расходуются впустую, вызывая гнетущую слабость, неизъяснимую тоску, которая не находит утешения даже в исповеди. Разве я неправильно описал наши общие страдания?
Она вздрогнула и, не отрывая глаз от заката, спросила:
– Вы так молоды, откуда вы знаете все это? Разве вам приходилось заглядывать в женскую душу?
– Мое детство прошло в непрерывных страданиях, – ответил я взволнованно.
– Кажется, Мадлена кашляет, – проговорила она, поспешно удаляясь.
Графиня не порицала меня за частые посещения. Во-первых, она была чиста, как дитя, и все дурное было ей чуждо. Во-вторых, я развлекал графа, служа забавой для этого льва без когтей и гривы. В-третьих, я нашел правдоподобный предлог для своих посещений. Я не умел играть в триктрак, и г-н де Морсоф взялся меня обучать. Когда я принял его предложение, графиня посмотрела на меня с состраданием, словно говоря: «Несчастный, вы сами кладете голову в волчью пасть». Сначала я не понял этого немого предостережения, но уже на третий день мне стало ясно, за какое трудное дело я взялся. Неизменное терпение, которым я обязан своему тяжелому детству, закалилось во время этих новых испытаний. Графу доставляло удовольствие жестоко высмеивать меня всякий раз, как я забывал правила игры, которые он успел мне объяснить; если я размышлял, он жаловался, что скучает из-за моей медлительности; если спешил, он сердился, говоря, будто я тороплю его; если проявлял себя как способный ученик, он сетовал, что я обгоняю его, а сам перенимал у меня некоторые приемы игры. Я стал жертвой мелочной тирании, жестокого деспотизма, о котором могут дать представление несчастья Эпиктета[26]26
Эпиктет (ок. 50 – ок. 138 н. э.) – греческий философ-стоик, был рабом, затем был отпущен на волю.
[Закрыть], оказавшегося во власти злого ребенка. Когда мы стали играть на деньги, граф постоянно был в выигрыше, что доставляло ему мелочную, недостойную радость. Но достаточно было одного слова г-жи де Морсоф, чтобы принести мне утешение, а ему напомнить об учтивости и приличиях. Вскоре на меня свалилась новая беда. Игра унесла мои последние деньги. Хотя граф неизменно находился между женой и мной (как бы поздно я у них ни засиживался), я не терял надежды завоевать сердце г-жи де Морсоф; но чтобы приблизить эту минуту, ожидаемую с мучительным терпением охотника, следовало продолжать несносные партии в триктрак, которые больно ранили мое самолюбие и опустошали кошелек. Сколько раз мы сидели с ней рядом, молча любуясь пятнами солнечного света на лугу, плывущими по небу облаками, холмами, одетыми туманом, или игрой лунного света на сверкающей поверхности реки, и лишь изредка обменивались восклицаниями:
– Как хороша ночь!
– Она прекрасна, как женщина, сударыня.
– Какой покой вокруг!
– Да, здесь нельзя быть по-настоящему несчастным.
Услышав эти слова, она возвращалась к своему рукоделию. В конце концов я научился отгадывать, как волнуется кровь графини, властно требуя, чтобы она дала волю чувству. Без денег прощай мои вечера! Я написал матери, она выбранила меня в ответ, а денег прислала меньше, чем на неделю. У кого попросить взаймы? Ведь дело шло о моей жизни! Итак, в упоении своего первого большого счастья я вновь испытал те же невзгоды, что в Париже, в коллеже и пансионе; прежде я старался избежать их с помощью труда и воздержания, мое страдание было пассивным; во Фрапеле оно стало активным; я готов был совершить воровство, пуститься на преступление, и меня обуревали порывы ярости, которые я подавлял усилием воли, чтобы не потерять уважения к себе. Воспоминания об этих тягостных минутах и отчаяние, в которое повергла меня скупость матери, внушили мне милосердную снисходительность к проступкам молодых людей; это чувство будет понятно тем, кто не пал окончательно, хоть и дошел до края бездны, словно для того, чтобы измерить ее глубину. Правда, моя честность, вскормленная упорным трудом, укрепилась в эти минуты, которые открыли мне каменистую стезю жизни, но отныне я уже не мог спокойно смотреть, как грозное людское правосудие заносит меч над головой человека, и всякий раз говорил себе: «Уголовные законы созданы людьми, не ведавшими, что такое несчастье». Доведенный до крайности, я разыскал в библиотеке г-на де Шесселя руководство по игре в триктрак и принялся изучать его; мой любезный хозяин дал мне к тому же несколько уроков; так как он не придирался ко мне вроде г-на де Морсофа, я сделал быстрые успехи и стал применять выученные наизусть правила и расчеты. Через несколько дней я уже мог победить своего первого учителя; но едва я обыграл его, настроение графа резко изменилось: глаза засверкали, точно у тигра, лицо исказилось от злобы, а брови запрыгали так, как мне никогда не случалось видеть. Он стал жаловаться, словно избалованный ребенок. Порой он приходил в ярость, швырял кости, топал ногами, кусал рожок для триктрака и говорил мне грубости. Но я положил конец этому неистовству. Изучив все тонкости триктрака, я повел борьбу так, как мне того хотелось: я предоставлял графу выигрывать в начале партии, а под конец уравнивал наше положение и восстанавливал равновесие. Светопреставление меньше удивило бы г-на де Морсофа, чем явное превосходство доселе неспособного ученика; однако он ни разу не признал себя побежденным. Неизменная развязка игры лишь давала пищу его дурному настроению.
– Право же, – сетовал он, – моя бедная голова слишком устала. Вы вечно выигрываете в конце партии, когда я уже перестаю соображать.
Графиня, знавшая правила игры, с первого же раза поняла мою хитрость и увидела в ней бесспорное доказательство любви. Впрочем, эти подробности могут оценить лишь те, кому известны огромные трудности триктрака. Но как много сказал ее сердцу такой, казалось бы, пустяк! Ведь любовь, подобно богу в проповедях Боссюэ[27]27
Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) – французский епископ и придворный проповедник, автор сочинений на богословские темы. Здесь имеется в виду место из «Надгробного слова принцу Конде», в котором Боссюэ говорит, что стакан воды, поданный жаждущему, ценнее для бога, чем все победы завоевателя.
[Закрыть], ставит выше самых блестящих побед стакан воды, предложенный бедняком, или подвиг безвестного солдата, погибшего на поле брани. Графиня отблагодарила меня взглядом, способным растопить юное сердце; она посмотрела на меня так, как смотрела до сих пор только на своих детей! Отныне она уже всегда дарила меня этим взглядом, разговаривая со мной. Не умею объяснить, что я чувствовал, уходя в этот счастливый вечер из Клошгурда. Мое тело словно растворилось, стало невесомым, я не шел, а летел. Я ощущал в себе этот взгляд, озаривший мою душу, а два коротких слова: «До завтра», звучали в моих ушах как пасхальный гимн «O filii, o filiae!»[28]28
О сыновья, о дочери! (лат.)
[Закрыть]. Я возрождался к новой жизни. Итак, я что-то значил для г-жи де Морсоф! Я задремал, овеваемый горячим дыханием страсти. Языки пламени мелькали перед моими закрытыми глазами, как те красивые огненные змейки, что преследуют друг друга в камине, где догорают обуглившиеся листы бумаги. Во сне ее голос стал как бы осязаемым, окутал меня светозарной атмосферой, опьянил благоуханием, превратился в мелодию, ласкавшую мой слух. На следующий день при встрече она подтвердила полноту дарованных чувств, и я был посвящен отныне во все оттенки ее голоса. Этому дню суждено было стать одним из самых значительных в моей жизни. После обеда мы пошли гулять и спустились с вершины холма в ланды, где почва была камениста и бесплодна; лишь кое-где стояли одинокие дубы да рос кустарник, покрытый красными ягодами, а вместо травы расстилался ковер сухого красновато-рыжего мха, рдевшего под лучами заходящего солнца. Так как идти было трудно, я вел Мадлену за руку, а г-жа де Морсоф поддерживала Жака. Граф, шедший впереди, вдруг ударил тростью о бесплодную землю и, обернувшись ко мне, сказал с озлоблением:
– Вот какова моя жизнь! – Затем, обратившись к жене, добавил в виде извинения: – Конечно, так было до знакомства с вами.
Оговорка была сделана слишком поздно, графиня побледнела. Всякая женщина содрогнулась бы, получив такой удар!
– Какой ароматный здесь воздух! – воскликнул я. – Какое великолепное освещение! Я желал бы, чтобы эти ланды принадлежали мне, быть может, я нашел бы несметные сокровища в их недрах; но ценнейшим подарком было бы соседство с вами. Чего бы я не дал за этот вид, ведь он так и ласкает взор, и за эту живописную речку, затененную зеленью ольхи и ясеня, здесь просто отдыхаешь душой! Как различны наши вкусы! Для вас этот уголок всего лишь пустошь, а для меня рай земной.









































