Читать книгу "Лилия долины"
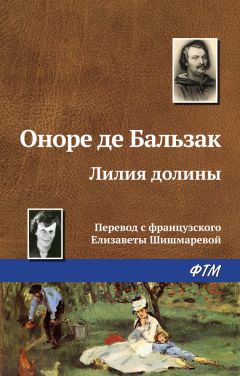
Автор книги: Оноре Бальзак
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Я хочу набросать вам портрет графини, и вы поймете, почему она всюду привлекала к себе внимание; но самый точный рисунок, самые яркие краски бессильны передать ее обаяние. Какой живописец мог бы написать это лицо, чья кисть изобразила бы отблеск внутреннего огня, тот неуловимый свет, который отрицает наука, не в силах воспеть поэт, но зато видит глаз влюбленного? Слишком густые пепельные волосы были причиной частых страданий графини, вызванных, по-видимому, внезапными приливами крови к голове. Ее лоб, высокий и выпуклый, как у Джоконды[15]15
Джоконда. – Речь идет о портрете Моны Лизы Джоконды работы итальянского художника Леонардо да Винчи (1452–1519). Джоконда изображена с легкой, едва уловимой улыбкой, как бы скользящей по ее лицу.
[Закрыть], скрывал множество невысказанных мыслей и заглушенных чувств, похожих на поблекшие цветы, лишенные живительных соков. Зеленовато-карие глаза были неизменно спокойны; но если дело касалось ее детей, если она поддавалась порывам радости или горя, редким у женщины, покорившейся судьбе, в глазах вспыхивали молнии, которые загорались, по-видимому, в самых глубинах ее существа, грозя все испепелить; именно такой взгляд вызвал у меня слезы, когда она сразила меня своим гневным презрением, и даже самые дерзкие люди не могли его выдержать. Греческий нос, словно изваянный Фидием, соединился двумя полуокружиями с изящно очерченным ртом и придавал одухотворенность овальному лицу, которое напоминало своей белизной камелию и нежно розовело лишь на щеках. Она была довольно полна, но это нисколько не нарушало ни стройности стана, ни красоты форм, сохранявших чудесную упругость. Вы легко поймете все ее совершенство, если я скажу, что на ослепительных плечах, околдовавших меня с первого взгляда, не было ни единой складочки. Шея графини ничем не напоминала шею некоторых женщин, сухую, как ствол дерева; мускулы нигде не выступали на ней, и взгляд встречал лишь округлые линии и плавные изгибы, не поддающиеся кисти художника. Легкий пушок покрывал ее щеки и шею, словно задерживая лучи света, отчего кожа казалась шелковистой. Свои маленькие, красивой формы ушки она называла «ушами матери и рабыни». Когда впоследствии я получил доступ к ее сердцу, она иногда говорила мне: «Вот идет господин де Морсоф» – и была права, тогда как я, несмотря на свой тонкий слух, еще не мог различить шума его шагов. Руки у нее были прекрасные, пальцы длинные, с загнутыми кончиками и миндалевидными ногтями, как у античных статуй. Я прогневил бы вас, отдав предпочтение плоским талиям перед круглыми, если бы вы не были исключением. Женщины с круглой талией отличаются властным, своевольным характером, они скорее страстны, чем нежны. Напротив, женщины с плоской талией преданны, чутки, склонны к меланхолии; у них больше женственности, чем у первых. Плоская талия гибка и податлива, круглая талия говорит о непреклонном и ревнивом темпераменте. Вы знаете теперь, какая внешность была у графини. Кроме того, у нее были ножки аристократки, которые не привыкли много ходить и быстро устают; эти хорошенькие ножки радовали взгляд, когда показывались из-под подола платья. Хотя она была уже матерью двух детей, я никогда не встречал женщины более юной на вид. В ее лице было что-то покорное, какая-то сосредоточенность и задумчивость, и это выражение влекло вас неодолимо, как те портреты, в которых художник силой своего таланта сумел передать целый мир чувств. Впрочем, внешние качества графини можно описать лишь путем сравнения. Вспомните целомудренный аромат той веточки дикого вереска, которую мы сорвали с вами, возвращаясь с виллы Диодати – вы еще любовались тогда ее черной и розовой окраской, – и вы легко поймете, как могла эта женщина быть элегантной вдали от света, естественной во всех своих движениях, изысканной даже в мелочах, поистине напоминая черно-розовый цветок. В теле ее чувствовалась свежесть только что распустившихся листьев, ум обладал ясностью ума поселянки; она была чиста, как дитя, серьезна, как страдалица, величественна, как знатная дама, и умна, как ученая женщина. Вот почему графиня нравилась без уловок кокетства, нравилась каждым своим движением, тем, как она ходила, садилась, молчала или невзначай роняла какое-нибудь слово. Она бывала обычно сдержанна и настороженна, словно часовой, который обязан охранять безопасность окружающих и еще издали чувствует приближение беды; но порой на ее губах появлялась шаловливая улыбка, говорившая о природной веселости, подавленной жизненными невзгодами. Ее кокетство затаилось где-то очень глубоко, оно навевало мечтательность, вместо того чтобы привлекать внимание кавалеров, столь ценимое женщинами, и позволяло догадываться о врожденной страстности темперамента и о наивных девичьих грезах: так в просвете между тучами проглянет иной раз клочок голубого неба. И невольно, поняв эти скрытые порывы, погружались в задумчивость люди, чью душу еще не успел иссушить пламень желаний. Жесты и в особенности взгляды г-жи де Морсоф были так редки (обычно она смотрела только на своих детей), что придавали глубокую торжественность ее словам и поступкам, и даже в минуты откровенных признаний она оставалась гордой и величавой. В тот день на г-же де Морсоф было розовое платье в мелкую полоску, воротничок с широкими отворотами, черный пояс и черные ботинки. Волосы были собраны простым узлом и заколоты черепаховым гребнем. Таков обещанный мною, хотя и несовершенный портрет графини. Но этого недостаточно. И душевная теплота, которой она одаряла близких, подобно солнцу, согревающему своими живительными лучами все сущее; и подлинная природа этой женщины, ясной в счастливые минуты и стойкой в грозовые периоды жизни; и превратности ее судьбы, которые столь ярко выявляют характеры и зависят, как и все, что посылает нам небо, от неожиданных и мимолетных событий, несхожих между собой, но часто происходящих на одинаковом фоне, – все это войдет в ткань моего повествования; перед вами развернется эпопея семейной жизни, столь же великая в глазах мудреца, как и возвышенная трагедия в глазах толпы; она заинтересует вас не только потому, что я принял в ней участие, но и в силу сходства описанной в ней судьбы с судьбой многих других женщин.
В Клошгурде на всем лежал отпечаток поистине английской чистоплотности. Стены гостиной, в которой сидела графиня, были доверху обшиты деревом и выкрашены в серый цвет двух оттенков. На камине стояли часы в футляре красного дерева и две большие вазы из белого фарфора с золотыми прожилками, а в них букеты капского вереска. На круглом столике горела лампа. Против камина помещался стол для игры в триктрак. На окнах висели белые перкалевые занавески, подобранные с обеих сторон широкими подхватами. Серые чехлы с зеленой тесьмой покрывали мебель, а скромность вышивки, вставленной в пяльцы, красноречиво свидетельствовала о вкусе графини. Простота граничила здесь с величием. Ни один дом, в котором я побывал впоследствии, не производил на меня столь сильного и благотворного впечатления! Атмосфера гостиной Клошгурда походила своей спокойной сосредоточенностью на жизнь графини, и, глядя на окружающую обстановку, можно было судить о монастырской размеренности занятий хозяйки. Все мои самые смелые политические и научные идеи родились здесь с той же естественностью, с какой розы испускают свой аромат; здесь рос диковинный цветок, оплодотворивший своей пыльцой мою душу, здесь сияло солнце, чей благодетельный свет помог развиться моим хорошим качествам и иссушил дурные. Из окон дома взгляд охватывал всю долину от холма, где лежит село Пон-де-Рюан, до замка Азе, следуя по извилинам другого берега реки, который оживляли башни Фрапеля, церковь, поселок и громада старинного замка Саше, возвышавшегося над лугом. Этот край гармонировал с тихой, замкнутой жизнью графини и сообщал ее душе свою безмятежную ясность. Если бы я впервые встретил г-жу де Морсоф с мужем и двумя детьми в Клошгурде, а не на балу в великолепном вечернем наряде, я не отважился бы на безумные поцелуи, в которых теперь горько раскаивался, полагая, что они навеки отняли у меня надежду на любовь! Нет, в том мрачном унынии, в какое меня повергли былые несчастья, я преклонил бы колени, поцеловал ее туфельки, оросив их слезами, а затем бросился бы в Эндр.
Но теперь, когда я прикоснулся губами к ее белой, как жасмин, коже и отпил несколько глотков из чаши любви, моя душа расцвела надеждой на земную страсть; я хотел жить и ждать часа наслаждения с упорством дикаря, подстерегающего час мести; я хотел, как он, взбираться на деревья, ползти среди виноградников, скрываться в водах Эндра; я мечтал воспользоваться тишиной ночи, усталостью сердца, зноем лета, чтобы насладиться восхитительным плодом, который успел отведать. Потребуй она у меня сказочный поющий цветок или сокровища, зарытые Морганом – Грозой морей[16]16
Морган – Гроза морей. – Морган – английский флибустьер. Флибустьеры – пираты XVII века, грабившие главным образом испанские корабли. В борьбе со своей соперницей на мировом рынке – Испанией Англия и Франция не раз использовали флибустьеров.
[Закрыть], я добыл бы их для нее, лишь бы получить взамен иные, столь желанные сокровища и немой цветок любви! Сон наяву, в который я погрузился, созерцая свою богиню, был прерван слугой, говорившим ей что-то о графе де Морсофе. Только тогда я подумал, что графиня принадлежит своему мужу. При этой мысли я почувствовал головокружение. Затем меня охватило яростное и мрачное любопытство: мне хотелось видеть обладателя этой жемчужины. Два чувства господствовали в моей душе: ненависть и страх; ненависть, готовая без колебания преодолеть любое препятствие, и смутный, но сильный страх перед борьбой, перед исходом этой борьбы и, главное, перед Нею. Охваченный неясными предчувствиями, я опасался рукопожатий, бесчестящих человека, и уже предвидел мелкие, будничные препятствия, перед которыми слабеет воля самых сильных. Я боялся болота повседневности, ибо в наши дни оно засасывает людей и лишает социальную жизнь развязок, которых жаждут пылкие сердца.
– Вот и господин де Морсоф, – проговорила она.
Я вскочил на ноги, как испуганный конь. Хотя это движение не ускользнуло ни от г-на де Шесселя, ни от графини, оно не вызвало их молчаливого порицания, ибо как раз в эту минуту вбежала девочка лет шести со словами:
– Папенька пришел!
– Ну что же ты, Мадлена? – заметила мать.
Девочка протянула ручку г-ну де Шесселю и поклонилась мне, взглянув на меня внимательно и удивленно.
– Как ее здоровье? Оно больше не внушает вам опасений? – спросил г-н де Шессель у графини.
– Теперь ей лучше, – отвечала она, гладя по голове прильнувшую к ней дочку.
Из слов г-на де Шесселя я узнал, что Мадлене было девять лет; я не мог скрыть удивления, при виде которого облако грусти омрачило лицо г-жи де Морсоф. Мой собеседник бросил на меня один из тех многозначительных взглядов, которыми светские люди дополняют наше воспитание. Очевидно, я невольно коснулся раны материнского сердца, чувства которого следовало щадить, Мадлена, конечно, не выжила бы в городе; это был хилый ребенок с большими усталыми глазами и с прозрачно-белой кожей, напоминавшей освещенную изнутри фарфоровую вазу. Деревенский воздух, неусыпные заботы матери, которая, видимо, не могла надышаться на нее, поддерживали жизнь в этом теле, столь же хрупком, как цветок, распустившийся в теплице, несмотря на суровость чуждого ему климата. Хотя Мадлена не имела ни малейшего сходства с матерью, она, казалось, унаследовала ее душу, и эта душа поддерживала силы ребенка. Жиденькие черные волосы, ввалившиеся глаза, впалые щеки, худые ручки, узкая грудь – все говорило о борьбе жизни со смертью, о беспрестанном поединке, из которого графиня выходила до сих пор победительницей. Девочка старалась казаться веселой, по-видимому, чтобы не тревожить мать; но, когда она не следила за собой, вся ее фигурка никла, как плакучая ива. Можно было подумать, что это маленькая изголодавшаяся цыганка, которая пришла из родного края, прося подаяние, что она устала, истощена, но полна мужества и нарядилась для выступления перед зрителями.
– Где же ты оставила Жака? – спросила мать, целуя ее в пробор, разделявший черные, как вороново крыло, волосы.
– Он идет сюда вместе с папенькой.
В эту минуту вошел граф, держа сына за руку. Жак был копией сестры и тоже поражал своим болезненным видом. Смотря на этих двух детей рядом с их прекрасной, полной жизни матерью, легко было отгадать причину печали, снедавшей графиню, ее горькие думы, поверяемые лишь богу и налагавшие на чело свою неизгладимую печать. Г-н де Морсоф поклонился мне, окинув меня взглядом скорее беспокойным, чем проницательным, взглядом подозрительного человека, не умеющего разбираться в людях. Представив меня мужу и объяснив мое присутствие в Клошгурде, г-жа де Морсоф направилась к двери. Дети, не отрывавшие глаз от матери, словно она была для них источником света, хотели бежать за ней.
– Останьтесь, мои милые! – сказала она, приложив палец к губам.
Они повиновались, но глаза их затуманились печалью. Ах, чего бы я не дал за одно это слово «милый»! Когда она ушла, мне, как и детям, стало холоднее. Услышав мое имя, граф сразу переменился ко мне. Из надменно-холодного он стал если не сердечным, то по крайней мере подчеркнуто любезным, осыпал меня знаками внимания и, казалось, был рад принять меня у себя в доме. Некогда мой отец, верой и правдой служивший нашим коронованным повелителям, играл при них крупную, но тайную роль, роль опасную, сулившую, однако, успех. Когда же с приходом к власти Наполеона все было потеряно, отец, как и многие бывшие заговорщики, обосновался в провинции и ограничил свою жизнь радостями домашнего очага, примирившись с обвинениями, столь же суровыми, сколь и несправедливыми, – такова неизбежная участь игроков, которые все ставят на карту и сходят со сцены после того, как собственными руками пустили в ход политическую машину. Ничего не зная ни о судьбе, ни о прошлом, ни о настоящем моей семьи, я был так же мало осведомлен и об этой позабытой страничке из жизни отца, о которой помнил г-н де Морсоф. Однако если древность нашего рода, ценнейшее качество в глазах такого человека, как граф, и могла объяснить радушный прием, обрадовавший и смутивший меня, то истинную причину благожелательности г-на де Морсофа я узнал лишь позднее. А пока эта нежданная любезность помогла мне овладеть собой. Когда между нами вновь завязался разговор, Мадлена высвободила головку из-под руки отца и, взглянув на открытую дверь, проскользнула в нее с проворством змейки; Жак последовал за сестрой. Они спешили к матери, и действительно, вскоре до меня донеслась их возня и звуки голосов, похожих на жужжание пчел у родного улья.
Я приглядывался к г-ну де Морсофу, стараясь разгадать его характер; некоторые особенности его внешности так заинтересовали меня, что я не мог ограничиться беглым взглядом, какой обычно бросаешь на незнакомого человека. Хотя графу было только сорок пять лет, на вид ему казалось не меньше шестидесяти: так состарило этого человека великое крушение, ознаменовавшее конец XVIII века[17]17
…великое крушение, ознаменовавшее конец XVIII века. – Имеется в виду Французская буржуазная революция 1789–1794 годов.
[Закрыть]. Черные с проседью волосы, по-монашески опоясывая сзади лысый череп, доходили до ушей и топорщились у висков. Лицо смутно напоминало морду белого волка, испачканную в крови, ибо нос его рдел, как у всех людей, чья жизнь подорвана в самой своей основе, желудок испорчен и все функции организма нарушены по вине застарелых болезней. Прямой обветренный лоб, слишком широкий для остроконечного лица, покрывали беспокойные поперечные морщины, говорившие скорее о привычке жить на свежем воздухе, чем об упорном умственном труде, скорее о гнете постоянных несчастий, чем о борьбе с судьбой. Выдаваясь на синевато-бледном лице, смуглые скулы свидетельствовали о натуре достаточно крепкой, чтобы обеспечить графу долгую жизнь. Суровый взгляд его желтых глаз, блестящих и холодных, словно свет солнца зимой, был бездумный, тревожный и беспричинно недоверчивый. В складке рта чувствовалось что-то повелительное, необузданное, подбородок был длинный и плоский. Высокий худощавый граф держался, как дворянин, сознающий свое превосходство, впрочем, чисто условное, ибо он стоял выше других по праву и ниже по занимаемому положению. Живя в деревне, он несколько опустился и одевался, как помещик, в лице которого крестьяне и соседи видят лишь хозяина земельных владений. По его загорелым жилистым рукам можно было угадать, что он надевает перчатки, только когда катается верхом или идет в воскресенье к обедне. Обут он был в грубые башмаки. Хотя десять лет эмиграции и десять лет деревенской жизни изменили облик графа, в нем еще были видны признаки знатного происхождения. Заклятый либерал – слово, которое в те времена еще не стало ходячим, – и тот признал бы его неподкупную честность и незыблемые убеждения постоянного читателя «Котидьен»[18]18
«Котидьен» – газета, основанная роялистами во время революции в 1792 году в целях борьбы с революционными идеями. В период Реставрации – орган ультрароялистов.
[Закрыть]. Он увидел бы в нем человека религиозного, страстно преданного делу роялизма, искреннего в своих политических антипатиях, неспособного оказать помощь своей партии, но весьма способного ее погубить, и ничего не знающего о том, что делается во Франции. В самом деле, граф был одним из тех прямолинейных людей, которые не идут ни на какие уступки и упорно всему мешают, готовы умереть с оружием в руках на боевом посту, но настолько скупы, что скорее пожертвуют жизнью, нежели деньгами. Во время обеда я заметил по красным пятнам на его впалых щеках и по взглядам, украдкой брошенным на детей, что г-на де Морсофа преследует навязчивая мысль, которую он напрасно пытается отогнать. Кто, увидев графа, не понял бы его терзаний?! Кто не признал бы его вины в том, что дети унаследовали болезненную слабость, лишавшую их жизненных сил?! Но, осуждая себя сам, он не признавал за другими права судить его. Он был желчен, как повелитель, сознающий свою вину, но ему не хватало душевного благородства, чтобы вознаградить близких за страдания, брошенные им на чашу весов судьбы; резкие черты графа и его бегающие глаза говорили о том, что совместная жизнь с ним тяжела, как крестный путь. Вот почему, когда вошла его жена с детьми, следовавшими за ней по пятам, я заподозрил, что в этой семье угнездилось несчастье: так, проходя над подземельем, ощущаешь порой его глубину. Видя вместе этих четверых людей, окидывая их взглядом, переводя глаза с одного на другого, изучая их лица и отношение друг к другу, я почувствовал, что грусть окутала мое сердце, словно серая пелена дождя, нежданно омрачающая красивый пейзаж после великолепного солнечного восхода. Едва тема нашего разговора истощилась, граф снова оказал мне предпочтение перед г-ном де Шесселем, сообщив жене некоторые подробности из истории моего семейства, которые мне были неизвестны. При этом он спросил, сколько мне лет. Услышав мой ответ, графиня была не менее удивлена, чем я, когда узнал возраст ее дочери. Вероятно, она полагала, что мне не более четырнадцати лет. Как я потом узнал, это оказалось новой нитью, протянувшейся между нами. Я прочел мысли г-жи де Морсоф: ее материнское сердце затрепетало, озаренное лучом запоздалой надежды. Когда она увидела, что в двадцать лет я оставался тонким, хрупким, но был все же вынослив, внутренний голос шепнул ей: «Мои дети будут жить!» Она посмотрела на меня с любопытством, и я почувствовал, как в это мгновение между нами растаял лед. Казалось, она хотела задать мне множество вопросов, но не задала ни одного.
– Если чрезмерные занятия расстроили ваше здоровье, – заметила она, – воздух нашей долины исцелит вас.
– Нынешнее воспитание губит детей, – подхватил граф. – Мы пичкаем их математикой, обременяем излишней ученостью и только преждевременно истощаем их силы. Отдохните здесь, – продолжал он, – вы раздавлены лавиной обрушившихся на вас идей. Каких только бед не готовит нам теперешнее просвещение, доступное всем и каждому! Для предотвращения зла необходимо передать дело народного образования духовным конгрегациям.
Эти слова прекрасно объясняют, почему г-н де Морсоф отказался однажды голосовать за депутата, который своими талантами мог быть полезен делу роялизма. «Я никогда не доверял умным людям», – ответил он на недоуменный вопрос сборщика голосов.
Граф встал и предложил нам пройтись по саду.
– Не надо, сударь, прошу вас… – проговорила графиня.
– В чем дело, дорогая? – спросил он с высокомерным видом, который доказывал, как сильно он желает властвовать у себя в доме и как далек от этого на самом деле.
– Наш гость пришел из Тура пешком, а господин де Шессель, не подозревая об этом, повел его осматривать свои владения.
– Вы поступили неосторожно, – сказал граф, обращаясь ко мне, – хотя в вашем возрасте…
И он покачал головой в знак сожаления.
Беседа возобновилась. Я вскоре заметил, как прямолинеен был роялизм графа и какие требовались уловки, чтобы избежать столкновения с ним. Слуга, успевший надеть ливрею, доложил, что кушать подано. Г-н де Шессель повел графиню, г-н де Морсоф весело взял меня под руку, и мы вошли в столовую, которая находилась на нижнем этаже, как раз против гостиной.
В столовой пол был выложен белыми плитками, изготовленными в Турени, а стены, обшитые деревом до половины человеческого роста, оклеены глянцевитыми обоями с изображением цветов и плодов; на окнах висели перкалевые занавески, отделанные красным басоном; на старинных буфетах лежала печать мастерства Буля, стулья были резные, дубовые, украшенные вышивками ручной работы. Обед оказался весьма обильным, но сервирован был далеко не роскошно: фамильное разнокалиберное серебро, саксонский фарфор, в то время еще не успевший снова войти в моду, восьмигранные графины, ножи с агатовыми ручками, лакированные китайские подставки для бутылок, цветы в крашенных под лак кадочках с острыми золочеными зубцами по краям. Мне нравилась вся эта старина, я находил великолепными обои от Ревейона с бордюрами из крупных цветов. Радость, переполнявшая мое сердце, мешала видеть непреодолимые преграды, воздвигнутые между мной и г-жой де Морсоф самим укладом деревенской жизни с ее размеренностью и уединением; я сидел возле графини, по ее правую руку, я подавал ей пить! И нежданное счастье: я прикасался к ее платью, ел ее хлеб! Не прошло и трех часов, а наши жизни уже переплелись! Кроме того, нас связывало воспоминание о том роковом поцелуе: это была как бы наша общая тайна, глубоко смущавшая нас обоих. В своем торжестве я стал льстецом: я старался понравиться графу, который благосклонно принимал мои любезности; я готов был ласкать его собаку, исполнять прихоти детей; мне хотелось подавать им серсо и мячи, катать их на собственной спине, и я даже досадовал, что они еще не завладели мною как своей собственностью. Любовь подобна таланту: ей тоже свойственна интуиция, и я смутно чувствовал, что горячность, дурное настроение или нелюдимость разрушили бы мои надежды. Обед прошел для меня среди неизъяснимых восторгов. Находясь под кровлей г-жи де Морсоф, я не замечал ни ее явной холодности, ни равнодушия графа, прикрытого маской учтивости. В начале любви, как и в начале жизни, есть период, когда она довольствуется сама собой. В своем смятении я несколько раз отвечал невпопад на предлагаемые вопросы, но никто не мог отгадать моей тайны, даже она, не ведавшая любви. Все остальное время пролетело как сон. Я пробудился от этого прекрасного сна, когда при свете луны теплым благоуханным вечером шел по мосту через Эндр; причудливые серебристые блики лежали на траве, на берегу и холмах, слышался звонкий, однотонный, равномерный, исполненный грусти звук: то кричала древесная лягушка, научное название которой мне неизвестно, но после этого знаменательного вечера я всегда слушаю ее со сладостным волнением. Я мысленно оглянулся назад и с некоторым опозданием понял, что здесь, как и повсюду, встретил то же каменное равнодушие, о которое разбивались до сих пор мои лучшие чувства; задал себе вопрос: неужели так будет длиться вечно? И мне показалось, что надо мной тяготеет проклятие; мрачные события прошлого набросили тень на сокровенные радости, которые я только что испытал. Прежде чем вернуться во Фрапель, я еще раз взглянул на Клошгурд и увидел внизу лодку, называемую в Турени «ту»; она была привязана к стволу ясеня и тихо покачивалась на воде. Лодка принадлежала г-ну де Морсофу, который ездил на ней удить рыбу.
– Мне кажется, нет нужды спрашивать, нашли ли вы женщину с красивыми плечами? – сказал г-н де Шессель, когда нас уже никто не мог услышать. – Можете гордиться приемом господина де Морсофа! Поздравляю, черт возьми! Вы сразу же оказались в центре неприятельской крепости.
Эта тирада, сопровождаемая фразой, которую я привел выше, возродила мое угасшее было мужество. С тех пор как мы покинули Клошгурд, я не сказал ни слова, и г-н де Шессель, очевидно, объяснял мое молчание избытком счастья.
– Почему вы так полагаете? – спросил я ироническим тоном, который можно было приписать моей затаенной страсти.
– Он никогда так хорошо не принимал ни одного гостя.
– Признаюсь, я и сам удивлен таким приемом, – заметил я, чувствуя скрытую горечь в словах своего собеседника.
Хотя я был слишком неопытен в светских делах, чтобы понять причину досады г-на де Шесселя, меня все же поразило его с трудом скрываемое недовольство. Мой гостеприимный хозяин имел несчастье называться Дюраном и ставил себя в смешное положение, отрекаясь от имени своего отца, знаменитого фабриканта, нажившего огромное состояние во время революции. Его жена была единственной наследницей Шесселей, старинного судейского рода, ведущего свое начало со времен Генриха IV, как и большинство родов высших парижских чиновников. Итак, г-н де Шессель, этот заядлый честолюбец, вознамерился «убить» Дюрана, чтобы достичь желаемых высот. Сперва он стал называться Дюран де Шессель, затем Д. де Шессель, а когда я с ним познакомился, был уже просто г-н де Шессель. При Реставрации он получил от Людовика XVIII диплом на титул графа, дававший ему право учредить майорат[19]19
Майорат – право нераздельного наследования недвижимого имущества старшим в семье или роде. Уничтоженные революцией 1789 года, майораты были восстановлены во время Реставрации с целью сохранения состояний старой знати.
[Закрыть]. Следовательно, дети г-на де Шесселя пожнут плоды его самоотверженности, так и не узнав жертвы, принесенной отцом. Язвительное словцо некоего вельможи до сих пор тяготело над ним. «Господин де Шессель редко появляется в образе Дюрана», – сказал он как-то. Эта эпиграмма долгое время ходила по Турени. Выскочки подобны обезьянам, у которых они переняли свою ловкость: когда они карабкаются вверх, любуешься их проворством, но, стоит им добраться до вершины, замечаешь лишь их заднюю часть. Оборотная сторона характера г-на де Шесселя состояла из мелких пороков, раздутых завистью. Однако он по-прежнему был далек от пэрства[20]20
Пэр – член палаты пэров, созданной в 1814 году при реставрации Бурбонов в противовес палате депутатов; члены ее назначались королем, звание пэра было пожизненным и до Июльской революции 1830 года передавалось по наследству старшему сыну.
[Закрыть]. Осуществить свои притязания – таково преимущество дерзкой силы; но тот, кто остановился на полпути, несмотря на высказанные им притязания, лишь выставляет себя в смешном свете перед обывателями. Между тем г-н де Шессель не шел прямо к цели, как сильный человек: он был дважды избран депутатом и дважды терпел поражение на выборах; вчера он занимал высокий государственный пост, а сегодня не был даже префектом; смена успехов и поражений испортила его характер, и он стал раздражителен, как всякий честолюбивый неудачник. Быть может, пагубную роль в его жизни сыграло чувство зависти, свойственное жителям Турени, которые проводят время, ревниво следя за успехами своих ближних, но только он немногого добился в высших сферах, ведь там не жалуют людей, которые хмурятся при виде чужой удачи и кривят в усмешке губы, скорее созданные для эпиграмм, нежели для комплиментов. И хотя этот светский человек славился своим остроумием и был способен на большие дела, он, вероятно, достиг бы большего, если бы требовал не так много; к тому же, на свое несчастье, он обладал чувством собственного достоинства и никогда не гнул спины. В настоящее время г-н де Шессель переживал закат своих честолюбивых замыслов, хотя роялизм и благоприятствовал ему. Пожалуй, он слишком любил подчеркнуть, что принадлежит к высшему свету, но по отношению ко мне был всегда безупречен. Впрочем, он нравился мне по той простой причине, что я впервые нашел покой под его кровлей. То незначительное внимание, которое он проявлял к моей особе, показалось мне, бедному, заброшенному ребенку, олицетворением отцовской любви. Его любезное гостеприимство настолько отличалось от равнодушия, угнетавшего меня прежде, что я выказывал г-ну де Шесселю детскую признательность за привольную жизнь в его доме и за ласковое обращение. Владельцы Фрапеля так тесно связаны с зарей моего счастья, что я невольно соединяю их с дорогими моему сердцу воспоминаниями. Позднее, когда я состоял при особе короля, мне удалось оказать кое-какие услуги моему бывшему хозяину. Г-н де Шессель был богат и жил на широкую ногу, что задевало самолюбие соседей; он часто менял свои великолепные выезды; его жена носила изысканные наряды; он устраивал блестящие приемы и держал больше прислуги, чем это принято в нашем краю, – словом, замашки у него были княжеские. Владения Фрапеля огромны. При виде роскоши соседа граф де Морсоф, которому приходилось довольствоваться семейным кабриолетом – а в Турени это нечто среднее между таратайкой и почтовой каретой – и по бедности жить на доходы с Клошгурда, конечно, завидовал ему, как истый туренец, до того дня, когда нежданная милость короля вернула семейству Морсофов его былой блеск. Итак, прием, оказанный графом младшему сыну древнего рода, герб которого восходит к временам крестовых походов, был попросту средством унизить незнатного соседа, обладателя обширных лесов, пахотных земель и лугов. Г-н де Шессель прекрасно понимал это. Вот почему, несмотря на неизменную учтивость, между соседями так и не возникло дружеской близости, вполне естественной между владельцами Клошгурда и Фрапеля – двух замков, разделенных лишь Эндром, из окон которых дамы могли бы приветствовать друг друга.
Впрочем, не одна зависть была причиной уединенной жизни графа де Морсофа. В молодости он получил поверхностное образование, как и большинство юношей знатного рода, которые лишь позже восполняли недостаток своих познаний, ведя светскую жизнь, знакомясь с обычаями двора и выполняя обязанности, налагаемые придворными чинами и должностями. Но г-н де Морсоф эмигрировал именно тогда, когда для него началось это второе воспитание, и не воспользовался его плодами. Он был из тех, кто поверил в быстрое восстановление монархии во Франции и, питаясь иллюзиями, жил в изгнании среди прискорбной праздности. Когда распалась армия принца Конде[21]21
…армия принца Конде – то есть армия эмигрантов, сформированная в Кобленце принцем Конде Луи-Жозефом (1736–1818).
[Закрыть], в рядах которой граф отличился своим мужеством и самоотверженностью, он решил, что вскоре вернется под сень белого знамени[22]22
Белое знамя – то есть королевское знамя Бурбонов.
[Закрыть], и не стал, как другие эмигранты, подыскивать себе занятие. А может быть, у него не хватило духа пренебречь своим громким именем и трудиться ради хлеба насущного, ибо на труд он привык смотреть с презрением. Надежды, возлагаемые на завтрашний день, и, по всей вероятности, чувство чести помешали ему предложить свои услуги какой-нибудь иностранной державе. Страдания подорвали его мужество. Длинные переходы пешком на голодный желудок и обманутые ожидания расстроили здоровье, вселили уныние в душу. Скоро нищета его дошла до крайности. Если у многих людей бедность удваивает энергию, то на других она действует подобно яду, и граф принадлежал к этим последним. Несчастный турский дворянин, который странствовал пешком по дорогам Венгрии и делил кусок баранины с пастухами князя Эстергази – он никогда не принял бы милостыни от их хозяина и сотни раз отвергал подачки, предлагаемые врагами Франции, – ни разу не вызвал во мне неприязни, даже когда я увидел, насколько он смешон в своем самодовольстве. Седые волосы г-на де Морсофа рассказали мне горестную повесть этой жизни, и я слишком сочувствовал изгнанникам, чтобы осудить его. На чужбине граф утратил веселость, свойственную французам, и в частности уроженцам Турени; он стал угрюм, печален, занемог и был принят из сострадания в какую-то немецкую больницу. У него оказалось воспаление брюшины, болезнь часто смертельная, которая даже при благоприятном исходе плохо влияет на характер и почти всегда влечет за собой ипохондрию. Низменные любовные похождения г-на де Морсофа, тайну которых я отгадал, хотя она и была погребена в глубине его сердца, не только подорвали жизненные силы изгнанника, но и пагубно сказались на его потомстве. После двенадцати лет невзгод он обратил наконец свой взор на Францию, куда ему было разрешено вернуться декретом Наполеона. Когда, прекрасным летним вечером перебравшись через Рейн, страдалец увидел колокольню страсбургского собора, он едва не лишился чувств от волнения.









































