Читать книгу "Стихотворения"
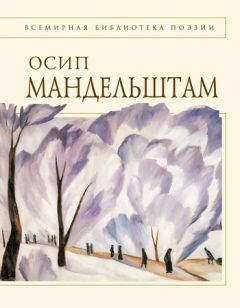
Автор книги: Осип Мандельштам
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом

Осип Мандельштам
Стихотворения
© Шубинский В. И., предисловие, 2021
© ООО «Издательство «Эксмо», 2021
«Этот воздух пусть будет свидетелем…»
Жизнь и поэзия Осипа Мандельштама
Осип Эмильевич Мандельштам – один из величайших русских поэтов вообще и, возможно, крупнейший в XX веке, выдающийся прозаик, классик европейской и мировой литературы. Сегодня все это звучит трюизмом. Но для современников поэта это было отнюдь не самоочевидно.
Мандельштам вовсе не принадлежал к числу «надмирных» лириков, живущих в замкнутом, очищенном от всего непоэтического, подчеркнуто внесоциальном мире (среди них, заметим, тоже есть истинно великие – например, Афанасий Фет или Леонид Аронзон). Нет, он находился в постоянном и углубленном диалоге со своей эпохой, с ее событиями, языком, символическим рядом. Для нас он сейчас – символ этой эпохи, ее свидетель и жертва. Но, наверное, многие его сверстники весьма удивились бы этому. Для них современность воплощали другие поэты: Маяковский, Есенин, в крайнем случае – Хлебников и Пастернак.
В чем же природа этого чуда? Почему так сдвинулась историко-литературная оптика? Что дал Осип Мандельштам русской поэзии и России и почему это, данное, так важно?
Начнем с биографии.
«Я рожден со второго на третье января в девяносто одном ненадежном году…» – эти строки из «Стихов о неизвестном солдате» вполне автобиографичны. Мандельштам родился 3(15) января 1891 года в Варшаве. Он, таким образом, на год моложе Пастернака, на полтора – Ахматовой и примерно на столько же старше Цветаевой. Поэты, которых одно время объединяли в «большую четверку» Серебряного века, были почти ровесниками. Владислав Ходасевич, Николай Гумилев, Велимир Хлебников, Николай Клюев были несколько старше, Маяковский, Есенин, Георгий Иванов – несколько моложе. Дебютировали же все эти большие мастера между 1905 и 1915 годами, в течение десятилетия. Редко в истории литературы встречаются настолько яркие поколения.
Через месяц после рождения старшего сына отец поэта, Эмиль (Хацкель) Вениаминович, получил диплом «мастера перчаточного дела с присовокуплением вспомогательного ремесла сортировщика кож». Статус квалифицированного ремесленника (а позднее купца первой гильдии) позволил семье в 1894 году переселиться в Петербург, закрытый для большинства лиц «иудейского вероисповедания». Впрочем, коммерческие дела Эмиля Мандельштама, торговца кожей, шли, по большей части, неблестяще.
«Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаньями… Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел – и биография готова». Эта гордость безродного интеллектуала в случае Мандельштама психологически понятна, но вообще-то семейство, из которого он вышел, и по еврейским критериям считалось знатным, почтенным, и в русской культуре след оставило. Среди Мандельштамов, выходцев из курляндского местечка Жагоры – видные адвокаты, врачи, филологи, прославленный рижский архитектор Пауль Мандельштам, всемирно знаменитый физик Л. И. Мандельштам, несколько поэтов[1]1
Можно упомянуть Юрия Мандельштама, зятя Стравинского и ученика Ходасевича, погибшего в 1943 году в Освенциме, и яркого андеграундного поэта 1950-х Роальда Мандельштама, тоже умершего молодым.
[Закрыть]. Но, конечно, имя и заслуги Осипа Мандельштама заслоняют всех его родственников.
Родители поэта далеко ушли от еврейской традиции, и для самого поэта она осталась чужой. Для него это был «хаос иудейский», глубокая, но темная, пугающая, чуждая аполлонической европейской цивилизации стихия. Можно с уверенностью сказать, что, когда жизненные обстоятельства потребовали от Осипа Мандельштама сменить вероисповедание, он сделал это без больших колебаний (то же, что он предпочел креститься в лютеранской церкви, а не в православной, опять-таки объясняется практическими соображениями). Но такого решительного отречения от еврейства, такой неприязни к нему, как у Пастернака, у Мандельштама не было. Отношения с «наследством овцеводов, патриархов и царей» были сложными, но это наследство признавалось.
Эмиль Вениаминович был скорее носителем немецкой культуры. Русские культурные влияния доходили через мать, Флору Овсеевну, урожденную Верболовскую, двоюродную сестру выдающегося пушкиниста С. А. Венгерова (вообще духовная и интеллектуальная связь с матерью и у Осипа, и у его младших братьев Александра и Евгения в детстве и отрочестве была крепче, чем с вечно занятым отцом). Еще одним – важнейшим! – источником этих влияний был сам городской ландшафт Петербурга. О порожденном этим ландшафтом (и милитаризированным жизненным укладом имперской столицы) «ребяческом империализме» Мандельштам много (притом отстраненно, иронически) говорит и в своей автобиографической книге «Шум времени» (1925), и в зрелых (1931 года) стихах:
С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья,
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.
Здесь Мандельштам полемизирует с такими своими стихами, как «Петербургские строфы» (1913) и «Уснула чернь…» (1914), в которых декларируется внутренняя связь с «чудовищной, как броненосец в доке» державной Россией, обретенная в Петербурге и благодаря Петербургу.
Но, разумеется, город к этой «державности» не сводился. Школа, которую родители выбрали для Осипа – Тенишевское училище – представляла иной аспект петербургской культуры и петербургского стиля. Десятилетием позже в Тенишевское училище поступил Владимир Набоков. Парадоксально: младший по возрасту классик школу не полюбил, но ее дух (соединение британского стиля, спорта и прогрессивной политики) был очень близок к домашнему укладу его семьи. Мандельштам пишет о «Тенишевке» с теплотой, но по духу он остался этой школе (и вообще английской культурно-бытовой традиции) чужд. Хотя, несомненно, общение с преподавателем литературы, поэтом-символистом Владимиром Гиппиусом, повлияло на пробуждение интереса к литературе. Увы, Гиппиус (по выражению Мандельштама, «формовщик душ и учитель для замечательных людей») не оценил своего ученика и не испытал законной в его положении гордости: мандельштамовская поэзия казалась ему «словоблудием», а «Шум времени» – «пошловатой книгой».
Одним из эпизодов юности Мандельштама было увлечение революционными идеями – что было очень распространено на фоне бурных политических событий 1905–1907 годов. Юный Мандельштам зашел в этих увлечениях дальше, чем большинство его сверстников: он стал членом партии социалистов-революционеров, участвовал в пропагандистской работе, выступал на митинге и даже был допущен на какую-то эсеровскую явку в Финляндии, где издалека видел основателя эсеровской Боевой организации Гершуни. Видимо, это было одной из причин, по которой родители по окончании Тенишевского училища (1907) отправили шестнадцатилетнего сына учиться во Францию: в России ему могли грозить неприятности с полицией.
Трехлетнее (с перерывами) обучение в Сорбонне и в Гейдельберге, путешествия по Франции, Германии, Швейцарии и Италии сыграли в жизни Мандельштама огромную роль. Он смог погрузиться в мир тысячелетней культуры, соприкоснуться не только со «священными камнями», но и с живым кипением европейской мысли и духа. Так, в Сорбонне он слушал лекции Анри Бергсона. Именно такое обучение лучше всего подходило ему по складу личности. Академическое образование в Санкт-Петербургском университете, куда Мандельштам поступил в 1911 году (для этого, собственно, и потребовалось креститься, а также досдать экзамены по древним языкам, которые в Тенишевском училище не преподавались), шло менее успешно: диплома поэт так и не получил (так же, заметим, как Гумилев и Ходасевич).
Из-за границы Мандельштам вернулся сложившимся поэтом. Его детские опыты не дошли до нас, кроме двух стихотворений революционного содержания, написанных в 1906 году, в архаической для своего времени, еще досимволистской традиции, но, впрочем, вполне грамотных. Мандельштам же между 1908 и 1912 годами – уже вполне сложившийся, «взрослый» поэт, не эпигон, а наделенный отчетливой индивидуальностью младший представитель символизма. Замечательно тонкую характеристику дает его стихам этого времени С. С. Аверинцев:
«Очень трудно отыскать где-нибудь еще сочетание незрелой психологии юноши, чуть не подростка, с такой совершенной зрелостью интеллектуального наблюдения и поэтического описания именно этой психологии… Боль адаптации к жизни взрослых, а главное – особенно остро ощущаемая прерывность душевной жизни, несбалансированные перепады между восторгом и унынием, между чувственностью и брезгливостью, между тягой к еще не обретенному «моему ты» (как Мандельштам будет называть свою жену) и странной, словно бы нечеловеческой, холодностью, когда межличностные связи еще не налажены, – все это для мальчика не болезнь, а норма, однако воспринимается как болезнь и потому замалчивается…».
Нельзя сказать, что юношеские стихи Мандельштама встретили какой-то особый восторг, но они были оценены и приняты. Молодой поэт дебютирует в престижнейшем литературно-художественном журнале «Аполлон» (1910. № 11). И тем не менее на рубеже 1911 и 1912 годов Мандельштам примыкает к новой поэтической школе – акмеизму, мыслящему себя как альтернатива символизма. Как известно, в группу изначально входило шесть поэтов – кроме самого Мандельштама, Гумилева и Ахматовой (с которыми он сблизился после возвращения из-за границы) это Сергей Городецкий, Владимир Нарбут и Михаил Зенкевич. Группа акмеистов была ядром более широкого объединения – Цеха поэтов. Мандельштам не сразу принял акмеистическую эстетику, но приняв – стал ее активным проповедником. Другое дело, что сама эстетика эта для разных поэтов означала разное. Для Гумилева – действенное, мужественное отношение к миру, приятие его опасностей и соблазнов. Для Ахматовой – возможность говорить о человеческих чувствах и отношениях в их житейской конкретности, без мистического подтекста и ложной романтизации. В случае молодого Мандельштама задачи новой школы формулировались так: «Акмеизм – для тех, кто обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Зодчий говорит: я строю – значит, я прав» (статья «Утро акмеизма», 1913). Или – словами из стихотворения «Адмиралтейство»: «…Красота – не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра». Архитектурный и ремесленный (в высоком смысле слова) подход к миру, поэтизация труда и мастерства, очеловечиванья и осмысления материи – вот пафос поэзии Мандельштама 1912–1915 годов. Старые, еще символистские, и новые, акмеистические стихи составили книгу «Камень» (1913, 2-е дополненное издание, – 1916).
Казалось бы, Мандельштам занял свою нишу, заявил о себе как о самобытном поэте. Да, эта ниша контрастировала с его человеческой органикой, с его поведением, чуждым какой-либо основательности и солидности. В своей обостренной манере об этом хорошо написал И. Эренбург:
«“Мандельштам” – как торжественно звучит орган в величественных нефах собора. “Мандельштам? Ах, не смешите меня”, и ручейками бегут веселые рассказы. Не то герой Рабле, не то современный бурсак, не то Франсуа Вильон, не то анекдот в вагоне. “Вы о ком?” “Конечно, о поэте “Камня”. – “А вы?” – “Я об Осипе Эмилиевиче”.<…> Мандельштам суетлив, он не может говорить о чем-либо более трех минут, он сидит на кончике стула, все время готовый убежать куда-то паровоз под парами. Но стихи его незыблемы, в них та красота, которой, по словам Бодлера, претит малейшее движение».
Но уже в первые годы после «Камня» поэтика Мандельштама меняется. Его уважение к «сознательному смыслу слова», отвращение к абстрактным символистским иносказаниям («роза кивает на девушку, девушка кивает на розу. Никто не хочет быть самим собой») никуда не исчезают. Но постепенно (и с каждым годом решительнее и смелее) он переходит к поэтике, основанной на сложных словесных ассоциациях. Эти ассоциации порождены и культурой, и внутренней жизнью языка, связаны и с телесностью человека. Литературовед Б. М. Эйхенбаум, говоря о поэзии Мандельштама в 1931 году, употребил термин «химия слов». Сам поэт несколько позднее, в 1936 году, так объяснял свой метод собеседнику – поэту и литературоведу С. Б. Рудакову: «Сказал реальное, перекрой более реальным, его – реальнейшим, потом сверхреальным. Каждый зародыш должен обрастать своим словарем, обзаводиться своим запасом, перекрывая одно движенье другим».
Этот путь уводил Мандельштама все дальше от акмеизма, каким тот был накануне Первой мировой войны. Впрочем, уже в эти годы он, вопреки воле лидера движения, Николая Гумилева, заводит дружеские отношения с представителями враждебной школы, футуристами, и живо интересуется их практикой. Человеческие отношения Мандельштама с Велимиром Хлебниковым были непростыми (имел место, например, вызов Мандельштамом Хлебникова на дуэль из-за антисемитского стихотворения последнего) – но мало кто из поэтов-современников был для Мандельштама настолько творчески значим. Столь же важен был для него и диалог с Пастернаком. Хотя слово «диалог» здесь едва ли уместно: для Мандельштама поэзия Пастернака была важна и необходима, Пастернак же вполне обошелся бы без Мандельштама (как и без практически всех современников).
С началом войны друзья поэта – Гумилев и футурист Бенедикт Лившиц – уходят добровольцами в армию. Мандельштам тоже пытается попасть на фронт (в качестве санитара), но медицинская комиссия признает его негодным к службе. В 1916 году он переживает платонический роман с Мариной Цветаевой, отразившийся в творчестве обоих (притом поэтику Цветаевой Мандельштам никогда не принимал). Потом – революция. Мандельштам успел воспеть Керенского – при ложном известии о его гибели. Довольно быстро, однако, он признает свое неприятие советской власти «стилистической ошибкой» (так, во всяком случае, передает его слова Эренбург). На самом деле стихи Мандельштама 1918–1920 годов, в которых соединяется, казалось бы, несоединимое (и взволнованный разговор о «заре какой-то новой жизни», и скорбь по умирающему Петрополю, и уважение к бремени власти, «которое в слезах народный вождь берет»), не позволяют однозначно индентифицировать его позицию. Сама поэтика Мандельштама позволяла уйти от подобной идентификации: важнее сложные смыслы, проявляющиеся в истории, чем субъективное к ним отношение. Лично поэт в годы Гражданской войны не чувствовал себя в безопасности ни на «белой», ни на «красной» территории: уехав из Москвы после конфликта с чекистом Блюмкиным, он оказывается во врангелевском Крыму в тюрьме, как «большевик». Одним из пунктов в скитаниях по югу России оказывается Киев. Там в 1919 году происходит встреча с двадцатилетней Надеждой Яковлевной Хазиной. Два года спустя она стала женой Мандельштама, разделила с ним выпавшие на его долю гонения и бедствия, спасла от забвения его стихи и стала для потомков главным свидетелем его жизни. Любовные увлечения Мандельштама (Ольгой Ваксель в 1925 году, Марией Петровых в 1934-м), которым мы обязаны лирическими шедеврами, не могли разрушить этот союз.
В 1920 году Мандельштам появляется в Петрограде. 29 октября он читает в Клубе поэтов на Литейном новые стихи, вошедшие в его вторую книгу «Tristia» (1922). Известна дневниковая запись Блока с описанием этого чтения:
«Гвоздь вечера – И.[2]2
Блок, очевидно, имеет в виду «высокую» форму имени младшего поэта («Иосиф»), тогда как сам Мандельштам предпочитал разговорный, «простонародный» вариант.
[Закрыть] Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, «жидочек» прячется, виден артист. Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему)».
Разумеется, в этом отзыве важны не антисемитские обертоны (для дневника Блока, увы, обычные), а сам факт признания одного великого поэта другим – по ту сторону эстетических и идейных расхождений, не говоря уж о бытовых предрассудках. Суть реплики Гумилева дальше поясняется: в его понимании «иррациональное» – это слова, язык. Именно с проникновения в тайны слов, в их загадочную, непостижимую рассудком жизнь начинается для него путь Мандельштама-поэта.
В Петрограде Мандельштам становится одним из обитателей ДИСКа (Дома Искусств) – своеобразной писательской колонии, расположившейся во дворце Елисеевых на углу Невского проспекта и Мойки. Он активно включается в местную литературную жизнь, между прочим, участвует в возрожденном Гумилевым Цехе поэтов. Но его отношения с Гумилевым в последний год жизни последнего были совсем не просты: тут был и психологический бунт против слишком долго доминировавшего старшего друга, и творческий спор, и любовное соперничество (многие стихи Гумилева и Мандельштама 1920 года посвящены одной женщине – Ольге Арбениной-Гильдебрандт).
Сложный эмоциональный опыт послереволюционных лет и многочисленные, перетекающие друг в друга культурные пласты – все это соединилось в стихах «Tristia», породив стихи исключительной тонкости, многослойности, благородства – и притом резко индивидуальные, узнаваемые. Дальше было постепенное освобождение от этой законченности и благородства ради погружения в неокультуренные, «грубые» пласты языка. Критика начала 1920-х вовсе не воспринимала Мандельштама как новатора. Интерес ее был прикован если не к эфемерным и шумным школам вроде имажинизма, то к Хлебникову, Маяковскому, Пастернаку – авторам, очевидно, «левым». Даже те, кто восхищался Мандельштамом, видели в его поэзии явление маргинальное по отношению к наступившей эпохе. Вот, например, слова литературоведа и искусствоведа Николая Пунина (в 1923–1938 – мужа Ахматовой): «…Я всему изменю, чтобы слышать этого могущественного человека. В своем ночном предрассветном сознании он машет рукавами каких-то великих и кратких тайн. Условимся же никогда не забывать его, как бы молчалива ни была вокруг него литературная критика. И через ее голову станем говорить с поэтом, самым удивительным из того, что, уходя, оставил нам старый мир». Между тем для нас сегодня очевидно, что именно Мандельштам в 1920-е годы был ближе всех русских поэтов к «переднему краю» тогдашней европейской лирики (в самых радикальных своих стихотворениях, таких, как «Нашедший подкову» или «Грифельная ода») и именно он точнее и глубже передал надлом человеческого сознания на драматическом стыке эпох (в таких, например, стихотворениях, как «Я по лесенке приставной…» или «Нет, никогда ничей я не был современник…»). Сам он в эти годы, кстати, активнее, чем прежде, выступает в качестве литературного критика – проявляя и полемический задор, и глубину понимания культурных процессов, и блестящую четкость формулировок, и почти безошибочный вкус в выборе «поэтов не на вчера, не на сегодня, а навсегда».
В 1921–1925 годы Мандельштамы живут в Петрограде (Ленинграде), затем в Москве. Источником заработка становятся для поэта переводы прозы с французского и немецкого, в меньшей степени – критика и журналистика (однажды Мандельштаму пришлось брать интервью у молодого вьетнамского коммуниста, который был не кем иным, как Хо Ши Мином – будущим президентом этой страны). Какое-то время Мандельштам служит в газете «Московский комсомолец». В 1928 году выходит последняя прижизненная книга стихов, в том же году – книга статей. Поэтическая активность Мандельштама в эти годы на несколько лет замирает, зато пишется автобиографическая проза – «Шум времени», «Феодосия» (1925), «Египетская марка» (1927), наконец, знаменитая «Четвертая проза» (1930).
Надлом в отношениях со временем проявляется на поверхности по-разному. Осип Эмильевич больше не кажется знакомым «смешным» и «милым» – его эксцентричность порою проявляется некомфортно для окружающих. На рубеже 1930-х как будто помимо воли поэта происходит ряд литературно-бытовых и просто бытовых конфликтов (с переводчиком Горнфельдом, литератором Амиром Сагиджаном и вслед за тем с возглавившим товарищеский суд по этому делу А. Н. Толстым). Ими пользовались для вытеснения неудобного писателя из литературы. Покровительство Н. И. Бухарина помогало житейски (Мандельшам в начале 1930-х годов получил квартиру и небольшую пенсию от государства), но даже член ЦК не мог ничего сделать с невостребованностью Мандельштама, его отлученностью от литературного процесса. Конечно, яростное отщепенчество, пронизывающее «Четвертую прозу», связано не только с этим. Мандельштама возмущало туповатое государственное насилие – и его доводила до бешенства самодовольная трусость советской литературы.
Но это не значит, что пафос революционной переделки мира совсем не задел, не затронул его. Характерно, например, написанное в 1931 году письмо отцу – неудачливому капиталисту, на старости лет искренне увлекшемуся коммунистическими идеями: «Мог ли я думать, что услышу от тебя большевистскую проповедь? Да в твоих устах она для меня сильней, чем от кого-либо. Ты заговорил о самом главном: кто не в ладах со своей современностью, кто прячется от нее, тот и людям ничего не даст, и не найдет мира с самим собой. Старого больше нет, и ты это понял так поздно и так хорошо. Вчерашнего дня больше нет, а есть только очень древнее и будущее». Сюда же замечательное наблюдение С. С. Аверинцева: «…В самых резких местах «Четвертой прозы» – язык не «антисоветский» и не досоветский; это распознаваемый и актуальный для 1929–1930 годов язык советской оппозиции». Неприятие советского мира было для Мандельштама во многом неприятием изнутри.
В 1930 году Мандельштам возвращается к поэзии. Толчком стали разговоры с новым другом – биологом Б. С. Кузиным, и, с другой стороны, путешествие в Армению. В течение нескольких лет он пишет десятки стихотворений, ставших общепризнанными шедеврами. В этих стихах есть совершенно невиданная прежде интонационная и языковая свобода. Прежний, «петербургский» Мандельштам кажется рядом с этим, «всероссийским», несколько академичным – при всем своем величии. Упование на «высокую доблесть грядущих веков», высокое дыхание одиночества и свободы соседствует в стихах 1930-х годов с чувством подступающего утробного ужаса:
– Нет, не мигрень, – но подай карандашик ментоловый, —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!
Дальше сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно вижу я:
Небо, как палица, грозное, земля, словно плешина, рыжая…
Дальше – еще не припомню – и дальше как будто оборвано:
Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою ворванью…
Между ноябрем 1932-го и мартом 1933 года состоялось несколько творческих вечеров Мандельштама – в редакции «Литературной газеты» и Политехническом музее в Москве, в Доме печати и в Капелле в Ленинграде. Вечера имели внутрилитературный резонанс, Эйхенбаум говорил о Мандельштаме как об одном из главных поэтов эпохи. Однако из переговоров о выходе книги ничего не вышло; лишь несколько новых стихотворений увидели свет в «Новом мире» и «Литературной газете». В «Звезде» в 1933 году было напечатано «Путешествие в Армению» – что, впрочем, дало лишь новый повод для критических нападок. Московский период завершает цикл памяти Андрея Белого и гениальное стихотворение «Мастерица виноватых взоров…», посвященное Марии Петровых. В ночь с 16 на 17 мая 1934 года Мандельштам был арестован.
Причиной ареста стало написанное в ноябре 1933 года стихотворение «Мы живем, под собою не зная страны…». Это не столько стихотворение, сколько поступок, причем не «гражданский» в традиционном смысле слова, а личный, человеческий, экзистенциальный, если угодно. Мандельштам много лет вырабатывал сложную «диалогическую» поэтику, в рамках которой личная позиция и личная оценка мира имели второстепенную роль – и вот он выбирает грубый язык лубка, чтобы высказаться предельно четко, без двусмысленности и оттенков. Видимая цель высказывания – сделать для себя дальнейшее физическое существование в СССР невозможным, принести себя в жертву. Повод – возможно, та информация об ужасах коллективизации и голоде, которая дошла до поэта. Бросая вызов власти, Мандельштам пренебрегал и условностями интеллигентской среды. Пастернака (один из двенадцати человек, которым Мандельштам успел стихотворение прочесть) шокировали, например, насмешки над этническим происхождением диктатора. Но Мандельштам и впрямь выбрал позицию бесстрашного «юродивого», для которого нет запретов.
Но вместо немедленной гибели началось разбирательство. Теперь требовалось проявлять трезвое мужество и самообладание на допросах – к чему Мандельштам был куда менее приспособлен. Трудно сказать, почему Сталин решил на сей раз проявить «милосердие», ограничив наказание поэта ссылкой в Чердынь-на-Каме, а затем, после случившегося с Мандельштамом психического срыва, разрешив ему перебраться в Воронеж. Считают, что «кремлевский горец» не хотел излишними репрессиями привлекать внимание к высмеивающим его стихам; за недостатком других объяснений примем это.
Воронежский период (с июня 1934 по май 1937) можно разделить на две части. До августа 1936 года у него был в этом городе литературный заработок и статус: он заведовал литературной частью в местном театре, сотрудничал в журнале «Подъем». Затем началась травля, заработки закончились. Мандельштамы теперь полностью зависели от материальной помощи московских и ленинградских друзей и родственников – которую порой приходилось униженно просить. Здоровье поэта становилось притом все хуже, и «нищета и безработица» не улучшали его.
Однако именно в Воронеже поэт переживает высший взлет своего дара – причем в большей степени это приходится на конец 1936-го и первые месяцы 1937 года. Страшный год русской истории стал, благодаря Мандельштаму, одним из величайших в истории русской поэзии.
В воронежских стихах Мандельштам соединяет гармоничность «Tristia» и экспрессивность московского периода. Он так глубоко погружается в язык, его тайные, корневые связи, как никогда прежде. Никогда его поэзия не была так бытийна, так космична.
И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.
О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную…
Мандельштам сам прекрасно понимал значение совершенного и совершаемого. Свидетельство тому, например, письмо Ю. Н. Тынянову от 21 января 1937 года:
«Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе».
Одно из центральных произведений этой поры – мощнейшие «Стихи о неизвестном солдате», в которых и воспоминания о Первой мировой войне, и литературные аллюзии, и отзвуки физических теорий слагаются в загадочное апокалиптическое пророчество – пророчество грядущей искупительной битвы:
Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его —
И в землянках всеядный и деятельный —
Океан без окна, вещество.
Но именно в связи со «Стихами о неизвестном солдате» возникает проблема, разрешить которую не так просто. Наряду с высокой метафизической лирикой, пронизанной мудростью и мужеством, в Воронеже рождаются и «гражданские» стихи. В большинстве этих стихотворений декларируется приятие советского мира, солидаризация с ним («И как в колхоз идет единоличник, иду я в мир – и люди хороши»). И, наконец, квинтэссенция этих настроений – написанная в начале 1937 года «Ода» Сталину. Если бы эти стихи были художественно слабы или отличались от «настоящего» Мандельштама по поэтическому языку, мы могли бы отнестись к ним просто как к проявлению слабости поэта. Но это далеко не так. В «советских» стихах мандельштамовский гений не ослабевает. Более того, М. Л. Гаспаров убедительно доказывает, что и «Стихи о неизвестном солдате» входят в этот «гражданский цикл», что та грядущая искупительная битва, которую пророчит поэт, может (и по авторской интенции должна) быть прочитана как мировая коммунистическая революция.
Понять это из нашего времени непросто. Люди 1930-х годов ощущали, с каждым годом острее, что весь окружающий мир вовлечен в некий грандиозный сверхпроект. Отторгнутость от него означала выпадение из времени, из истории. Чтобы пережить эту ситуацию и остаться в стороне от общего движения, необходима была либо эксцентричная асоциальность, как у Хармса, либо сверхъестественная духовная трезвость, как у Ахматовой. Для Мандельштама, которому жизненно необходима была «игра с людьми», существование «с гурьбой и гуртом», в «лесу человечества», этот путь был неприемлем. Он мог бунтовать, мог «топорщиться», но не мог (как и Пастернак, и Заболоцкий, и Платонов) просто стоять в стороне. Но притом он не готов был отказаться от собственного языка и собственной понятийной системы. Приятие окружающего, солидарность с ним он тоже выражал своим личным языком – а этот язык до неузнаваемости преображал суть сказанного. Поэтому «гражданские», «советские» стихи его тоже не нужны были власти и не могли увидеть свет.
Весной 1937 года в связи с истечением срока ссылки поэту разрешают вернуться в Москву. Но прописаться в столице не удается, и в итоге Мандельштамы поселяются сперва в Савелово, потом в Калинине (Твери). Оттуда они приезжают в Москву и Ленинград в поисках денег и работы. Но в обстановке начавшегося Большого Террора от поэта, с именем которого был связан некий неназываемый, уже смутно помнящийся политический грех, просто шарахались. В конце концов именно слишком настойчивые попытки опубликовать свои стихи и получить литературный заработок стоили Мандельштаму жизни. 16 марта 1938 года секретарь Союза писателей В. П. Ставский написал Н. И. Ежову письмо с просьбой «решить вопрос об О. Мандельштаме». По словам Ставского, Мандельштам, «автор похабных клеветнических стихов», «часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом – литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца» – гениального поэта, никем не признанного». Судя по всему, это письмо (формально – даже не донос) отражало какую-то борьбу, шедшую в руководстве Союза на фоне творившегося в стране политического апокалипсиса.
Ежов решил вопрос тем единственным способом, каким его ведомство могло и умело это делать. В ночь с 1 на 2 мая Мандельштам был арестован в санатории «Саматиха» (куда ему накануне заботливо дали путевку). 2 августа он был приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей за «контрреволюционную деятельность» (выражавшуюся в поисках заработка и предложении своих стихов журналам), 8 сентября отправлен на Дальний Восток, 12 октября прибыл в пересыльный лагерь Вторая Речка близ Владивостока. О последних неделях жизни поэта ходили разные слухи – от чудовищно страшных до романтических (о декламации сонетов Петрарки у лагерного костра). В настоящее время трудами Э. Полянского и П. Нерлера точная хроника гибели поэта восстановлена. Мандельштам ушел из жизни в полном смысле слова с «гурьбой и гуртом» – в переполненном людьми пересыльном лагере. Эти люди не знали его поэзии и не догадывались о его величии; они видели в нем просто немолодого, больного заключенного с помутившимся от пережитых бедствий сознанием. Но некоторые оказывали ему помощь. Впрочем, это уже не могло ничего изменить. Мандельштам умер от типичной лагерной болезни – сыпного тифа – 27 декабря 1938 года.









































