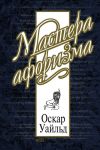Текст книги "Истина масок или Упадок лжи"
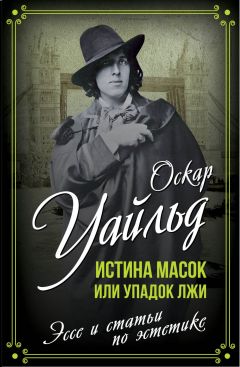
Автор книги: Оскар Уайльд
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

При нынешнем положении вещей мы не в состоянии это сделать. Иногда, когда мне случается написать произведение в прозе, которое я, по скромности, нахожу безукоризненным, ужасная мысль приходит мне в голову: что если я проявил безнравственную изнеженность, употребляя трохаические и трибрахические79 ритмы, преступление, за которое один ученый критик эпохи Августа с заслуженной суровостью порицает блестящего, хотя порой и парадоксального Эгезия. Я холодею от одной только мысли об этом и говорю себе самому: некогда, в припадке безграничного великодушия к некультурной части нашего общества, он провозгласил чудовищную доктрину, будто поведение составляет три четверти жизни, но не исчезнет ли все великолепное моральное значение прозы этого очаровательного писателя, когда внезапно откроют, что у него неправильно расставлены пеоны?
Эрнест. А! Вы становитесь дерзким.
Гильберт. Да как же не стать дерзким, когда вам серьезно говорят, будто греки не были художественными критиками? Я понимаю, можно сказать, что созидательный гений греков растратил себя на критику, но никак нельзя сказать, что раса, которой мы обязаны самым духом критики, не умела критиковать. Вы не потребуете, чтобы я дал вам обзор греческой художественной критики от Платона до Плотина. Ночь слишком хороша, и луна, если она услышит нас, еще больше, чем сейчас, посыплет свой лик пеплом. Но вспомните хотя бы одну короткую и великолепную работу по художественной критике, – аристотелевский «Трактат о поэзии». Здесь нет совершенства формы, это написано скорее плохо, быть может, это даже простые наброски, сделанные для лекции об искусстве, или отрывки, предназначенные для большой книги, но по мысли и трактовке это подлинное совершенство. Этическое воздействие искусства, его значение для культуры, его роль в образовании характера – все это раз навсегда установлено Платоном. Но в этом трактате искусство рассматривается не с моральной, а с чисто эстетической точки зрения. Конечно, еще Платон разобрал многие определенные художественные вопросы, как, например, значение единства в художественном произведении, необходимость тона и гармонии, эстетическую ценность внешности, отношение между изобразительными искусствами и внешним миром, отношение между вымыслом и действительностью. Он первый пробудил в душе человека желание, которому мы и до сих пор не могли найти удовлетворения, желание познать связь между красотой и истиной, место, которое занимает красота в моральном и интеллектуальном порядке вселенной. Проблемы идеализма и реализма, как он выдвинул их, могут многим показаться безрезультатными в той метафизической сфере абстрактного существования, где он поставил их, но перенесите их в сферу искусства – и вы увидите, что они все так же жизненны и полны значения. Возможно, что, именно как критик красоты, Платон остается для нас живым и что, дав другое имя сфере его умозрений, мы найдем новую философию. Но Аристотель, подобно Гёте, берет прежде всего искусство в его конкретных проявлениях, берет, например, трагедии, рассматривает материал, при помощи которого она создана, то есть ее язык; ее содержание, то есть жизнь; ход ее внутренней работы, то есть действие; условия, в которых она развертывается, то есть театральное представление; логическое ее построение, то есть фабулу, и наконец заключительный эстетический призыв к чувству красоты, нашедшему себе воплощение в страстной жалости и благоговении. Это очищение и одухотворение природы, которое он назвал «катарсис», по мнению Гёте, исключительно эстетического, а отнюдь не морального свойства, как думал Лессинг. Вдумываясь прежде всего в то впечатление, которое вызывается произведением искусства, Аристотель берется анализировать его, исследует его источники, смотрит, что его породило. Как физиолог и психолог, он знает, что правильность функции зависит от энергии. Обладать способностью к какой-нибудь страсти и не удовлетворять ей – значит обречь себя на ограниченность и несовершенство. То мимическое зрелище жизни, которое дает нам трагедия, очищает грудь от многих «опасных веществ» и, доставляя высокие и достойные объекты для упражнения наших эмоций, очищает и одухотворяет человека. Больше того, оно не только одухотворяет его, но и посвящает в благородные чувствования, о которых иначе он мог бы ничего не знать, и мне иногда кажется, что в слове «катарсис» заключается определенный намек на обряд посвящения, а порой даже хочется думать, что это-то и есть его единственное и верное толкование. Я, конечно, даю только беглый очерк его книги. Но вы видите, какой это законченный образец эстетической критики. Ну кто, кроме грека, мог бы так отлично проанализировать искусство? Прочтя этот трактат, нельзя больше удивляться тому, что Александрия так сильно предавалась художественной критике, что уже тогда люди с художественным темпераментом изучали все вопросы стиля и приемов, спорили о больших академических школах живописи, как, например, о школе Сициона80, пытавшегося сохранить благородные традиции античных образов, или о школах реалистов и импрессионистов, ставивших себе целью воспроизведение современной жизни, или же обсуждали идеалистическое начало в портрете, или художественную ценность эпических форм для такой эпохи модернизма, как та, в которую они жили, или, наконец, рассуждали о сюжетах, пригодных для художника. У меня, конечно, есть основание опасаться, что и в то время нехудожественные темпераменты тоже занимались литературой и искусством, так как и тогда раздавались бесчисленные обвинения в плагиате, а подобные обвинения исходят или из бесцветных губ импотентов, или из грубых уст тех, кто, не имея никакой собственности, надеется создать себе репутацию богатства воплями, что их обокрали. Уверяю вас, Эрнест, что греки также болтали о своих живописцах, как и мы сейчас, у них также были свои вернисажи и дешевые выставки, ремесленные и художественные цехи, и движение прерафаэлитов, и движение в сторону реализма, и греки также читали лекции об искусстве, и писали статьи об искусстве, и выдвигали своих историков искусства, и археологов, и все прочее. Ведь даже содержатели странствующих театральных трупп, отправляясь тогда в поездку, брали с собой театральных рецензентов и платили им очень приличное жалованье за писание хвалебных рецензий. Право, всем, что в нашей жизни есть модернистского, мы обязаны древним грекам. Всеми же анахронизмами мы обязаны Средним векам. Это греки дали нам всю систему художественной критики, и о тонкости их художественных инстинктов мы можем судить по тому, что самой тщательной их критике подвергся, как я уже сказал, язык. Сравнительно с языком, материал, которым пользуется живописец или скульптор, очень скуден. В словах есть музыка, такая же сладкая, как звуки виолы или лютни, краски, живые и богатые краски, которые пленяют нас на венецианских и испанских картинах, пластические формы, столь же уверенные и определенные, как те, что проявляются в мраморе и бронзе, но сверх всего этого есть еще у них, и только у них, страсть, и одухотворенность, и мысль. Если бы греки ничего не критиковали, кроме языка, то и тогда они все-таки остались бы величайшими художественными критиками мира. Познать законы высшего искусства – значит познать законы всех искусств.
Но я вижу, что луна скрылась за желтоватым, как сера, облаком. Из-за бурой гривы облаков блестит она, точно львиный глаз. Она боится, что я буду говорить вам о Лукиане и Лонгине, о Квинтилиане и Дионисии, о Плинии, и Фронтонии, и Павсании81, обо всех тех, кто в античном мире писал и говорил по вопросам искусства. Ей нечего бояться. Я устал от этого набега в глухую, унылую бездну фактов. Мне ничего не осталось больше, кроме божественного «единовременного наслаждения», другой папироски. Папиросы прелестны по крайней мере тем, что всегда оставляют нас неудовлетворенными.
Эрнест. Попробуйте мои, они недурны. Я получаю их прямо из Каира. Единственное, что есть путного в наших атташе, это то, что они снабжают друзей отличным табаком. Так как луна спряталась, поговорим еще. Я согласен признать неверным то, что говорил о греках. Они были, как вы это доказали, народом художественных критиков. Я признаю это, и мне немного досадно за них. Потому что творческий дар гораздо выше критического. Нельзя даже сравнивать их.
Гильберт. Их противоположение есть вещь совершенно произвольная. Без критической способности нет художественного творчества, достойного этого названия. Вы только что говорили о тонком чувстве выбора, об изысканном инстинкте подбора, при помощи которых художник воплощает перед нами жизнь и придает ей мгновенное совершенство. Ну хорошо, это чувство подбора, этот тонкий такт по отношению к тому, что надлежит отвергнуть, это и есть, конечно, характерный признак критического дара, а тот, кто не одарен критическим даром, ничего не в состоянии создать в искусстве. Мэтью Арнольд утверждал, что литература есть критика жизни; это определение не особенно удачно по форме, но оно показывает, как смело признал он важность критического элемента в каждом творческом произведении.
Эрнест. А я сказал бы, что великие художники работают бессознательно, что они «мудрее, чем они думают», как это где-то утверждает, кажется, Эмерсон.
Гильберт. Это совсем не так, Эрнест. Всякое истинное творчество всегда сознательно и обдуманно. Ни один поэт не поет только потому, что он должен петь. По крайней мере ни один великий поэт. Великий поэт поет потому, что ему хочется петь. Это так и в наши дни, и всегда было так. Мы склонны иногда думать, что голоса, звучавшие на заре поэзией, были проще, свежее, естественнее наших и что мир, который созерцали прежние поэты, мир, в котором они жили, сам в себе обладал какой-то поэзией, и эта поэзия сама собою, безо всяких изменений переносилась в их песни. Теперь на Олимпе густо лежит снег, а его крутые, обрывистые бока стоят темные и обнаженные, но мы воображаем, что когда-то белые ноги муз стряхивали по утрам росу анемон, а по вечерам Аполлон спускался в долину и услаждал пастухов своим пением. Но мы только приписываем минувшим векам то, что хотели бы для нашего века. Здесь наше историческое чутье сбилось с настоящего следа. Каждый век, родивший поэзию, уже в силу этого есть век искусственный, и произведения, которые кажутся нам прямым и естественным продуктом своего времени, всегда являются результатом сознательнейшего усилия. Поверьте мне, Эрнест, без сознательности не может быть подлинного искусства, а сознательность и дух критики – одно и то же.
Эрнест. Я понимаю, что вы думаете, и в этом есть много правды. Но ведь, наверное, и вы признаете, что великие поэмы прежних веков, примитивные, безымянные, коллективные поэмы были результатом фантазии целых народов, а не фантазии отдельных индивидуумов?
Гильберт. Не тогда, когда они стали поэзией. Не тогда, когда они получили прекрасную форму. Там, где нет стиля, нет искусства, и где нет единства, нет стиля, а единство порождается индивидуальностью. Несомненно, что Гомер мог пользоваться старыми балладами и преданиями, как Шекспир мог обрабатывать летописи, драмы, романы, но ведь это же был только сырой материал. Он взял их и претворил их в песню. Они стали его собственностью, потому что он сделал их красивыми. Они были созданы из музыки; «и вот, совсем не созданные, навеки были созданы».
И чем дольше мы изучаем жизнь и литературу, тем сильнее мы чувствуем, что за всяким значительным произведением стоит индивидуальность, что не момент делает человека, а человек создает свой век. Я, конечно, склонен думать, что каждый миф или легенда, представляющийся нам как бы возникшим из изумления, или ужаса, или фантазии целого племени или народа, первоначально были зарождены в душе отдельного человека. Любопытная ограниченность в количестве мифов приводит, по-моему, к тому же заключению. Но нам не к чему забираться в вопросы сравнительной мифологии. Останемся в области критики. Вот что я хочу отметить. Эпоха, лишенная критики, должна быть или эпохой неподвижного священного искусства, обреченного на воспроизведение формальных образцов, или же она должна совсем не иметь искусства. Бывали критические эпохи – не творческие, в обыденном смысле слова, эпохи, когда ум человеческий пытался привести в порядок сокровища своей казны, отделить золото от серебра, серебро от свинца, пересчитать драгоценные камни, дать имя каждой жемчужине. Но никогда не было творческой эпохи, которая не была бы в то же время и критической. Потому что только способность критики создает свежие, новые формы. У творчества есть склонность повторяться. Критическому инстинкту обязаны мы каждой новой народившейся школой, каждой новой формой, которую искусство уже в готовом виде находит под руками.
Все формы, которыми пользуется ныне искусство, все до единой, созданы критическим духом, царившим в Александрии; там эти формы были отлиты, изобретены или усовершенствованы. Я указываю на Александрию, потому что там греческий дух достиг наивысшей сознательности и выродился в теологию и скептицизм82, но главным образом ввиду того, что Рим искал образцов именно в этом городе, а не в Афинах; наша же культура уцелела постольку, поскольку уцелел латинской язык. Когда во время Ренессанса над Европой забрезжила заря греческой литературы, почва была уже в известной степени подготовлена. Но чтобы развязаться с историческими подробностями, всегда скучными и чаще всего неточными, скажем, что вообще всеми формами искусства мы обязаны греческому духу критики. Ему обязаны мы эпосом, лирикой, драмой (во всех ее разновидностях, включая комедии), идиллией, романтической повестью, романом приключений, очерками, диалогами, публичными речами, лекциями, – чего мы, может быть, ему никогда не простим, – и, наконец, эпиграммой в самом широком смысле слова. Действительно, мы всем обязаны им, кроме сонета, с которым, впрочем, можно найти некоторые любопытные параллели в антологии, и кроме американского журнализма, решительно ни с чем не сравнимого, да еще кроме баллад на деланом шотландском диалекте, положенных, по недавнему предположению одного из самых наших прилежных писателей, в основу последнего и единодушного усилия нескольких поэтов средней руки стать подлинными романтиками. Как бы каждая новая школа ни вопила против критики, но нарождением своим она обязана только этой критической способности, заложенной в человеке. Подлинный творческий инстинкт не вводить новое, а воспроизводить.
Эрнест. Вы говорили о критике как о существенной части творческого духа, и теперь я целиком принимаю вашу теорию. Ну а что вы скажете о критике вне творчества? У меня есть глупая привычка читать журналы, и мне кажется, что большинство нынешних критических статей не имеет совершенно никакой цены.
Гильберт. Так же, как и большинство нынешних творческих произведений. Посредственность взвешивает на весах другую посредственность, тот, кто ничего не знает, рукоплещет своему же собрату, – вот зрелище, которое время от времени преподносит нам художественная жизнь Англии. Но я признаю, что здесь я уже становлюсь придирчив. Вообще критики – я говорю, конечно, о первенствующих, о тех, кто пишет для больших газет, – критики несравненно культурнее тех, чью работу они призваны обозревать. Это единственное, чего от них можно ждать, так как критика требует гораздо более высокой культуры, чем творчество.
Эрнест. Да что вы?
Гильберт. Конечно, написать трехтомный роман способен каждый. Требуется только полное незнание и жизни и литературы. Трудность, которую, как мне кажется, должны испытывать рецензенты, это трудность применить какое бы то ни было мерило. Там, где нет стиля, не может быть и критерия. Несчастные рецензенты, по-видимому, обречены быть репортерами литературного полицейского суда, хроникерами обыденных преступлений против искусства. Про них иногда говорят, что они не прочитывают целиком разбираемых произведений. Ну да, они этого не делают. По крайней мере, не должны бы делать. Если они начнут читать их, они на всю жизнь сделаются закоренелыми мизантропами, или, если позволено мне заимствовать выражение одной милой студентки, закоренелыми женантропами83. Да и не к чему это делать. Чтобы узнать, какого качества вино, нет необходимости выпить всю бочку. Через полчаса отлично можно сказать, стоит ли книга чего-нибудь или же не стоит ничего. Даже десяти минут довольно, если обладаешь инстинктом формы. Кому охота продираться сквозь скучную книгу? Только попробовать ее, и этого довольно, даже более чем довольно. Я знаю, что многие честные работники в живописи, так же как и в литературе, абсолютно не признают критики. Они совершенно правы. Их работа не стоит ни в какой интеллектуальной связи с их эпохой. Она не приносит нам новых элементов наслаждения, не дает свежих толчков мыслям, страстям или красоте. О ней не надо говорить. Она должна быть предана заслуженному забвению.
Эрнест. Но, мой милый, – извините, что я вас прерываю, – мне кажется, вы позволяете вашей страсти к критике заводить вас чересчур далеко. Ведь, в конце концов, даже вы должны признать, что гораздо труднее создавать вещи, чем говорить о них.
Гильберт. Труднее создавать какую-нибудь вещь, чем говорить о ней? Нисколько. Это одно из грубых ходячих заблуждений. Несравненно труднее говорить о какой-нибудь вещи, чем сделать ее. В области подлинной жизни это совершенно очевидно. Историю может делать каждый. Но только великий человек может ее написать. Нет такого образа действий, таких форм эмоций, которые мы не делили бы с низшими животными. Только язык возвышает нас над ними или друг над другом, язык, являющийся отцом, а не детищем мысли. Действие есть всегда вещь не трудная, а когда оно принимает самую несносную, то есть самую непрерывную, форму, какой мне представляется подлинное трудолюбие, тогда оно становится прибежищем людей, которым больше уж совсем нечего делать. Нет, Эрнест, не будем говорить о действиях. Действия всегда слепы, они зависят от внешних влияний и движутся импульсами, природы которых не сознают. По существу оно нецельно, потому что ограничено случаем, и не сознает своего направления, потому что всегда находится в разногласии с целью. В основе его лежит отсутствие воображения. Это последний ресурс тех, кто не умеет мечтать.
Эрнест. Гильберт, вы обращаетесь с миром, точно это хрустальный шар. Вы держите его и вертите по прихоти вашей своенравной фантазии, вы просто заново пишете историю!
Гильберт. Единственная наша обязанность перед историей – это заново написать ее. Это одна из нелегких задач, припасенных для критических умов. Когда мы окончательно откроем научные законы, управляющее жизнью, мы убедимся, что единственный человек, поддающийся иллюзиям еще больше, чем мечтатель, это человек действия. Он, конечно, не знает ни источника своих поступков, ни их результата. Он думает, что сеет терновник, мы же с этого поля собираем наш виноград; а фиговые деревья, которые он садит для нашего удовольствия, бесплодны и горьки, как чертополох. Именно потому, что человечество никогда не знало, куда оно идет, оно иногда способно было найти перед собой дорогу.
Эрнест. Значит, вы думаете, что в сфере действий сознательная цель есть самообман?
Гильберт. Хуже, чем самообман. Если бы мы прожили достаточно долго, чтобы видеть результаты наших собственных поступков, возможно, что те, кто считают себя добрыми, заболели бы от мрачных угрызений совести, а те, кого мир считает злыми, были бы охвачены благородной радостью. Всякий наш малейший поступок попадает в громадную машину жизни, которая может перемолоть наши добродетели в порошок и сделать их никуда не годными или претворить наши пороки в элементы новой цивилизации, более чудесной, более великолепной, чем все, что было до нас. Но люди – рабы слов. Они яростно нападают на материализм, как они его зовут, забывая, что каждое материальное усовершенствование одухотворяло мир и что было очень мало (или даже совсем не было) духовных пробуждений, которые не изнурили бы человечество тщетными надеждами, бесплодными стремлениями и пустой или связывающей верой. То, что зовется грехом, есть основной элемент прогресса. Без него мир закоснеет, или состарится, или обесцветится. Грех своим любопытством обогащает опыт расы. Усиленно утверждая индивидуализм, он спасает нас от монотонности типа. В своем непризнании ходячих моральных понятий он является представителем высшей этики. Ну а добродетели? Что же такое добродетели? Эрнест Ренан говорит нам, что природа не знает целомудрия, и возможно, что только позор Магдалины избавил современных Лукреций от бесчестия, – только ее позор, а не их чистота. Милосердие порождает много зла – это были вынуждены признать даже те, для кого оно обязательная часть их религии. Самое существование совести, этого чувства, о котором теперь так много пустословят и которым, по невежеству, гордятся, есть признак нашего несовершенного развития. Чтобы стать утонченными, нужно, чтобы совесть была поглощена нашим инстинктом. Самоотвержение есть просто способ остановить развитие индивидуализма, а самопожертвование – пережиток самоистязания дикарей, частица старого преклонения перед страданием, этого ужасного фактора мировой истории, на алтарях которого до сих пор ежедневно приносятся жертвы. Добродетель! Кто знает, что такое добродетель? Вы не знаете, и я не знаю. Никто. Для нашего тщеславия очень полезно, что мы убиваем преступника, потому что, если мы позволим ему жить, он может показать нам, сколько его преступление принесло нам выгод. Для спокойствия святого полезно, что он идет на муку. Это избавляет его от ужасного зрелища посеянной им жатвы.
Эрнест. Гильберт, вы впали в резкий тон. Вернемся лучше назад, на более приятные литературные нивы. Что такое вы говорили? Будто рассказывать гораздо труднее, чем делать.
Гильберт (после паузы). Да, мне кажется, что я отважился высказать эту простую истину. Вы, конечно, теперь видите, что я был прав? Когда человек действует, он становится марионеткой. Когда он описывает, он поэт. В этом весь секрет. Довольно легко было в песчаных долинах ветреного Илиона посылать с раскрашенного лука зазубренную стрелу или метать против кожаных щитов и красной, как огонь, меди копье на длинной ясеневой рукоятке. Легко было грешной королеве расстилать тирские ковры перед своим повелителем, а когда он покоился в мраморной ванне, набросить ему на голову пурпуровую сетку и повелеть своему юному возлюбленному ударить сквозь петли кинжалом и заколоть сердце, которое должно было бы разбиться под Авлидом. Даже Антигоне, которую смерть стерегла, как жених, легко было идти сквозь отравленный воздух полудня и взбираться на холм и засыпать приветливой землей злосчастный, обнаженный, не познавший погребения труп84. Но что сказать о тех, кто писал обо всем этом, кто дал им реальность, кто навеки дал им жизнь? Разве они не выше воспетых ими мужчин и женщин? «Умер Гектор, этот очаровательный воин», – и Лукиан рассказывает нам, как в мрачном подземном царстве Менипп увидал белеющий череп Елены и изумился, что ради таких отвратительных прелестей были спущены в море все эти острогрудые суда, истреблены прекрасные мужи, закованные в кольчуги, города, обнесенные башнями, обращены в прах85. Однако и сейчас каждый день подобная лебедю дочь Леды выходит на крепостные стены и глядит вниз, в пучину битвы. Седобородые старцы дивятся ее прелести, и она стоит рядом с царем. В горнице из расписной слоновой кости покоится ее возлюбленный. Он чистит свои щегольские латы и расчесывает алые перья. Окруженный воинами и оруженосцами, супруг ее ходит от палатки к палатке. Она может видеть его светлые волосы и слышать (или воображать, будто слышит) его ясный, холодный голос. Внизу, во дворе, сын Приама застегивает свои медные латы. Белые руки Андромахи обвиваются вокруг его шеи. Свой шлем он кладет на землю, чтобы не напугать сына. За расшитыми завесами палатки, в благовонных одеждах, сидит Ахилл, а его ближайший друг, в позлащенных серебряных доспехах, снова снаряжается в бой. Из резного прекрасного ларца, который мать его Фетида принесла к нему на корабль, повелитель мирмидонов вынимает таинственную чашу, не видавшую прикосновение человеческих уст, чистит ее серой, охлаждает свежей водой и, омыв руки, наполняет черным вином ее сверкающую пустоту, и льет на землю густую виноградную кровь, в честь того, кому поклонялись босоногие пророки Додоны86, и молится ему, и не знает, что тщетны его молитвы и что от руки двух троянских воинов, Эвфорба, Пантеева сына, с локонами, перехваченными золотом, и Пирамида, с львиным сердцем, товарищ из товарищей, Патрокл должен, волею рока, пасть. Неужели они только призраки? Герои туманов и гор? Тени пропетой песни? Нет, они сама реальность. Действие! Что такое действие? Оно умирает в минуту высшего своего напряжения. Это низкая уступка фактам. Мир создан певцом для мечтателя.
Эрнест. Когда вы говорите, мне кажется, что это так.
Гильберт. Это действительно так. На развалинах Трои дремлет ящерица, точно сделанная из зеленой бронзы. Сова вьет гнездо во дворце Приама. По пустынной равнине бродит пастух и овчарь со своими стадами, и там, где по маслянистому морю, цвета вина, οϊνοώ πό ντος87, как Гомер определяет его, плыли при свете молодого месяца медноносые, исчерченные пурпуром, большие галеры данайцев, сидят в маленьких лодочках одинокие ловцы скумбрии и следят за колеблющимися поплавками своей сети. И все же каждое утро распахиваются городские ворота, пешие или в запряженных колесницах воины выходят на бой, издеваясь из-под железной маски над врагом. Весь день кипит битва, а когда приходит ночь, факелы пылают в лагере, и в палатках зажжены треножники. Те, кто живет во мраморе или в раскрашенных фресках, знают только одно чудесное мгновение жизни, несомненно вечное в своей красоте, но ограниченное одним взрывом страсти, одним состоянием покоя. Те, кого заставляет жить поэт, владеют мириадами ощущений радости и ужаса, мужества и отчаяния, наслаждения и страдания. В радостном или печальном великолепии приходит и уходит пред ними зима и весна, крылатыми или свинцовыми стопами шествуют перед ними годы. У них тоже есть своя юность и своя возмужалость, они бывают детьми, а потом стареют. Над св. Еленой, как ее увидал у окна Веронезе, вечно брезжит заря. В тихом утреннем воздухе ангелы несут ей символ страстей Господних. Прохладный утренней ветерок шевелит золотые пряди у нее на челе. На том небольшом холме около Флоренции, где лежат возлюбленные Джорджоне, всегда великий полдень, полдень, пропитанный такой негой летнего солнца, что гибкая, обнаженная девушка почти не в силах погрузить в мраморный водоем круглый сосуд из прозрачного стекла, а длинные пальцы играющего на лютне лениво покоятся на струнах. Для пляшущих нимф, которых Коро разбросал средь серебряных тополей Франции, царят вечные сумерки. В вечных сумерках движутся они, эти хрупкие, прозрачные фигуры, и мнится, что их белые, трепещущие ножки не касаются росистой травы, по которой они ступают. В картинах все застыло навеки. Но те, что блуждают среди эпоса, драмы или романа, видят, как сквозь текущие месяцы растет и убывает молодая луна, они могут проследить всю ночь, начиная с вечерней звезды и до утренней, и от восхода солнца до заката могут отметить весь убегающий день, со всем его золотом и со всеми тенями. Для них, как и для нас, расцветают и вянут цветы, и земля, эта зеленокосая богиня, как зовет ее Кольридж, для их удовольствия меняет свои одежды. Статуя сосредоточена в одном законченном мгновении. В картине, запечатленной на полотне, нет духовной возможности роста или перемены. Статуя и картина ничего не знают о смерти, потому что мало знают о жизни, ведь тайна жизни и смерти принадлежим тем, и только тем, над кем время имеет власть, кто владеет не только настоящим, но и будущим, кто может упасть или подняться после прошедшей славы или прошедшего позора. Задача изобразительного искусства – движение – может быть осуществлена по-настоящему только одной литературой. Литература открывает нам наше тело во всей его стремительности, нашу душу во всей ее тревожности.
Эрнест. Да, теперь я понимаю, что вы хотите сказать. Но, конечно, чем выше поставите художника-творца, тем ниже окажется критик.
Гильберт. Почему?
Эрнест. Потому что лучшее, что он может нам дать, будет только отзвуком богатой музыки, смутным отражением ясно очерченных форм. Конечно, возможно, что жизнь, как вы утверждаете, это хаос. Что мученичество, встречаемое в подлинной жизни, презренно, а героизм – низок, что литература призвана создать из грубого материала действительности новый мир, более чудесный, более длительный, более истинный, чем тот, на который смотрят глаза пошлых людей, через который пошлые души стремятся осуществить свое совершенство. Ну конечно, если бы этот новый мир был создан могучий духом какого-нибудь великого художника, он был бы таким совершенным и цельным, что критику было бы нечего делать. Теперь я понимаю и охотно готов признать, что говорить труднее, чем делать. Мне кажется, это здравомысленное изречение, ласкающее наши чувства и могущее послужить девизом литературным академиям всего мира, применимо только к отношениям, существующим между искусством и жизнью, а не к отношениям, которые могут существовать между искусством и критикой.
Гильберт. Да ведь критика сама по себе несомненно есть искусство. И так же, как художественное творчество требует критической способности и без нее совсем не может существовать, так же критика заключает в себе творчество в высшем смысле этого слова. Действительно, критика сама по себе и созидательна и независима.

Эрнест. Независима?
Гильберт. Да, независима. Критику, так же как скульптуру или поэзию, нельзя мерить низким мерилом подражательности или сходства. Критик занимает то же место по отношению к разбираемому им произведению искусства, как художник – к видимому миру форм и красок или к невидимому миру страстей и мыслей. Чтобы достигнуть в искусстве совершенства, он даже не нуждается в лучшем материале. Все что угодно может ему пригодиться. Как из нечистых и сентиментальных любовных интрижек простоватой жены маленького деревенского доктора в грязной деревеньке Yonville-l’Abbaye, близ Руана, Густав Флобер создал классическое произведение, мастерской образец стиля, точно так же из предметов, имеющих самое ничтожное значение или даже совершенно ничтожных, как, например, из картин, выставленных в этом году в Академии художеств, или из каких бы то ни было картин Академии, из поэм Льюиса Морриса, романов Онэ, из пьес Генри Артура Джонса истинный критик может (если только ему вздумается именно в таком направлении тратить свои созерцательные способности) создать произведение, полное безупречной красоты и умственной утонченности. Почему же нет? Блистательные души всегда испытывают неотразимое влечение к тупости, а глупость есть постоянная Bestia Triumphans88, вызывающая мудрость из ее пещеры. Для такого творческого художника, как критик, что может значить сюжет? Не больше и не меньше, чем для романиста или для живописца. Как и они, он может находить свои образы, где ему вздумается. Трактовка – вот в чем главное дело. Нет ничего на свете, в чем бы не было повода или вызова для творчества.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?