Читать книгу "Наши дети. Исповедь о самых близких и беззащитных"
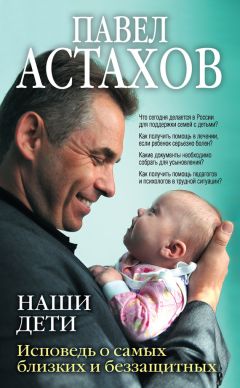
Автор книги: Павел Астахов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 2
«Административный ресурс»
До назначения на должность уполномоченного по правам детей я был в детском доме один раз. В коррекционном детском доме на проспекте Вернадского. Помню, тогда только-только вышли книжки из серии «Детям о праве» – и я их туда повез. Конечно, меня поразило такое количество детишек с умственной отсталостью. Дети все разного возраста. Пришлось, конечно, подыскивать слова, чтобы им рассказать. А «Детям о праве» – книги специфические. В серии их несколько: «Я и дорога», «Я и школа», «Я и улица», «Я и семья». И помню, когда мы все эти книжки туда везли, нас попросили:
– Не привозите книжку «Я и семья» в детский дом.
Собственно, это и понятно. Потом, когда мы уже объединили всю серию под одной обложкой, так, что не разделишь, мы их отправляли как есть.
Короче говоря, в тот раз, в 2008 году, я побывал в детском доме и запомнил, что вот есть такое Богоугодное заведение, но впечатление тяжелое оставляет. А с момента моего назначения 30 декабря 2009 года и выхода на работу 11 января 2010 года и по сегодняшний день я побывал в 1227 детских домах, интернатах, домах ребенка. Сюда входят и интернаты, и детские дома-интернаты (есть такие для умственно отсталых), и дома ребенка, которых у нас больше трехсот, то есть в общей сложности все учреждения детдомовского плана. Я их считаю, я их фотографирую, у меня есть все вывески. Это такой своеобразный отчет для себя: побывал – вот фото на память.
Слово «побывал», конечно, можно по-разному понимать. Для меня «побывал» – это значит: прошел по всем помещениям, попробовал еду, понюхал подушку, посмотрел простынку, одеяло, под которым ребенок спит. Особенно если это дом ребенка, где совсем маленькие. Когда меня назначили, моему младшему было четыре месяца. Поэтому я могу со знанием дела взять любого малыша на руки, понюхать волосики, посмотреть, свежий ли у него подгузничек, вычистили ли ему козявки из носа – или, может, он срыгнул и лежит в мокрой рубашечке, может, его надо переодеть, подмыть, памперс поменять и т. д.
У меня был такой случай в Красноярском доме ребенка: лежит крохотная совсем девочка, несколько месяцев, и захлебывается смесью. Няньки ведь часто как делают – приносят бутылки со смесью, втыкают детям соски в рот, бутылку пристраивают под углом, подпирают подушечкой и идут по своим делам. И все едят. А у этой девочки смесь пролилась, течет по щекам, по шейке. Я спрашиваю:
– А где медсестра?
Подходит девушка молодая. Я взял девочку на руки и ее щечку прислонил к щеке медсестры. Она так и шарахнулась:
– Что вы делаете?
Я говорю:
– Ну ты прижмись к ребенку просто. Она вся мокрая. Тебе самой так приятно будет?
В другом доме ребенка, в Карелии, я стал проверять соски. Говорю:
– Покажите, пожалуйста, пустышки мне. Дети сосут пустышки?
– Да, сосут.
– А кормите из соски?
– Из соски, да.
И вот меня заводят на кухню – а там в каждой группе есть маленькая кухня, – и там стоит на плите такая кастрюля, в которой варятся соски. Потому что из всех видов сангигиенической обработки у нас в большинстве домов ребенка – наверное, таких 99,9 %, – по-прежнему соски кипятят. При этом я с ходу могу назвать несколько детских учреждений, которые из этого ряда выбиваются, – в том числе детский дом-интернат для умственно отсталых детишек в поселке Ояш, в двухстах километрах от Новосибирска, где для младшей группы завели пластиковые бутылочки и специальные стерилизаторы. Директор этого детского дома-интерната мне рассказывала:
– Павел Алексеевич, я сама к этому пришла. Вот это кипячение, эти стеклянные бутылки, которые еще с советских времен остались, ну сколько же можно! А эти новые – они и прочнее, и в три раза дольше служат, и дешевле обходятся в итоге. Хотя если сравнить по цене покупки, пластиковая бутылка дороже стоит, но через некоторое время окупается.
Так вот, открывают мне кастрюлю, я смотрю – а там плавают резиновые соски, такие, знаете, уже все черные, заскорузлые, дырка вся разодранная. Я говорю:
– Это что, вы сейчас вот это вскипятите, а потом детям дадите?
– Да-да, сейчас будем кормить.
– Я у вас возьму две сосочки на память, ладно? – из кастрюли выловил и в карман убрал.
Ну и помимо этого я в том доме ребенка еще много чего нашел. Захожу, например, в ванную, а там какашки из горшка смывают прямо в ванну, где должны детей купать. То есть пришла нянька с горшком, как обычно, воды налила, вылила, сполоснула – а тут я, как нарочно, захожу. И главврач этого дома ребенка, очень пожилая женщина, к концу моего обхода поняла, что уже, видимо, пора ей идти на пенсию.
Но я этим ограничиваться не собирался. В самом деле, чего с главврача спрашивать? Прихожу на совещание правительства и спрашиваю министра здравоохранения республики – молодую женщину лет сорока примерно:
– Это же ваша епархия, министерство здравоохранения Карелии?
– Да, моя.
– Вы ведь тоже видели нарушения, правда? Вы же со мной ходили.
– Видите ли, я не знаю, откуда все это взялось, я месяц назад там проверяла, все было хорошо, – возражает она мне.
Я говорю:
– Ладно, тогда давайте так. Вот две сосочки, я их не брал руками, сразу завернул в салфеточку. Пожалуйста, возьмите в рот сосочку. Вот здесь, при всех.
Конечно, она не взяла. Фыркнула только очень возмущенно. А я продолжаю:
– Ну, знаете, если вы считаете, что все хорошо, то вы не ту должность занимаете.
И она после этого тут же увольняется. И эту соску там запомнили. Уже два президента республики в Карелии сменилось, а соску все помнят.
Скажу честно: я по-другому не могу, на самом деле. Я смотрю на эту соску и думаю: «А своему ребенку я бы дал такую? – Нет». Я пытался и пытаюсь вдолбить в головы губернаторов и региональных министров одну простую вещь: что, во-первых, надо бывать в детских домах, которые у них на территории находятся, потому что они за них отвечают, а во-вторых, надо всегда сравнивать. Вот стоит компот на столе – вы такой компот даете своему ребенку или внуку? А вот на такую простыню вы его положите? А вот на такой кровати он будет спать?
И действительно, через такое личное отношение многих губернаторов удалось пробить, убедить и победить. Точно знаю: абсолютное большинство из них практически никогда об этом раньше не задумывались. А в таком вот диалоге – помогает, работает!
* * *
Кстати, в свое время мы добивались возвращения критериев оценки эффективности работы губернаторов. Об этом я считаю важным упомянуть, потому что с некоторыми категориями оппонентов уполномоченный сталкивается, когда занимается устройством сирот в семьи. В том числе это не только личности, которых можно назвать грантоедами, и люди, которые живут за счет иностранного усыновления или лоббируют иностранное усыновление. Это еще и сами руководители детских учреждений, а кроме того – руководители органов исполнительной власти регионов. Каким образом? Объясню.
Казалось бы, губернатор должен в первую очередь заботиться о самых незащищенных – стариках, детях, инвалидах, сиротах, безнадзорных детях. И, в принципе, он это обязан делать. Но это очень болезненное место, за которое можно схватить любого губернатора, даже самого хорошего. Приехать в несколько детских домов – что мы и стали делать – и найти там букет нарушений. А потом, конечно, можно прийти и договориться с губернатором о том, как он будет все это устранять, как будет реорганизовывать жизнь в этих учреждениях; убедить его, во-первых, что он в этом сам виноват, он за это отвечает, а во-вторых, что он в состоянии это все исправить, а мы поможем. А можно взять и представить доклад президенту, премьеру, генпрокурору.
Я старался и стараюсь всегда выстраивать с губернаторами деловые отношения в этой части – в хорошем смысле, – чтобы они все-таки исправляли ошибки, которые у них есть или которые достались им по наследству и остались незамеченными. В свое время, 27 декабря 2010 года, я попросил у президента слова на Госсовете и выступил перед губернаторами. Я сказал:
– Уважаемые губернаторы. Вот вы здесь все сидите. У каждого из вас в регионе есть детские интернатные учреждения. Я не знаю региона, где их было бы больше, скажем, пятидесяти.
Сейчас их, кстати, стало уже гораздо меньше. Только что был в командировке в Воронеже. Сам город уже стал миллионником, Воронежская область большая, развитая и хорошо населенная. В Воронеже на сегодняшний день восемь интернатных учреждений. Детский дом остался один. Есть коррекционные школы-интернаты и один дом ребенка. Но мы с вами, напомню, говорим о 2010 годе, поэтому цифра пятьдесят будет вполне уместна.
– У меня к вам просьба, – продолжаю я. – В ваших силах за какой-то понятный промежуток времени побывать в каждом детском доме, в каждом интернате, в каждом доме ребенка. Вы едете по насущным вопросам – дороги, ЖКХ, пенсии, что угодно, – заверните в детский дом. Вы обязаны это сделать. Потому что от того, как вы будете себе представлять и видеть проблемы детей-сирот, так они и будут решаться в регионе. Зайдите и сравните. Если вы сравниваете, как живет ребенок-сирота и как живут ваши дети или внуки, и сравнение не в пользу детей-сирот – значит, вы в долгу перед ними. Я вас призываю именно так подходить к этому вопросу. А если вы не будете этого делать – ну извините, тогда у нас будет другой разговор. У меня есть полномочия приехать с проверкой, и у меня есть возможность и компетенция представить доклад президенту.
Что произошло в этот момент?
Естественно, губернаторы, как руководители региональной исполнительной власти, всегда оцениваются. Есть масса управлений в администрации президента, которые следят за разными аспектами жизни каждого региона. Управление внутренней политики, управление общественных программ, экспертное управление, которое занимается экономикой и финансами, и т. д. И все, конечно же, так или иначе смотрят на то, насколько губернатор эффективен. Сейчас появились общественные институты, которые за гранты президента высчитывают эту эффективность. Но они еще очень молодые, им всего около двух лет. Они были и раньше, но не могу сказать, что высказываемое ими мнение всегда было объективным. Однако для внутреннего понимания существует формула определения эффективности исполнительной власти региона, в которую входило – на момент, когда я пришел работать в администрацию, – если не ошибаюсь, порядка двухсот критериев. Постепенно число этих критериев стало сокращаться. В итоге в момент очередного сокращения этих критериев, кажется, до тридцати двух – это как раз был конец 2010 – начало 2011 года, – мне мои советники говорят:
– Павел Алексеевич, посмотрите, есть внутреннее предложение о сокращении этих критериев, благодаря которому выпадает критерий оценки положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе.
Я не знаю, кто и как это пролоббировал, но очевидно, что это случилось не просто так. Потому что мало желающих отвечать за то, что им досталось еще от советской власти, от предшественников, от нехватки средств, от бедности, от асоциальных родителей и т. д. Это как раз к вопросу о том, что я говорил: многие губернаторы тоже считали: «Вот, мол, маргиналы, асоциальные личности, ну и Бог с ними. А я такой хороший, благополучной жизнью живу, поэтому меня их проблемы не касаются. А то, что меня все время за это ругают, – так нужно пойти по простому пути: договориться и этот критерий убрать». Нет критерия – не за что отчитываться и не за что краснеть.
Это и произошло. В 2011 году вдруг исчезает этот критерий, и до конца года принимается решение о том, чтобы осталось еще меньше критериев. Когда я начал писать «прошу вернуть», мне по внутренней переписке, не доходя до президента, объяснили: мол, Павел Алексеевич, все замечательно, но дело в том, что у нас тут оптимизация, в том числе – чтобы по двумстам критериям не оценивать губернаторов. Мы собрались, все экспертно проработали, туда все, что нужно, входит, там есть социальный блок.
Однако я на этом не успокоился. Я просто понял: если за это с губернаторов не будут спрашивать, иначе говоря, если это не будет критерием оценки, то, соответственно, кто-то, имеющий совесть и память, будет продолжать работу, а кто-то скажет:
– Слушайте, меня за это не наказывают! Ну есть сироты и есть; и Господь с ними. Накормлены? Накормлены. Одеты? Обуты? Ну и слава Богу. И все. Отстаньте!
Процесс возвращения этого критерия занял почти полтора года. Я начал писать, говорить, начал со всеми обсуждать, подготовил доклад президенту. В итоге 28 декабря 2012 года, в один день с принятием «закона Димы Яковлева», вышел знаменитый Указ № 1688. То есть Госдума приняла закон, запрещающий американское усыновление, а президент подписал указ о мерах по поддержке детей-сирот, приемных семей и т. д. И шестым пунктом в этом указе стоит положение, согласно которому в критерий оценки эффективности исполнительной власти в регионе и ее главы включается положение детей-сирот, состояние детских интернатных учреждений, положение приемных семей, многодетных семей – то есть полный блок.
Что получилось? На данный момент количество критериев оценки свелось к двенадцати. То есть, когда их было двести, удельный вес каждого из них был, естественно, совсем другим. А теперь каждый пункт на виду, в том числе и положение детей. И я очень благодарен президенту Путину за то, что он все это увидел, понял, обсудил со специалистами и вернул данный критерий в перечень для оценки.
С этого момента началась новая история. Считаю, что 2013 год оказался таким плодотворным еще и из-за этого: губернаторы поняли, что придется отвечать, замести проблему под ковер не удастся.
Глава 3
Цена сиротства
В первое время я еще ни в чем толком не разбирался – и начал привлекать профессионалов, слушать их мнение. Понимаю, что нужно создавать команду, и собираю людей из Генеральной прокуратуры, из органов профилактики МВД, из людей, работавших в комиссии по делам несовершеннолетних. Собрал команду, которую прозвали «детский спецназ». Это мобильная группа, которая выезжает со мной вместе на разбор ЧП, и инспекционная группа, которая выезжает для планомерного, последовательного инспектирования одного учреждения за другим, одного детского дома за другим, во всех субъектах Российской Федерации. Страна-то огромная – разница между Благовещенском и Калининградом, Москвой и Анадырем колоссальная. И не только в расстояниях.
В первый год было, кажется, порядка тридцати шести регионов, которые я объехал. Поездки по три, четыре, пять дней, иногда по три недели – как осенью 2010 года на Дальнем Востоке или летом 2010 года на Северном Кавказе, где я объехал все детские учреждения. Инспекции, инспекции, инспекции… В день от семи до двенадцати детских учреждений.
Самое тяжелое, помню, было в Свердловской области – это март 2010 года. Огромное количество детских учреждений, огромные расстояния. Свердловская область – она длинная такая, вдоль Урала вытянулась. Нижняя Тура – Нижний Тагил – Верхний Тагил – Верхняя Тура – Невьянск – поселок Рефтинский… Концы по двести-триста километров. И все это на машине, да по не самым лучшим дорогам. За четыре дня накатал порядка двух с половиной тысяч километров – у водителя спросил, они же каждый день пишут километраж в путевке.
Приехал из Челябинска в Екатеринбург. Из Екатеринбурга меня в дороге настигает новость о ЧП в Нижнетуринском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, где погибло сразу трое ребятишек. Их чем-то не тем накормили с вечера, утром у девяноста пяти детей понос, рвота, трое погибают – двое сразу, а одна девочка умерла уже в реанимации. Я прямым ходом еду туда, в Нижнюю Туру. Место называется ЗАТО Лесной – закрытое автономно-территориальное образование.
Приезжаю, время ноль часов. Сразу провожу совещание: МВД, прокуратура, следственный комитет, Роспотребнадзор, бактериологическое агентство, все сидят, все взъерошенные. Главврач этого интерната нас водит по помещениям, показывает. Сразу видим антисанитарию, сразу видим неблагополучие. Принимаем решение завести уголовное дело, начать расследование, директора отстранить от работы. Детей надо восстанавливать, половина лежит в больнице с отравлением… Там детей жило почти триста человек, из них половина лежачие. Ужасно было все – от обстановки до запаха: едкая смесь медикаментов, мочи, пота, пролежней, рвоты… Он тебя потом преследует, этот запах. Ничего, со временем привыкаешь. Особенно он характерен для тех интернатов, где много лежачих детей. Это первые учреждения, в которые я стараюсь ехать, потому что там, как правило, легче всего поселяется неблагополучие. И сложнее всего выводится, исправляется.
Первые месяцы я даже от обедов отказывался. Обычно как встречают – чай, обед и т. д. Я говорил:
– Знаете, я не могу. Честно. Я в таком состоянии нахожусь, что ни пить, ни есть не хочу. Работать надо. Много. Очень много.
Единственное у меня было спасение – я просил вечером или ночью меня в какой-нибудь спортзал закинуть. Хоть немного снять этот стресс. Дикое состояние! Звоню домой и даже не могу ничего рассказать, передать, что я вижу. Колотит. От злости. От боли.
Мне это довольно тяжело далось – переход от модного адвоката практически к Геркулесу, разгребающему авгиевы конюшни. Тут и здоровье нужно, как у Геркулеса. Президент мне как-то раз сказал:
– Знаете, я ездил по детским учреждениям – тяжелейшее впечатление, особенно когда в психоневрологические интернаты приезжаешь: вид, звуки, запахи… Как вы вообще спите?
Я говорю:
– Так я первые полгода вообще не спал. От увиденного, от переживаний.
Потому что я как занырнул во все это… Я по России раньше не так много ездил, хоть и полмира объехал. А тут за два года побывал во всех регионах – такое количество детских историй… Как, например, в Березовке Хабаровского края, где в детском доме-интернате для умственно отсталых детей четырнадцатилетний подросток умер, задохнувшись в смирительной рубашке. «Нормальная» практика там была – надевать на детей смирительные рубашки. У них это называлось «мягкая фиксация». Мальчика связала санитарка, уложила, и он погиб: бился в истерике, захлебнулся. Санитарка не понимает: «А что такого?» – ну связала, подумаешь, всегда так делали. В Омске мы тоже находили детей, привязанных к кровати, в том числе девочку с синдромом Дауна.
Про детей с синдромом Дауна вообще надо отдельно рассказать. Я, честно, огромное удовольствие получаю, когда езжу к детишкам-даунятам – какие они хорошие, какие классные! И для меня такая всегда боль, когда слушаю их истории! В Калуге в доме ребенка показывают мне мальчика Степу – ему два с половиной годика – и говорят, что у него есть сестра. Я сначала не понял. Оказалось, они двойняшки, девочка абсолютно здорова, а у мальчика синдром Дауна. Родители отказались. Для меня это непостижимо – как они будут жить дальше? Они будут видеть свою девочку и все время вспоминать, что у них есть такой же мальчик, сын, которого они оставили в доме ребенка. Как это может быть? Я не понимаю, не могу понять.
В Крыму узнал удивительную вещь. Там в домах ребенка отказные дети – это четвертые-пятые дети в семье. То есть родили родители троих – ну и хватит. Теперь ты, государство, расти. Этого я тоже не понимаю – как так можно? Но это есть.
Хотя должен сказать, что я видел и очень благополучные учреждения – как, например, детский дом-интернат № 1 в Санкт-Петербурге. И это наряду с тем, что там был и интернат № 4, где погибал Илья Дувакин – мальчик, родившийся со множественными пороками и всю свою жизнь проживший в интернате, потому что мать от него отказалась. Мальчик, которого в одиннадцать лет отправили умирать в больницу и которого в конце концов общими усилиями спасли.
Я видел Ояшский детский дом-интернат в Новосибирской области – он раньше был сарайчиком на тридцать пять лежачих детей-инвалидов, а потом превратился в огромный комплекс, на который работает весь поселок, до этого пивший и гулявший напропалую. Со своим огромным хозяйством, с лошадьми, овцами, свиньями, коровами, гусями, утками, полями. Там тоже живет больше двухсот пятидесяти детей.
* * *
В общем, чем больше я видел и узнавал, тем яснее понимал, что нужны системные изменения. А в первую очередь мне нужны помощники. Потому что нигде нет уполномоченных по правам ребенка. Ведь эта форма, омбудсмен для детей, была придумана Комитетом по правам детей ООН. Хотя вообще омбудсмен – это не совсем правильный в моей ситуации термин. Я скорее commissioner – то есть, по сути, комиссар при президенте по правам детей. А омбудсмен – это утвержденный парламентом уполномоченный по правам человека. Все остальные – комиссары: и по правам детей, и уполномоченные по правам предпринимателей, которые появились позже.
В виде эксперимента ЮНИСЕФ году, кажется, в 2005-м, а после в 2008-м учредил пять своих уполномоченных. Они работали фактически на общественных началах – на гранте ЮНИСЕФ. Это было в Ижевске, в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Саратове и Москве. И все. До учреждения поста уполномоченного в России таких людей не было. Никто не знал, с чем их едят и зачем они вообще нужны.
Через два года после начала работы, 24 декабря 2011 года, я доложил президенту, что во всех регионах Российской Федерации, кроме Еврейской автономной области, появились уполномоченные по правам ребенка.
У нас с Александром Ароновичем Винниковым, руководителем ЕАО, была такая история. Он долго-долго упирался, дольше всех.
– Ну зачем нам уполномоченный! Нас и так тут мало, и детей мало, и все у нас хорошо.
Ну вот я приехал и ему показал, что не все так хорошо, как ему кажется. А 24 декабря 2011 года сказал ему:
– Знаете, я сегодня президенту докладываю – скоро будет послание Федеральному собранию, и президент спросил, сколько у нас уполномоченных. Так я ему сказал, что везде, кроме Еврейской автономии.
Винников кричит:
– Нет, нет, не надо, не говорите, сейчас все будет!
И быстро-быстро принимает решение. Так что 2011 год мы закрыли с тем, что у нас везде есть уполномоченные, во всех регионах.
* * *
Я люблю свою новую работу. Факт! Мне все это до сих пор очень интересно. Я с удовольствием езжу в инспекции. Но понятно, что осмотреть десяток учреждений в день уже тяжело, боишься что-то упустить. А важно все – и в том числе сберкнижка, на которой должны лежать эти «сиротские» деньги от государства. Оказалось, что у многих лежит только десять рублей, которые нужны, чтобы сберкнижку открыть. И все. Так до восемнадцати лет эти десять рублей и лежат – а больше ничего нет. В восемнадцать лет такой сирота из детдома выходит – кому он нужен? Вроде бы государство должно ему дать квартиру, вроде какие-то льготы ему положены при поступлении в вуз. А его в детдоме ничему не научили. Он мало того что никому не нужен и квартиру неизвестно когда дадут – хотя дадут, конечно, – он еще и ничего не умеет.
Кстати, о квартирах.
Я приехал в Вологду – там дали двести квартир выпускникам детдома. Стоит новенький дом. Мне говорят:
– Павел Алексеевич, вас там встречают.
Замечу, квартиры дали в ноябре, а я приехал в марте – то есть полгода прошло, зиму перезимовали. Подхожу, вижу – стоит парень, дылда, на две головы выше меня, в кожаной куртке.
– А-а, – тянет нагловато, – это вы Астахов, с инспекцией приехали?
– Да.
– А я вас жду. Значит так, вот список всех недоделок, все, что надо устранить. Давайте с них потребуем!
– Хорошо, – говорю, – давайте пойдем посмотрим квартиру.
Приходим в квартиру.
– В чем проблема?
– Вот, смотрите, видите – балкон, смотрите, как дует! Мы там ватой забили, заклеили…
В доме, между прочим, установлены пластиковые окна. И ватой забита щель между рамами и заклеена скотчем. Я не знаю, смеяться или плакать:
– Ребята, это новый дом! Вот я тоже живу в новом доме – так я каждый год вызываю мастера, который мне все это подтягивает. Потому что дом дает усадку, «гуляет». Понимаете? Если вы в этом ничего не соображаете, у вас должен быть какой-то старший, куратор, который вам подскажет. Что вы делаете? Вы же уродуете окно сами себе.
– Ну ладно, а вот смотрите, в ванной кафель, видите? Голый пол! Я встаю и примерзаю зимой, холодно.
– Ну знаешь, – отвечаю. – Положи коврик. Деревянный матик сбей. Сделай что-нибудь, чтобы ты не примерзал к этому полу.
– А вот здесь краска облупилась, отлетела…
И все требования – сплошь такая же мелочь, ерунда. Я говорю:
– Слушай, сейчас рабочий день. Вот я работаю, а ты что делаешь?
– А я могу не работать! Имею право!
Даю справку: сирота, вышедший из детского дома, сегодня в течение года получает пособие в размере средней зарплаты в регионе. На второй год – половину. А работу со средней по региону зарплатой в первый год после выпуска, не имея по большому счету никаких трудовых навыков, он вряд ли найдет. И на кой ляд ему работать? Кого мы растим, ребята?
Ко мне в Сыктывкаре подошел ректор университета и пожаловался:
– Павел Алексеевич, у меня девочка есть, сирота, третий год поступает на отлично.
– Не понял?
– Ну как, поступает, сдает все на отлично, плюс у нее льготы при зачислении. Стипендию я ей плачу. Она год не приходит. То есть поступила и год получает стипендию. Ни на лекции не ходит, ни экзамены не сдает. Я ее через год отчисляю. А она в следующий раз на вступительные приходит и опять сдает, опять поступает. Второй раз я ее отчислил. Она в этом году в третий раз пришла и поступила! Что мне делать с ней, я не знаю.
То есть ум у девчонки светлый и соображалка работает так, что ого-го, нам с вами только учиться и учиться. Это к вопросу о том, что эти ребята, многие, очень талантливы по природе, очень. Но иждивенчество – чрезвычайно серьезная, опасная проблема. И, к сожалению, большинство людей, выросших в детском доме, привыкают постоянно повторять: дай, дай, дай.
И я задумался вот о чем. О том, что это очень странно: за государственный счет, в государственном учреждении находятся дети, которые двадцать четыре часа под наблюдением, под опекой, ими заниматься должны – а из них растят в лучшем случае ненужных людей, ко всему прочему еще и иждивенцев. В детдоме ведь как: хочешь сахару – тебе выдадут, носки порвались – дали новые. Выпускник оттуда выходит и не знает, куда пойти купить хлеба, не знает, как заплатить за электроэнергию. Ничего не знает. В восемнадцать лет – полный иждивенец. Это, повторяю, в лучшем случае. А в худшем? Преступник или жертва.
* * *
С 1990-х годов ситуация в сфере защиты детства у нас, как свидетельствуют даже неискушенные люди, все время ухудшалась. Реально ухудшалась – помимо того, что было огромное количество детских домов. И я готов спорить с теми, кто начинает говорить, что, мол, это Астахов придумал детские дома закрывать, поэтому губернаторы подстраиваются, объединяют четыре детских дома в два и отчитываются о выполнении. Это не совсем так. Бывают случаи, но они единичные. Стандарт министерства образования – шестьдесят детей. Больше этого количества воспитанников в детском доме быть не может. А раньше по стандарту их было сто двадцать! Так о каком «укрупнении» мы говорим? Наоборот!
Здесь есть еще одна близкая тема, которую обязательно надо затронуть. На сломе эпох у нас образовалась та самая демографическая дыра в пятнадцать лет – перестали рожать детей. Это и понятно. Когда родился мой первый ребенок, в 1988 году, жена чуть ли не одна была в отделении. Все было по талонам, всем было не до детей. Помню, как Светлана, беременная, стояла в очереди за макаронами и ее там чуть не задавили. Потому что макароны «выбросили» в пять часов вечера, ну и, соответственно, после работы все пошли в магазин. 1988 год был «дном» демографической ямы.
Второй провал – 1993 год. В 1993 году у нас родился второй ребенок. Тоже никто не рожал в это время. Я прекрасно помню, как это все происходило. Уже рухнул Советский Союз, уже прошел путч, и сейчас расстреливали Верховный Совет в Белом доме. Шла чуть ли не гражданская война – какие дети? С продуктами по-прежнему было напряженно, еще действовали талоны. Куда детей рожать? И в тот период детские сады фактически пустели. Никто ими не занимался, детей было мало. А вот востребованность детских домов была огромная. Кстати, впервые громко сказал о проблеме Ролан Быков – и с этого момента государство начало худо-бедно пытаться собирать с улицы детей. Хоть и не так быстро, как хотелось бы. Появились дома ребенка.
Каждый дом ребенка, чтобы вы понимали, рассчитан на сто двадцать человек. Это классический детский садик, которые в начале 1990-х никому были не нужны, потому что детей рождалось мало, а вот брошенных детей становилось все больше. Вот сейчас из тех трехсот домов ребенка, которые есть в России, двести восемьдесят пять находятся в зданиях классического детского садика на сто двадцать человек: три блока, соединенные между собой. Так это и осталось.
2011 год стал знаковым в демографическом возрождении России – вдруг детские садики опять стали востребованы. Ситуация начала меняться. Детских садов стало не хватать. И жизнь подтвердила, что я был прав, когда с 2010 года убеждал всех, что надо освобождать детские дома под детские сады.
* * *
Я задумался о том, как сэкономить силы и средства, когда видишь, что учреждение неэффективно и нежизнеспособно. Полез глубже и нашел интересную вещь. Когда я в свое время учил шведский – меня готовили к работе в Швеции, – нам рассказывали про социальные стандарты в стране. В сфере детских учреждений действует стандарт, согласно которому в любом детском учреждении на двух детей приходится один взрослый. Потому что один взрослый всегда в состоянии справиться с двумя детьми разного возраста. И вот этот стандарт социальной работы и защиты доказывает, что уровень жизни в Швеции был в то время одним из самых высоких.
Я запомнил это, потому что у нас в детских садах ведь было совсем по-другому. Я тогда уже начал своих детей водить в детский сад и видел, что в группе из двадцати – двадцати пяти человек – только воспитательница и нянечка. И все. А то еще и не всегда нянька есть – штат не укомплектован. А в Швеции на группу в восемь человек – два воспитателя и две помощницы.
Когда я только начал посещать с инспекциями детские дома, то все пытался представить – сколько же в детском доме в России работает воспитателей на такое количество детей? Стандарт детского дома был в то время сто шестьдесят воспитанников, потом стало сто двадцать. Ну, думаю, наверное, на десять человек один воспитатель. И то – дай-то Бог!
Как вы думаете, сколько? В реальности?
Не будем гадать.
И в 2010 году, и сейчас соотношение детей и взрослых в российских детских интернатных учреждениях и домах ребенка – один ребенок на 2,2 взрослых.









































