Читать книгу "Леонид Андреев: Герцог Лоренцо"
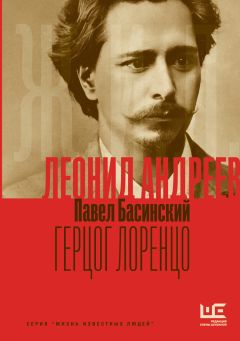
Автор книги: Павел Басинский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В чем его вера?
Другое дело – круг чтения. Выбор книг был хаотичным, но все же в нем прослеживаются внутренние запросы этого мальчика.
Читать я начал шести лет и читал чрезвычайно много, все, что попадалось под руку; лет с семи уже абонировался в библиотеке. С годами страсть к чтению становилась все сильнее, и уже с десяти-двенадцати лет я начал ощущать то известное провинциальному читателю чувство, которое могу назвать тоскою о книге. Моментом сознательного отношения к книге считаю тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре затем “В чем моя вера?” Толстого. Это было в классе четвертом или пятом гимназии; и тут я сделался одновременно социологом, философом, естественником и всем остальным. Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра… К двадцати годам я был хорошо знаком со всею русскою и иностранною (переводною) литературою; были авторы, как, например, Диккенс, которых я перечитывал десятки раз.
“Автобиографическая справка”
Нельзя сказать, что в этом списке было что-то необычное для гимназиста конца XIX столетия. И “нигилист” Писарев, и “запрещенный” Толстой, и модные тогда немецкие пессимисты Гартман и Шопенгауэр были популярным чтением развитых молодых людей того времени. Особенность была только в том, что Андреев стал читать это слишком рано для своего возраста. И еще любопытно, что эти имена он вспомнил через тридцать лет.
Его тянуло к отрицателям и разрушителям.
Писарев, ниспровергающий идеализм. Толстой, восставший против Церкви. Шопенгауэр, который, по выражению критика Н.Н.Страхова, “закрывает последние пути для оптимизма”. И для заправки этого интеллектуального блюда – Молешотт, объясняющий все проявления человеческой жизни вплоть до духовных через желудок. И рядом с ним – Диккенс, с его невидимыми миру слезами, острым переживанием несправедливости по отношению к униженным и оскорбленным, особенно детям, и беспощадным юмором.
Из такой гремучей смеси рождалось самосознание молодого Леонида Андреева.
Писарев:
Что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет.
“Схоластика XIX века”
Толстой: Пять лет тому назад я поверил в учение Христа – и жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо.
“В чем моя вера?”
Шопенгауэр: “Мир – мое представление”: вот истина, которая имеет силу для каждого живого и познающего существа… Для него становится тогда ясным и несомненным, что он не знает ни солнца, ни земли, а знает только глаз, который видит солнце, руку, которая осязает землю; что окружающий его мир существует лишь как представление, т. е. исключительно по отношению к другому, к представляющему, которым является сам человек.
“Мир как воля и представление”
Поместите это в голову школьника, который читает это после уроков Закона Божия, вернувшись в Пушкарскую слободу, где мать рассказывает ему про Бову-королевича, а пьяный отец пришивает к тюфякам спящих гостей.
Взрыв мозга неизбежен.
“Еще гимназистом, классе в 6-м, начитался он Шопенгауэра, – вспоминала Зоя Пацковская. – И нас замучил прямо. Ты, говорит, думаешь, что вся вселенная существует, а ведь это только твое представление, да и сама-то ты, может, не существуешь, потому что ты – тоже только мое представление”.
Конечно, в этом чувствуется обычный подростковый нигилизм, желание попугать окружающих, причем, разумеется, самых близких. Но под всем этим уже лежит некая “база”, “литература”, труды действительно выдающихся критиков и мыслителей, в которых он ищет оправдания своего нигилизма и одновременно подпитывается ими.
После смерти отца Леонид начинает вести дневник и однажды записывает слова, которые уже в зрелом возрасте его самого удивят своей недетской серьезностью:
Я хочу быть апостолом самоуничтожения. Я хочу в своей книге подействовать на разум, на чувства, на нервы человека, на всю его животную природу. Я хотел бы, чтоб человек бледнел от ужаса, читая мою книгу, чтоб она действовала на него как дурман, как страшный сон, чтоб она сводила людей с ума, чтоб они проклинали, ненавидели меня, но все-таки читали ее… и убивали себя. Мне хочется потешиться над человечеством, хочется вволю посмеяться над его глупостью, эгоизмом, над его легковерием. И когда хоть один человек, прочитавший мою книгу, убьет себя – я сочту себя удовлетворенным – и могу тогда сам умереть спокойно.
Но пока он сам совершает попытку еще не самоубийства, но испытания себя на возможность добровольной смерти. И что удивительно, толчком к этому стали не германские пессимисты, а веровавший в Бога Лев Толстой.
Николай Фатов пишет, что “в религиозном отношении Андреев-гимназист проявлял полный индифферентизм, хотя, разумеется, исполнял все требуемые начальством обряды… Своим подругам, Пацковским, говорил, что «бога нет», чем приводил их в священный трепет и ужас”.
Но это на поверхности. А в глубине души запрещенное церковной цензурой сочинение Льва Толстого “В чем моя вера?” подействовало на него не меньше, чем роман “Что делать?” Николая Чернышевского на симбирского гимназиста и почти ровесника – Володю Ульянова.
О том, что с ним произошло после чтения Толстого, Андреев рассказал Василию Брусянину:
Увлекся я произведением Толстого “В чем моя вера”, увлекся и проштудировал книгу великих исканий… Прочел, но веры толстовской целиком не воспринял. Положительную часть учения – веру в Бога, совершенствование личной жизни ради одной цели – Бог, – не воспринял и отбросил как нечто чуждое мне, и осталось только то, что отрицалось Толстым до пределов его положительного учения. И я спрашивал себя: какая цель моей жизни, если во мне нет стремле ния к Богу по существу толкований “великого писателя земли русской”? И вот однажды, в ясную майскую ночь я был в компании молодежи. Было весело, шумно и интересно. Возвращались мы по полотну железной дороги. Кто-то в толпе еще спорил, не имея сил покончить с темой, затронутой еще на пикнике. Кто-то пел, другие мальчишествовали, толкались, играли в чехарду. А я отстал от остальных, шел сзади и был мрачен в своем одиночестве. И спрашивал я себя: с какой целью те спорят, с какой целью эти поют? Почему, зачем они это делают? Почему и зачем мы идем по полотну дороги? Для чего строилась эта дорога? Для чего они, мои товарищи, веселятся и живут? И вдруг, на виду у поезда, во мне обострилась мысль о самоубийстве, и я лег между рельс, задавшись вопросом: если останусь жив, значит, есть смысл в моей жизни, если же поезд раздавит меня, стало быть, в этом воля Провидения… Мне зашибло грудь и голову, расцарапало лицо, сорвало с меня куртку, разодрало в клочья, но я все же остался невредим… Тогда мне было 16 лет.
Если он точно вспомнил свой возраст и месяц, когда это произошло, то это случилось ровно за два года до смерти отца, когда семья Андреевых еще жила сытно и обеспеченно[12]12
Биографы Андреева Людмила Кен и Леонид Рогов на основании дневника писателя относят этот эпизод к маю 1889 г., когда ему было не 16, а неполных 18 лет. В любом случае это произошло до того, как семья Андреевых впала в бедность.
[Закрыть]. И следовательно, это был исключительно “умственный” поступок, так сказать, теоретическое самоубийство, подобно теоретическому убийству, совершенному Раскольниковым в “Преступлении и наказании”. Подергать Бога за бороду. Испытать себя на прочность.
Зоя Пацковская вспоминала об этом событии несколько иначе, чем сам Андреев в беседе с Брусяниным:
“Под поезд бросился – мы все пошли гулять большой компанией, он был в хорошем настроении; пошли к ботаническому саду вдоль полотна Орловско-Витебской ж.д. Возвращались оттуда уже поздно вечером, часов в 12. Мы все возвращались веселые и довольные. Вдруг видим, что он что-то отбросил, потом оказалось, что пальто, – и побежал к рельсам на насыпь, – мы все окаменели. Когда прошел поезд, он встал бледный, с изорванной рубашкой, и, шатаясь, тихо ушел. Его это страшно потрясло. Он потом был болен, сильное было сердцебиение. Мать просила не рассказывать отцу. Мы боялись его расспрашивать. Потом он сам стал говорить и сказал, что сам не отдает себе отчета, зачем он это сделал; хотел, очевидно, испытать сильное ощущение и судьбу. Я, говорит, все присматривался и заметил, что можно пролежать невредимо, если идет паровоз с высокой топкой (но была большая опасность от крючка, висящего на сцепах вагонов). Я, говорит, старался прижаться как можно больше к земле и натягивал рубашку, чтобы крючок меня не задел. В этот момент, говорит, я все забыл, у меня была лишь неудержимая, страстная любовь к жизни”.
По свидетельству Софьи Пановой, со слов Андреева, он “плакал, когда лежал, – так хотелось жить”.
Это был единственный из ряда вон выходящий поступок для вполне еще благополучного гимназиста. Но очень скоро это благополучие закончилось катастрофой.
Смерть отца
Это случилось в мае 1889 года, когда он заканчивал шестой класс и должен был держать экзамены в седьмой. Седьмой класс был старшим, и в него переходили не все. Часть учеников на этом и заканчивали свое обучение. Еще часть, не выдержав строгих экзаменов, оставалась на второй год.
Так случилось и с Леонидом. Причиной тому, как пишет Павел, была именно смерть отца.
Свои переживания Андреев отразил в рассказе “Весной”. Главный герой, молодой человек по имени Павел, решает покончить с собой и ищет способ, как это лучше сделать. Но его упреждает смерть отца, после которой он становится главой семьи.
Везде, в кухне, столовой и спальне, был яркий свет, режущий глаза, и ходили люди. У няньки седые волосы выбились из-под платка, и она походила на ведьму, но глаза краснели от слез и голос был жалостливый и добрый. Павел оттолкнул ее, потом еще кого-то, кто цеплялся за него и мешал пройти, и сразу оказался в кабинете. Все стояло там как всегда, и голая женщина улыбалась со стены, а на полу посредине комнаты лежал отец в белой ночной сорочке, разорванной у ворота. Весь свет от лампы и свечей падал, казалось, только на него, и оттого он был большой и страшный, и лица его не мог узнать Павел. Оно желтело прозрачной и страшной желтизной, и глаза закатились, белки стали огромные и необыкновенные, как у слепого. Из-под простыни высунулась рука, и один толстый палец на ней, с большим золотым перстнем, слабо шевелился, сгибаясь и разгибаясь и точно пытаясь что-то сказать. Павел стал на колени, дрожащими губами поцеловал еще живой, шевелившийся палец и, всхлипнув, сказал:
– Зачем на полу? Зачем на полу?
Кто-то из темноты ответил:
– Вы не плачьте. Он еще останется жив. Он был в клубе, и с ним сделался удар, но он еще останется жив.
Из соседней комнаты послышался вопль, хриплый, клокочущий и неудержимый, как хлынувшая через плотину вода. Пронзительным звуком он пронесся по комнатам, наполнил их и перешел в жалобные слова:
– Го-лубчик мой… Сере-женька!..
Умирающий тихо шевелил пальцем, и хотя лицо было все-таки желто и неподвижно, казалось, что он слышит зовущий его голос, но не хочет почему-то отвечать. И Павел дико закричал:
– Папа! Да папа же!
Наверное, в этой сцене что-то присочинено. Едва ли в кабинете Николая Ивановича висела картина с голой женщиной. В остальном – все верно. Смерть была внезапной, от кровяного удара, и стала полной неожиданностью для семьи. Николаю Ивановичу был всего 41 год. Старшему Леониду – 17 лет. Младшему Андрею – 4 года. Павлу – 11 лет. Всеволоду – 15. Сестрам: Зинаиде – 5, Римме – 7. На руках матери осталось шестеро детей.
Старшего, умирая, отец успел назначить главой семьи.
Конец герцога
Римма Андреева вспоминала, что “через год после смерти отца матери сделал предложение богатый купец, но она отказала”. Возможно, это была ее ошибка.
Со смертью кормильца семья впала в бедность. Сначала пришлось потесниться. “После смерти отца, – вспоминала Римма Андреева, – семья наша занимала лишь меньшую половину большого дома; другую же половину так же, как и отдельную комнату, сдали. Пришлось сдать и флигель-особнячок”.
Но сдача половины дома приносила всего лишь 20 рублей в месяц. Учитывая, что до этого семья Андреевых проживала более тысячи в год, этих денег не хватало даже на пропитание.
В это время Леонид записывает в дневнике: “Наше положение становится окончательно скверным, ссуда из Управы, на которую мы рассчитывали для поправления своих обстоятельств, ухнула, так что нам приходится закладывать сегодня иконы, потому что больше нечего. Иначе завтра голодать придется”. На следующий день другая запись: “К этому нужно прибавить, что я вчера отобрал последние годные книги, для продажи, а то нам есть нечего”.
“Не прошло и двух лет со дня смерти отца, – вспоминал Павел Андреев, – как нами было продано все, за исключением дома, но и тот мы успели заложить. Быстрая ликвидация всего, что осталось нам от отца, объяснялась тем, что Леонид был тогда еще очень молод и не знал совсем жизни; что же касается матери, то она была так далека от суровой реальной действительности, так не приспособлена к ней, что мысли о страшном будущем пришли к ней тогда, когда мы стояли на пороге нищеты”.
На Леонида легли главные заботы о пропитании семьи, и он “с молодой горячностью заваливает себя уроками и всякого рода другой работой, главным образом, рисованием”.
Исключительное отношение к нему родителей вдруг оказалось оправданным его рано пробудившейся талантливостью во всем, что связано с творчеством. Благодаря матери, которая, как говорит Андреев в автобиографии, “держала карандаш в моих руках”, он уже в детском возрасте изрядно рисовал. Сам он об этом, впрочем, вспоминал с юмором:
Натуры я не любил и всегда рисовал из головы, впадая временами в комические ошибки: до сих пор вспоминаю лошадь, у которой по какой-то нелепой случайности оказалось всего три ноги. Всё уже кончил, оттушевал бока, похожие на колбасу, а четвертую позабыл. И только посторонний критический взгляд открыл мне мою позорную забывчивость. И до чего было обидно, прекрасно оттушеванной колбасы никто не заметил, а над ногою все смеялись. Фантазировал я бесконечно: был у меня огромный альбом “рож”, штук триста, и года два или три я провел в мучительных поисках “Демона”.
Но в будущем, не получив никакого художественного образования, он станет талантливым художником-самоучкой, работы которого оценил Валентин Серов.
Пока же рано проявившаяся способность к рисованию в буквальном смысле спасала семью от голода. Частные уроки приносили примерно 15 рублей в месяц за ученика. А вот портреты на заказ купцов, военных, чиновников и их домочадцев давали неплохую прибыль. “Условия мои таковы, – пишет он в дневнике, правда, уже московского периода. – Портрет поясной, почти в натуральную величину. Цена 10 р. Если же дама, и платье у нее с финтифлюшками, то дороже рубля на 2–3”.
Интересно, сколько сохранилось таких “произведений” раннего творчества Леонида Андреева? И сохранилось ли хотя бы одно? Впрочем, едва ли он их подписывал.
Сам он вспоминал об этом с юмором, но на самом деле это была каторжная работа, которую приходилось сочетать с учебой в гимназии.
“Ложился он тогда часа в два-три ночи, – вспоминал Павел Андреев, – не имея ни одного свободного часа. Это была какая-то гонка за все большим и большим заработком, но чтение все же не забрасывал. Вообще, должен сказать, что без книги он никогда не садился за стол, равно как без книги никогда и не ложился спать”.
На этом закончилась жизнь “орловского герцога”. “Не было уже более ни проклятых вопросов, ни мыслей о самоубийстве, которым он так часто тогда предавался”, – пишет Павел Андреев.
И еще с этого времени в душе Леонида поселился страх бедности, который останется в нем навсегда и будет соперничать только со страхом смерти.
Аттестат, ура!
Восьмого июня 1891 года Леонид Андреев из рук директора гимназии Ивана Михайловича Белоруссова получает аттестат зрелости, дающий ему право на поступление в университет. Это открывало дорогу в будущее и возможность вырваться из хотя и милого его сердцу, но все-таки провинциального Орла в одну из столиц – Москву или Петербург.
“Аттестат, ура!” – пишет он в этот знаменательный день своей подруге и первой серьезной любви Зинаиде Сибилевой, тоже выпускнице Орловской гимназии, только женской. Она уже живет в Петербурге и учится на женских курсах.
В целом оценки в его аттестате были не выдающиеся. Но – вполне сносные и для поступления в университет достаточные. Закон Божий – 4, логика – 4, русский язык и словесность – 5, латинский и греческий языки – 3, немецкий язык – 3, физика и математика – 3, история и география – 3. Экзамена по французскому языку он не держал, видимо, не будучи подготовленным.
Но в аттестате была одна дисциплина, не имея отличной оценки по которой о поступлении в Петербургский университет можно было забыть. В Московский – еще можно, а в Петербургский – уже нет. Это была оценка за поведение.
Незадолго до экзаменов он в пьяном виде ночью разбил окна в доме орловца Кутепова[13]13
Согласно воспоминаниям сестры писателя Риммы Андреевой, этот Кутепов был чиновником и снимал с женой флигель самих Андреевых. Он был “в своем роде замечательная личность. Так, например, когда он уходил на службу, то закрывал жену на замок, а форточки замазывал своею печатью”.
[Закрыть], который прилюдно злословил о его отце и самом Леониде. История была местная, “пушкарская”, и могла бы закончиться обоюдным примирением и выплатой денег за нанесенный ущерб. Но Кутепов и его жена подали в суд. Хулигану вменялись не только разбитые стекла, но и буйство с угрозой для жизни, а это уже была серьезная статья. Соответствующая жалоба от Кутеповых поступила и в гимназию, причем как раз накануне экзаменов. Андрееву грозил не только сниженный балл за поведение. Его могли просто исключить из школы перед самым выпуском.
Спас директор гимназии и он же учитель-словесник И.М.Белоруссов. Он выведен Андреевым в рассказе “Молодежь”. Эдакий сухарь и педант, но – добрый человек.
На самом деле этому человеку Андреев обязан своим высшим образованием и возможностью перебраться из Орла в Петербург, а потом – в Москву, где начался его сначала журналистский, а затем литературный путь.
К тому же именно Белоруссов первым отметил писательские способности Леонида. Он неизменно выделял его сочинения среди работ других учеников, что для самолюбивого, но неуверенного в себе юноши было важно.
В книге Николая Фатова И.М.Белоруссову посвящено несколько страниц отзывов о нем его бывших учеников. Так, И.Н.Севостьянов вспоминал: “Его преподавание дальше пересказов своими словами учебников не шло. От учеников он требовал точности, аккуратности, а в сочинениях ставил в первую голову план; на самую мысль и даже на слог обращалось мало внимания; поэтому подаваемые ему сочинения не превышали посредственности, а это и требовалось, главным образом, Белоруссовым”.
Другой бывший ученик В.А.Еловский отзывался о нем тепло, но тоже без восторга: “Человек не злой, он при управлении гимназией заботился только о своих интересах и никогда не раздувал, а всегда старался затушить всякие «истории»”.
Неизвестно, по каким причинам директор постарался “затушить” историю с битьем стекол у Кутеповых. Сначала, как пишет Леонид Сибилевой, он как раз предлагал ему “выйти из гимназии”. Это было бы катастрофой для семьи. После смерти Николая Ивановича она могла рассчитывать только на Леонида, на то, что он закончит университет и найдет работу с приличным заработком. И если бы, как пишет Андреев в письме к своей возлюбленной, было бы доказано, что буйство он совершил в пьяном виде, из гимназии его бы непременно “выперли”.
Обошлось! Суд приговорил к 20 рублям штрафа. А то, что в аттестате за поведение он получил 5, это уже было доброй волей директора гимназии.
Письмо к Сибилевой он, предвосхищая будущее, гордо подписывает: “Твой студент Петербургского Императорского Университета, Леонид Андреев”.
На этом можно было бы закончить историю с учебой Андреева в гимназии. Но обратимся к судьбе его спасителя – Ивана Михайловича Белоруссова.
Судьба человека
Сегодня это почти забытое имя в истории российской педагогики. Но когда-то оно было весьма известным. Статью о нем можно прочитать в “Вестнике Череповецкого государственного университета” за 2020 год (№ 2). Ее автор – профессор Вологодского государственного университета Г.В.Судаков.
Иван Михайлович Белоруссов родился 1 июня 1850 года в многодетной семье сельского дьякона. Сведения о месте его рождения расходятся, но со слов его самого, переданных его знакомым писателем Иваном Шмелевым, он родился в Усть-Сысольском[14]14
Усть-Сысольск – ныне Сыктывкар.
[Закрыть] уезде Вологодской губернии.
Закончил духовную семинарию. Чтобы поддержать многочисленную семью, уже на четвертом курсе преподавал арифметику и Закон Божий в народном училище у себя на родине. Затем учился в Санкт-Петербургском историко-филологическом институте, основанном в 1867 году для подготовки учителей древних и новых языков, истории, географии и словесности. В 1875 году был назначен преподавателем русской словесности и латинского языка в Архангельской мужской гимназии и одновременно работал редактором неофициальной части газеты “Архангельские губернские ведомости”. В Архангельске же начинается его научно-педагогическая работа и выходит первая книга – “Учебник теории поэзии”.
В 1878 году в Архангельск приехал министр народного просвещения граф Д.А.Толстой. Он оценил молодого учителя и назначил его наставником-руководителем в историко-филологический институт в Нежине (ныне Украина). Затем он был переведен в Орел, где с 1884 по 1897 год служил директором той самой гимназии, которую закончил Леонид Андреев. Был членом Орловской ученой архивной комиссии и товарищем председателя Орловского церковно-историко-археологического общества, в сборниках которого выступал как автор и редактор.
Выйдя в отставку, до 1911 года жил в Орле, продолжая участвовать в его школьной жизни. Был председателем педагогических советов двух женских гимназий, руководил преподаванием русского и церковнославянского языков для учителей церковно-приходских школ.
Он был автором классического “Учебника по русской грамматике”, который впервые вышел в Нежине в 1883-м, а затем выдержал множество переизданий.
Ему принадлежали “Учебник теории словесности” (1880) и пособие “Чтение и разбор литературных образцов в средних учебных заведениях”, а также книги для учителей “Учебно-педагогические заметки” и “К литературе о Пушкине”. Его статьи выходили в специальных изданиях, в том числе – в “Журнале министерства народного просвещения”.
Как общественный деятель он исповедовал монархические взгляды и состоял членом орловского “Союза законности и порядка”, который был создан при поддержке властей и Церкви. Это аукнется ему после революции.
В 1909 году приобрел дачу в Крыму, в Алуште, где собирался завершить главный труд своей жизни – создание Словаря языка М.В.Ломоносова. За предварительную работу, а это было 7 000 готовых карточек и 2 500 незаконченных (одна карточка равнялась примерно одной словарной статье), он получил премию Академии наук в размере 1 000 рублей.
Но случилась Первая мировая война, а потом Октябрьская революция. Его дом в Орле с большой библиотекой и капитал в банке были конфискованы. Во время Гражданской войны в Крыму его едва не расстреляли. Потом он страшно бедствовал и голодал. Иван Шмелев, которому он помог найти дачу в Крыму, описал его жизнь в романе “Солнце мертвых”. Жительница Алушты говорит герою – автору романа:
Встретила вчера на базаре Ивана Михайлыча… бредет в своей соломенной широкополке, с корзиночкой, грязный, глаза гноятся… трясется весь. Гляжу – лари обходит и молча кланяется. Один положил раздавленный помидор, другой – горсточку соленой камсы. Увидал меня и говорит: “Вот, голубушка… Христовым именем побираюсь! Не стыдно мне это, старику, а хорошо… Господь сподобил принять подвиг: в людях Христа бужу!..” Еще силу находит, философствует… А когда-то Академия наук премию ему дала и золотую медаль за книгу о Ломоносове!
В январе 1922 года Иван Шмелев обратился к писателю Константину Треневу, который служил работником Крымского отдела народного образования: “Решительно заклинаю Вас! Спасите умирающего с голоду старика Ивана Михайловича Белоруссова… Позор!
Старика выгнали из Наробраза! Издевались! Старик побирается по базару. Собирает с пола булочные крошки с грязью и варит. Я не могу ему ничего дать. Завтра отнесу последнее. И заметьте, старик, ему 72 года, – он бывший учитель Л.Андреева, директор Орловской гимназии, когда-то богатый человек, не имеет ни клочка белья, не имеет платья!”
Но помощь была уже не нужна. Той же зимой Белоруссов скончался в Алуште.
Умер старик вчера – избили его кухарки! Черпаками по голове били в советской кухне. Надоел им старик своей миской, нытьём, дрожаньем: смертью от него пахло. Теперь лежит покойно – до будущего века. Аминь. Лежит профессор, строгий лицом, в белой бородке, с орлиным носом, в чесучовом форменном сюртуке, сбереженном для гроба, с погонами генеральскими, с серебряной звездочкой пушистой – на голубом просвете.
“Солнце мертвых”
Своего бывшего ученика Леонида Андреева, скончавшегося в финской эмиграции в сентябре 1919-го, старый учитель все-таки пережил на два с половиной года…






























