Текст книги "Леонид Андреев: Герцог Лоренцо"
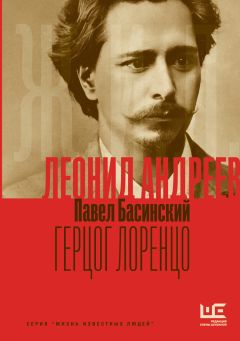
Автор книги: Павел Басинский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Святое беспокойство
Мать писателя Анастасия Николаевна Андреева (в девичестве Пацковская) представляла собой полную противоположность его отцу. Возможно, поэтому личность Леонида словно распадается на две части. Человек недюжинной работоспособности, расчетливый в издательских делах, но склонный к запоям и скандалам, он в то же время вспоминался современниками как человек исключительно мягкий и добросердечный, отзывчивый на дружбу и к тому же природный фантазер, любитель схватывать на лету разные “истории” и талантливо развивать их.
Первая личность была от отца, вторая – от матери.
В семье ее называли Рыжиком, хотя рыжей она не была, обычная шатенка. Были и другие домашние прозвища: “Топтун-Шептун”, “Рыжий дьявол”, “Соломон с Горбатого моста”. Они появлялись в зависимости от причуд ее поведения и менялись на протяжении всей ее жизни, неотделимой от жизни ее старшего сына. Сам Андреев говорил о ней: “святое беспокойство”.
Мать сыграла в жизни писателя огромную и продолжительную роль. Причем роль исключительно благотворную.
Ее видели рядом с ним всегда. И когда они жили в бедности, и когда – в богатстве. В Орле, в Москве, в Петербурге, за границей. На Капри и в Финляндии.
И сама она пережила его всего на два года, потому что без сына жизнь лишилась для нее смысла.
О происхождении Анастасии Николаевны мы знаем чуть больше, чем о родословной отца, но тоже мало и тоже в основном по семейным преданиям. В семье считалось, что она из обедневшего польского дворянского рода. Чуть ли не графского. Старший сын Андреева Вадим в своих воспоминаниях пишет, что брат бабушки Николай Николаевич Пацковский подумывал хлопотать о восстановлении графского титула, но отказался по причине слишком дорогой цены за услугу – 4 000 рублей.
В семье ее почему-то называли “поповной”. Считалось, что она была дочерью православного священника. Что не очень вяжется с версией о польско-дворянской и, следовательно, католической родословной по отцу. Биографы Андреева Людмила Кен и Леонид Рогов предположили, что из семьи священника была мать Анастасии Николаевны. Ее отец-поляк женился на дочери русского попа, отсюда и пошло – “поповна”. Это согласуется с тем, что Анастасия Николаевна была малограмотна и училась только в церковно-приходской школе. Она писала с чудовищными грамматическими ошибками.
Вот отрывок из ее позднего письма из Финляндии своей родственнице Софье Дмитриевне Пановой:
Милоя моя Соничка прасти что долга тебя неписола приехоли мы хорошо дома всех зостоли здоровыми неделя прашла не зометна а потом была горя Ленуша очень сильна прастудился так что боялись что б небола восполенья легких бронхит уже ночолся неделю была температура 39 и 4 деся и утром и вечером сночола его лечил доктор здешнй и потом привизли с петербурга которой ночевол у нос успокойл что восполенья легких нет и не будить но конечно радости нашой конца не бола но выздоровления его идеть очень скверно вот уже больши недели кок он встол чувствуйть себя очень не хорошо нервы слобость опять был Доктор теперь он сейчос в петербурги только что он встол это была понедельник как наша Анно ильйнешна обявила что она чувствуйть себя не хорошо…
Замечательно, что в этом письме, где нет почти ни одного грамотно написанного слова, ни одного знака препинания и ни одной прописной буквы в начале предложения, прекрасно передана атмосфера дома, где все вдруг разболелись.
Этот талант матери не без юмора признавал и ее старший сын. В письмах к ней он любил подшучивать над ее неграмотностью, но в то же время ценил литературное своеобразие ее “крючочек”.
Вот его письмо матери из Вамельсуу во время одной из нечастых разлук с ней:
Светлейший мой рыжикончик!
Твои письма – образец вместительности. При полном отсутствии знаков препинания слог твой краток, силен и в то же время богат подробностями и чисто стилистическими украшениями. Минутами ты напоминаешь Шекспира в лучшие его минуты, но чаще уподобляешься Гомеру в его величавом эпическом спокойствии. По содержанию же – каждое письмо твое неисчерпаемо и разнообразно, как энциклопедический словарь Эфрона. Все, что волнует мир, находит для себя богатое отражение в твоих трудах, вмещаясь иногда только в одной или двух каракулях.
Анастасия Николаевна писала неграмотно, но читала много, как и отец Андреева. Вообще в провинциальной среде чтение было чуть ли не единственным развлечением для домохозяек, заменяя им карты и биллиард, которыми после службы увлекались их мужья.
“Насколько отец смотрел на жизнь ясными и трезвыми глазами, настолько для матери жизнь была полна загадок и чудес, – утверждает Павел Андреев. – Она любила всякого рода сказки, фантастические рассказы, небылицы и в конце жизни зачитывалась такими писателями, как Конан Дойл и Понсон дю Террайль…”
Забытый ныне французский писатель XIX века Понсон дю Террайль был создателем персонажа-авантюриста по имени Рокамболь. “Рокамболь” на французском означает “чесночный лук”. Это имя стало нарицательным для любого разбойника и мошенника. В то же время “рокамболь” – одна из старинных карточных игр и один из самых сложных приемов игры в бильярд – рикошетом шара по нескольким бортам.
В России серия романов о Рокамболе была невероятно популярна во второй половине XIX и начале ХХ века. Чтение этих переводных книг среди людей высокообразованных считалось признаком дурного вкуса, но увлечение ими в провинциальной среде было легко объяснимым.
Впрочем, в любви к романам Понсона дю Террайля признавались и некоторые известные писатели – Валерий Брюсов, Максим Горький, Самуил Маршак и Варлам Шаламов. В “Рассказах о детстве” Шаламов вспоминал, как был наказан своим отцом-священником за чтение “Похождений Рокамболя”: “Я был тут же выдран за уши. Мне было запрещено приносить Рокамболя в квартиру, квартиру – где, подобно Рокамболю, изгонялся Пинкертон[4]4
Герой-сыщик из серии популярных в начале ХХ в. романов анонимного немецкого автора, прототипом которого послужил реальный американский детектив Алан Пинкертон.
[Закрыть] и Ник Картер[5]5
Герой-сыщик из популярной в начале ХХ в. серии дешевых американских “романов с продолжением”.
[Закрыть] и пользовался почетом Конан Дойль. Конан Дойль, конечно, был получше Понсон дю Террайля, но и Понсон дю Террайль был неплох. Рокамболя же мне пришлось дочитывать у кого-то из товарищей”.
Герой-авантюрист прочно поселится в произведениях самого Андреева: “Тьма”, “Савва”, “Иуда Искариот”, “Сашка Жигулев”… Другое дело, что его герои пускаются в приключения не ради наживы или самой игры, а движимые “горячей” идеей, подобно персонажам Достоевского. Они авантюристы не столько по своим поступкам, сколько по своему протестному отношению к миру. Их задача не обмануть мир, а “взорвать” его. Иногда – в буквальном смысле, как в пьесе “Савва” с ее героем-“бомбистом”.
Прозаик Викентий Вересаев описал Анастасию Николаевну так: “Мать – типичнейшая провинциальная мелкая чиновница. В кофте. Говорит: «куфня», «колдовая», «огромадный»; «Миунхен» вместо «Мюнхен». На Капри томится”.
Иначе писал о ней ее сын Павел: “По природе была веселая, живая, но иногда в недоумении и страхе останавливалась перед картинами, созданными ее же фантазиями. А к концу жизни – жизнь стала для нее сплошной загадкой, полной всяческих ужасов и страхов”.
Интересно, что, если в этом описании поменять женской род на мужской, мы получим психологический портрет… Леонида Андреева. Именно таким его вспоминали Максим Горький и Борис Зайцев – как веселого и жизнерадостного по природе человека, но испуганного собственными мрачными фантазиями.
Павел Андреев утверждал, что мать была талантливой рассказчицей: “Рассказывала изумительно красочно, образно, ярко. Рассказ любила прикрашивать и к былям прибавляла несчетное число небылиц. Правда в ее рассказах так переплеталась с выдумкой, фантазией, что невозможно было отделить одно от другого. И это сплетение правды с фантазией и было ее действительной реальной жизнью”.
В биографической справке 1910 года Леонид Андреев писал:
Я плохо знаю моих восходящих родных: большинство из них умерло, либо безвестно затерялось в жизни, когда я был еще маленьким. Но насколько могу судить по тем немногим данным, которые дало мне наблюдение, мое влечение к художественной деятельности наследственно опирается на линию материнскую. Именно в этой стороне я нахожу наибольшее количество людей одаренных, хотя одаренность их никогда не поднималась значительно выше среднего уровня и часто, под неблагоприятными влияниями жизни, принимала уродливые формы. Бескорыстная любовь к вранью и житейскому вредному сочинительству, которой иногда страдают обитатели наших медвежьих углов, часто бывает неразвивавшимся зародышем того же литературного дарования.
Анастасия Николаевна что-то предчувствовала в судьбе ее первенца. Леонида она любила гораздо больше остальных детей – Павла, Риммы, Всеволода, Зинаиды и Андрея. После Леонида она родила девятерых, но половина ушли из жизни младенцами.
В то же время в этой любви было что-то ненормальное. Например, она панически боялась за его жизнь. Павел Андреев вспоминал, что, когда Леонид с другими детьми шел купаться на реку, мать отправлялась с ним, “веревкой привязывала его за ногу или за талию, как поросенка, и тогда только пускала его в воду; но тотчас же тянула обратно за веревку, когда Леонид, как ей казалось, уходил очень далеко. А река-то в том месте была что ручеек, и все мальчишки вброд, по щиколотку переходили ее”.
В этой веревке есть что-то символическое. Какая-то незримая связь, как пуповина, связывала Андреева с его матерью на протяжении всей жизни, даже когда ее не оказывалось рядом. Порой она спасала его от смерти. Во время учебы в Петербурге Андреев всерьез думал о самоубийстве. И вот его запись в дневнике в ночь с 21 на 22 октября 1891 года:
Одна только мать удерживает от самоубийства… Жалко мне маму. Бедная она бедная. Ждет меня не дождется, одна, небось, меня теперь во сне видит. Ну, как убить себя? Дождалась, – привезли сына холодного, мертвого. Нет больше сына. Нет больше и жизни. И ради кого убью я эту бедную несчастную, больную маму? Я не могу, не могу.
Сестра Римма приводит рассказ брата о том, как в Петербурге, устав от безденежья, голодный, он пошел к Неве, чтобы утопиться, но вспомнил, что ждет письмо от матери. Вернувшись он увидел конверт, в который было вложено три рубля.
Тема потери любимого сына станет ключевой в творчестве Андреева. Она появится в двух его главных произведениях – “Жизни Василия Фивейского” и пьесе “Жизнь Человека”, а также в пронзительном по трагизму рассказе “Великан”.
В его обширном эпистолярном наследии письма к матери занимают особое место.
Пятьдесят лет, знаешь, это немало, а мы с тобой почти 50 лет вернейшие друзья, начиная с Пушкарной и кончая холодными финскими скалами. На твоих глазах я из Кота в сапогах и узляка[6]6
В Орловской губернии так называли младенцев, завернутых в пеленки.
[Закрыть] превратился в российского писателя, пройдя через пьянство, нищету, страдание; на моих глазах ты из молоденькой женщины стала “бабушкой”, также пройдя сквозь страдания, нищету и проч. И что бы не было с нами, куда бы ни заносила нас судьба, высоко или низко – никогда мы не теряли с тобой самой близкой душевной связи. Приходили и уходили люди, а ты всегда со мной оставалась, всё та же – верная, неизменная, единственная. Я знаю хорошие семьи, где существуют хорошие отношения между родителями и детьми, матерью и сыновьями, но таких отношений, как у нас с тобою, я, по правде, не встречал.
Конец жизни Анастасии Николаевы сложился трагически. Она пережила большинство своих детей.
В 1905 году умерла дочь Зинаида, в 1915-м ушел из жизни сын Всеволод, а в годы Гражданской войны пропал без вести самый младший Андрей. Но ни одно из этих печальных событий не отразилось на ней так, как смерть ее любимого сына Леонида. Так случилось, что именно в этот момент ее не было рядом с ним…
Когда она узнала о его смерти, она сказала: “А я думала, что он бессмертный”.
Любимчик
Детство Андреева до смерти его отца было абсолютно счастливым. Но в его произведениях мы почти не найдем картин счастливого детства, как находим их в творчестве С.Т.Аксакова (“Детские годы Багрова-внука”), Л.Н.Толстого (“Детство”), И.С.Шмелева (“Лето Господне”), А.Н.Толстого (“Детство Никиты”). И даже развернутых картин ранних лет жизни, пусть и тяжелых, как в повести Горького “Детство”, мы не найдем. То ли они не оставили в его памяти ярких воспоминаний, то ли сама его творческая природа противилась тому, чтобы переносить их на бумагу.
Но может быть и третье объяснение, которое представляется наиболее вероятным. После смерти отца и обнищания семьи жизнь Леонида, на которого упала главная забота о близких, была столь горька, что раннее детство виделось ему только прелюдией к этой жизни. В этих счастливых годах было что-то заведомо роковое.
В рассказах Андреева дети – не обеспеченные мальчики, баловни родителей, каким он сам был до шестого класса гимназии. Это забитые нуждой, несчастные существа. Если им и перепадает радость, как в рассказах “Ангелочек” или “Петька на даче”, то очень ненадолго, и заканчивается это всегда плохо. Восковой ангелочек с новогодней елки растает на печке, а кухаркиного сына Петьку заберут с чудесной дачи и вернут в парикмахерскую, где его опять будут бить и заставлять работать, где он будет ночевать в темном углу с таким же, как он, мальчишкой из бедной семьи.
Если и появляется в прозе Андреева барчук, которому ни в чем не отказывают родители, как в рассказе “Алеша дурачок”, то и он не будет счастливым. Перед его глазами вечным укором будет стоять этот Алеша, а Алешу опять-таки все бьют, отнимают у него деньги и тому подобное. В рассказе “Валя” ребенок живет в обеспеченной семье, но у приемных родителей. Родная мать бросила его ради любовника. В конце концов она заберет его, но это будет насилием по отношению к сыну, и совсем, совсем не в радость…
А в более позднем рассказе “Жизнь Василия Фивейского” один ребенок утонет в реке, а второй родится уродом и ничего кроме несчастья родителям не принесет…
Почему же писатель, чуткий к детской психологии и умевший прекрасно ее отображать, не позволял своим маленьким героям радоваться жизни, любить родителей и быть любимым, как было в раннем детстве самого Андреева? Это остается загадкой его творчества.
Леонида в семье любили решительно все.
Самое удивительное – отношение к нему отца, который успел застать его только ребенком и подростком. Брат Андрей вспоминал:
Как-то я сказал Леониду: – Как мне обидно за отцов, которые умерли, когда их сыновья – будущие писатели – еще дети. Отец Толстого умер, когда Левочке было всего 9 лет. И он даже не подозревал… Как жалко, что наш отец умер так рано.
Леонид ответил так:
– Не совсем так. Отец будущность мою предвидел настолько, что я считаю его первым поклонником своего таланта. Не могу сказать, в чем это выражалось явно, но отец как-то выделял меня среди других, и не только одною любовью. Обычно самовластный, резкий, он был со мною уступчив, почти вежлив; какая-то тень почтительности и уважения проскальзывала в его ко мне отношениях…
И если бы он сейчас воскрес и увидал бы, что есть, он нисколько не удивился бы. Скорее даже, что он отнесся бы так: только-то? – я ожидал большего.
Но молодой Андреев однажды задумался, насколько это семейное обожание было благотворным для его воспитания. Вот запись в его раннем дневнике:
Из меня всеми возможными способами готовили барича, удовлетворяя мои самые вздорные желания и отнимая всякий повод к самостоятельному достижению чего бы там ни было. Мой характер проявлялся в капризах. И теперь капризы заменяют характер. Не встречая никогда отпора в своих желаниях, я при первом же мало-мальски серьезном препятствии, не имея ни малейшей подготовки к нему, должен был позорно сложить оружие, которым оделила меня природа. Все вело меня к этому: репетиторы, без которых я не мог и шагу сделать, и удача, сопровождавшая мои первые шаги на жизненной арене.
Все меня любили, и родители гордились и восхищались мною, показывали меня для той же цели знакомым, заставляя или распевать Пушкарские песни, которые я, восьмилетний мальчуган, знал в невероятном количестве, или показывать свои рисунки, действительно порядочные для моего возраста. Моя изумительная страсть к чтению, благодаря которой я восьми лет стоил пятнадцатилетнего, удовлетворялась самым беспорядочным и вредным образом.
Возмужавши раньше времени умственно, я узнал потребности, которых не мог удовлетворять, будучи еще ребенком, и должен был всецело положиться на взрослых… Выйдя из детства и вступив в жизнь совершенно не подготовленным к той борьбе, которая составляет самое ядро, самую квинтэссенцию жизни, я на первых же порах должен был упасть духом, не имея силы для преодоления самого паршивого препятствия, а вместе с тем обладая привычкой к скорейшему и обязательному исполнению всех своих желаний.
Вождь краснокожих
Но вернемся в его ранние годы. О характере маленького Андреева остались противоречивые свидетельства. Сам он в разговоре с писателем и критиком Василием Брусяниным говорил, что был “оптимистом до 10 лет”. Но с детского портрета на нас смотрит мальчик с очень серьезным и печальным взглядом. По словам матери, Леонид “уже в детстве был очень серьезным”.
“С детских лет характер Андреева поражал неровностью”, – пишет Николай Фатов. А двоюродная сестра писателя Зоя Пацковская вспоминала:
“Помню его лет с 5-ти, с того времени, как помню и себя. Ребенком он или шалил так, что “хоть святых вон выноси”, или же сидел и читал, читал все подряд, что ни попадется, но особенно любил приключения и путешествия – Майн Рида, Жюля Верна и т. п. Увлекался необычайно индейцами…”
Именно из-за его любви к индейцам дети Андреевых и Пацковских часто играли “в краснокожих”. Вождем племени был, разумеется, Леонид.
“Однажды собрал всю нашу компанию, было нам всем лет по 8–10, велел всем раздеться догола, вымазал нас всех глиной, вывалял в перьях, которые повыдергал из кур, и стал подготовлять нападение. Сказал, что белые близко, что мы должны напасть на них, и тогда, говорит, «попируем». У нас в это время были гости, очень много народу, и все сидели в беседке, пили чай. Леонид велел нам тихо подползать; мы ползли, ползли, не дышали, боялись его ослушаться – что бы он ни велел, мы всё беспрекословно исполняли, – окружили беседку. Наконец, Леонид с гиками бросается на гостей, и мы все за ним. Среди гостей была одна дама в интересном положении, с которой сделался обморок от страха, да и все гости от неожиданности сильно перепугались. Леонид был очень доволен произведенным эффектом, но отец на него страшно рассердился и хотел его высечь. Тогда Леонид убежал и залез на дерево. И никакие уговоры не могли заставить его сойти. Говорил: «скорее умру с голоду, чем сдамся». Он считал себя предводителем шайки краснокожих, и всякое малодушие для себя считал позором. Так его и простили”.
В этой, на первый взгляд, забавной детской шалости останавливают внимание три момента. Первый – с каким хладнокровием 8–10-летний мальчуган вырывает перья у живых кур. Второй – до какой же степени он был избалован своими родителями, если мог вовлечь других детей в такую шалость и не бояться при этом сурового наказания. И наконец, так мог вести себя не просто баловень, но прирожденный подростковый лидер, уверенный в том, что его сверстники будут беспрекословно исполнять его волю.
“В другой раз, – вспоминала Зоя Пацковская, – помню, увел он нас на богомолье, в Киев. Мы жили на даче, недалеко от Орла, и около нас по большой дороге часто проходили богомольцы с котомками в Киев. И вот нарядил Леонид всю нашу братию богомольцами, заставил разуться, взял палки, узелки и повел, но… вместо Киева привел нас в Орел, и мы явились к Андреевым; никто нас, конечно, не ждал, тем более в таком виде, все тоже пришли в ужас, и ему опять за это сильно попало”.
Судя по этим воспоминаниям, Андреев в детстве отличался бойким и веселым характером. Заводила во всевозможных играх, выдумщик, он уже тогда имел склонность к “театральности”, в чем угадывается представитель нового театра начала ХХ века.
О любви брата ко всякого рода “представлениям” вспоминал и Павел Андреев. Он видел в этом влияние матери:
“Обладая большой творческой фантазией, красочностью рассказа, она и детскую жизнь Леонида наполнила самым фантастическим миром, миром сказок, подвигов героев. Поэтому детская, когда Леониду исполнилось 4–5 лет, уже перестала удовлетворять его – ему было в ней тесно; игрушки мертвы и неинтересны. Вся квартира стала его полем действия. Не было ни одного предмета во всех комнатах, который он оставил бы в покое, кроме разве тех, которые он сам не в состоянии был сдвинуть с места, да и тем отводил место в своих играх. А в летние дни он имел целые армии рыцарей из мальчишек с улицы, с которыми и совершал разные героические подвиги. Играми же всегда руководил сам и на груди всегда имел знаки отличия. И костюмы его были самые фантастические. Были рыцарские костюмы, с латами и шлемами, с кавказскими кинжалами и серебряным поясом. Были зеленые, синие, красные и шитые серебром и золотом всякого рода шапки, маски, пики”.
В то же время, вспоминала Зоя Пацковская, “иногда, даже на маленького, на него находило мрачное настроение, тогда – лучше не подходи! То же было и когда вырос. В хорошем настроении он бывал весел, что называется, душа общества, постоянно шутил, веселил всех, выдумывал разные истории, но вдруг становился мрачным, и тогда уже уныние на всех напускал, так что становилось прямо неприятно. Иногда он и уходил в таком состоянии из общества, чувствуя, что становится всем в тягость. А когда весел, – то остроумен, интереснейший собеседник. И любил компанию. Любил также всякий спорт – кататься на коньках, на лодке, на лыжах”.
Вместе с унаследованными от матери творческими способностями он, как и его отец, отличался физической силой и ловкостью, что было важно для мальчика, росшего в Пушкарской слободе среди “проломленных голов”. Слобода считалась не самым захудалым районом Орла, но нравы здесь царили самые простые. В воспоминаниях Павла Андреева подробно описывается жизнь 2-й Пушкарной улицы:
“Улица эта находилась на самом краю города и трудно была проходимой от сугробов снега зимой, осенью – от грязи. Зато весной она покрывалась вся зеленым ковром, по которому в большом количестве бродили куры, гуси, свиньи. И с этого же времени вплоть до глубокой осени жители этой улицы все свое свободное время проводили на ней. Это было горячее и живое время года, длившееся ровно шесть месяцев. Здесь можно было видеть похоронные и свадебные процессии, драки, набеги на чужие огороды и сады. Бунты «гожих»[7]7
Непонятно, кого имел в виду Павел Андреев. “Гожий” – устаревшее от “годный”, “пригодный к работе”.
[Закрыть] и всякие непристойные сцены. Народные праздники, как например, «Мокрый спас», когда все поливали друг друга водою, опускали на веревках в колодцы, когда парни загоняли в костюмах целые партии девушек в реку. Разные семейные сцены, любовные и нелюбовные, вплоть до ссор и драк между супругами. А вечерами игра на гармониках, хороводы”.
В Пушкарской слободе была и своя этика. Здесь презиралась трусость, нельзя было бить лежачего, и здесь не любили богатых. При этом сами Андреевы, как и их родственники Пацковские, бедными не были, но и богатыми их считать тоже нельзя. Все немалое жалование Николая Ивановича тратилось на нужны многочисленной семьи, и никаких сбережений на “черный день” не оставалось. Когда глава семьи неожиданно умер, у Андреевых не было ничего, кроме заложенного дома.
Презрение пушкарей к богатым проявлялось своеобразно. Их определяли по внешнему виду, а не по реальному содержимому их кошельков. Судя по воспоминаниям Павла Андреева, это была скорее нелюбовь к городским щеголям, случайно забредшим в Пушкарскую слободу. Как если бы житель центральной части Москвы XIX века забрел в Замоскворечье.
“Между прочим, – пишет Павел, – нелюбовь к «барину», к его пиджаку, белым перчаткам, к белому, накрахмаленному, с галстуком, воротничку доводила ребят этой улицы до неистовства. Попробуй пройти в то время по этой улице такой «барин»! Да его запылят, забросают камнями, засмеют. И странно, этот пиджак с его обязательным белым накрахмаленным воротничком так и не пристал в будущем к Леониду. Брюки, рубашка темная с отложным воротником – вот обычный костюм его, которому он не изменял никогда”.
Это не совсем верно. Вторым “имиджем” Андреева, когда он уже был известным писателем, стала темная бархатная куртка. Но есть его фотографии и в костюме с белой сорочкой, и с накрахмаленным воротничком. Правда в том, что классический Андреев, как мы его обычно представляем, действительно не похож на “барина” и “интеллигента”. Народная рубашка, белая, расшитая на украинский манер, или красная, подпоясанная ремешком, или бархатная куртка “художника” – вот его привычный внешний облик. А насколько это можно считать подлинно народной чертой – такой же спорный вопрос, как народность “толстовки” Льва Толстого.









































