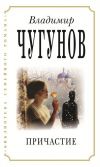Текст книги "Квадратное время"

Автор книги: Павел Дмитриев
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Кого тут только не было: полдюжины профессоров, преподаватели вузов, инженеры – химики, электрики, геологи, механики, путейцы; ученые, многие с мировым именем, архитекторы, историки, археологи, музееведы, музыканты, офицеры армейские и флотские, наконец, много людей духовного звания.
По вечерам устраивались лекции на темы типа «Промысловые рыбы северных морей», «Производство стекла», «Что такое благодать Святого Духа», «Нержавеющие стали», «Современный взгляд на строение материи», «Анализ трагедии Гете «Фауст», «Восстание четырнадцатого декабря со стратегической точки зрения», «На каком языке разговаривали Адам и Ева в раю», «Родословная Козьмы Пруткова». Причем лекции читали лучшие в мире специалисты своего дела!
Излишне упоминать, что мои знания на таком фоне выглядели, мягко говоря, неказисто. Пришлось заняться фантастикой в прямом смысле. А именно, как дошла очередь – часа три подряд рассказывать о компьютерах двадцать первого века, полупроводниках, интернете и прочих чудесах.
Следователи, похоже, про меня просто забыли. По крайней мере, мой первый допрос оказался и последним. Поначалу я переживал, казалось, чего уж проще: одна-единственная очная ставка с другими скаутами – и все, моя невиновность полностью доказана! Исчезнет опасный для социализма Обухов, появится несчастный молодой человек, потерявший память от удара по голове при аресте, которого вроде как нет ни малейших оснований держать в тюрьме, а совсем наоборот – необходимо срочно отправить в больницу на лечение. А уж там-то мне наверняка подвернется возможность продемонстрировать свою безопасность для окружающих, выбраться на волю и получить наконец обратно в свои руки неосмотрительно спрятанный смартфон. После чего честно исполнить долг перед партией и народом, то есть обратиться в соответствующие инстанции с нормальными доказательствами из будущего.
Однако полдюжины писем-просьб к следователю остались без всякого ответа! Как и несколько жалоб в вышестоящие инстанции…
Несмотря на это, я не особенно волновался – происходящее по-прежнему напоминало навороченный квест, и в глубине души я пребывал в полной уверенности, что в липовом насквозь деле «скаута Обухова» рано или поздно следствие или суд разберутся, а меня – выпустят.
Все же двадцать седьмой год – совсем не тридцать седьмой, я твердо помнил из учебников, что в это время никаких особых репрессий не происходило. Наоборот, на воле – разгар НЭПа, в многочисленных кабаках и ресторанах вполне свободно жируют с ананасами и рябчиками самые настоящие буржуи, живут и работают многочисленные специалисты, открыты представительства иностранных компаний, зарубежные журналисты, как говорят, совершенно свободно ездят по стране.
Особенно меня успокаивал тот факт, что никто не выбивал из меня самого главного, королевского доказательства, которое постоянно фигурировало в книгах и учебниках про громкие процессы конца тридцатых годов, а именно – собственноручно написанного и подписанного признания вины. Если уж знаменитых большевиков мордовали ради этой малости смертным боем, до кровавых клякс на страницах протоколов, то меня-то точно не пощадят…
Разумеется, если кому-то на самом деле нужно сделать из меня Обухова. А если нет, то придется просто ждать, пока чертовски неповоротливая чекистская бюрократия не обнаружит полного отсутствия улик и любых иных доказательств да не выпихнет меня обратно на промерзшие улицы Петербурга…
Но дни шли, и я все больше втягивался в тюремную жизнь, тем более что у меня нашлось чем занять свободное время. А именно – учебой. И ведь было чему! Редкий из моих соседей-заключенных не говорил свободно на двух, трех, а то и более языках. Мой же университетский английский, который я ранее полагал очень неплохим, на поверку оказался до неприличия ужасен.
За повышение образовательного уровня «изобретательного вьюноши со странными фантазиями о будущем в голове» с великим рвением взялся чудесный человек, профессор филологии Кривач-Неманец – седой как лунь, но сохранивший блестящий разум чех лет семидесяти пяти. До тюрьмы он служил переводчиком в комиссариате иностранных дел, поэтому обвинялся в шпионаже в пользу международной буржуазии – всей сразу, надо полагать. По части языков он был экстраординарный специалист: бегло говорил на нескольких десятках, включая китайский, японский, турецкий и, естественно, все существующие европейские. Мне стоило большого труда убедить эдакого полиглота, что кроме шлифовки наречия Шекспира мой бедный мозг сможет вместить в себя максимум немецкий и французский. Он-то по доброте душевной готовился преподавать вдобавок к ним греческий и латынь, чтобы вышло «не хуже, чем в старой доброй гимназии»{29}29
С начала XIX в. древние языки активно вытеснялись из гимназий, по состоянию на 1917 г. греческий преподавался только в одной на всю Российскую империю. С латинским дело обстояло лучше, но ненамного.
[Закрыть].
Все равно мало не показалось: профессор подговорил сокамерников, и более со мной на родном языке никто не разговаривал. Книг на русском читать не давали, разве что газеты, глаза бы мои их не видели. Какая там вялость? Какое безразличие? Мелкая тюремная суета – очередь к шкафу с посудой, к котлу с кашей – все ненужное, глупое и досадное шло за отдых. Вечерние лекции и минимальная физкультура воспринимались как настоящий праздник. Зато прогресс в обучении не сравнить с университетским: более-менее общаться с сокамерниками на иностранном языке я начал уже к лету, а к зиме мог похвастаться свободным английским, очень недурным французским и сносным немецким. Ближе к новому тысяча девятьсот двадцать восьмому году я всерьез начал подумывать прихватить чуток испанского, но…
Перемены в советских тюрьмах, как правило, внезапны и пессимистичны. Хотя надо признать, в годовщину моего провала в прошлое вечер начинался вполне весело и беззаботно. Случилась неожиданно бурная перепалка на «языке любви» между паном Феликсом – обычно чрезвычайно учтивым и опрятным польским ксендзом, умудрявшимся поддерживать в достойном состоянии свою обносившуюся сутану, – и отцом Михаилом, примерно столь же скромным и аккуратным православным священником. Кто бы мог подумать, что они разругаются чуть не до пошлой драки? И все из-за предков, как оказалось, бившихся смертным боем во времена Польского восстания!
Весело разнимали, а потом увещевали всей камерой.
Затем мы провожали на волю Штерна, австрийского подданного. Еще в тысяча девятьсот двадцать третьем году он и двое товарищей заключили с одним из петроградских заводов годовой договор в качестве специалистов по лакировке кожи. Хотя условия в СССР им не понравились сразу, все же обязательства они исполнили честно и сполна. Но продлить договорные отношения отказались, и… всех троих посадили в Шпалерку, сказав, что выпустят, когда они подпишут новый контракт. Сдаваться строптивые иностранные подданные не хотели, извернулись и поставили в известность австрийского консула. Он вступился, но только за двоих, а третьего – еврея по национальности – оставил выпутываться самого. Так Штерн оказался забытым в камере на целых три года! И вот теперь сокамерники из тех куркулей, кто получал из дома передачи, собирали «иностранцу» хоть какую-то одежду взамен его старой, давно истлевшей.
А потом неожиданно, по сути уже в нерабочее время, надзиратель вызвал моего учителя:
– Эй, гражданин Кривач, поторопись на выход!
– Не дай бог, если меня к Кукушке сегодня, – побледнел профессор, поднимаясь с лавки.
Таким нелестным именем обитатели камер звали тюремную канцеляристку, по слухам – кривоногую, щербатую барышню, которой вменялось в обязанность объявлять тюремные приговоры.
Вернулся профессор быстро, не прошло и четверти часа. На мои расспросы просто протянул маленькую бумажку-квиток. В слабом, чуть колеблющемся свете электролампочки я сумел прочитать: «Петроградская коллегия ГПУ признала гражданина С. П. Кривач-Неманец виновным по ст. 58 п. 4 и ст. 58 п. 6 уголовного кодекса РСФСР и постановила приговорить С. П. Кривач-Неманец к высшей мере наказания – расстрелу с заменой 3 годами заключения в Соловецком лагере особого назначения».
– Начинали по шестьдесят четвертой и шестьдесят шестой, закончили по пятьдесят восьмой{30}30
По УК РСФСР 1922 г. статья 64 – «Организация террористических актов и сотрудничество с иностранцами», статья 66 – «Шпионаж в пользу международной буржуазии» вошли в 58-ю статью УК 1926 г. (пп. 4 и 6).
[Закрыть], – пошутил он подозрительно бесцветным тоном, пока я пытался осознать смысл приговора. – Да только итог один.
– Но три года – это же совсем немного, – попробовал возразить я. – Можно сказать, что амнистировали! Вы в прекрасной форме, еще успеете на свободе погулять!
– Нет, Лешенька, – покачал головой старый чех. – Летом у меня был шанс пристроиться где-то на пересылке до холодов. А сейчас этапом, с моими больными легкими, да еще на Соловки… Гарантированное убийство. Подлое, знаешь ли, не хотят своими руками дуло нагана в седой затылок толкать. Для этого у них, – он особым тоном выделил «у них», – припасены в достатке мороз, голод и шпана.
Трехлетний срок был в общем-то не слишком редок для узников «библиотечной» камеры, среди которых хватало пожилых людей. Следователи с ними не торопились, так что кое-кто умирал прямо в тюрьме, буквально от старости. К примеру, на второй день после моего перевода в общую камеру, немало меня напугав, скончался некий генерал Шильдер{31}31
В. А. Шильдер, русский генерал, кавалер 14 орденов, директор Пажеского корпуса, Александровского лицея. Арестован по «делу лицеистов» и умер в тюрьме в 1925 г. Всего по этому делу было арестовано около 150 человек, из них расстреляно 26, среди них сын Шильдера Михаил. Жена Шильдера А. М. Клингенберг умерла в ссылке.
[Закрыть]. По словам друзей, его держали в заключении за переписку с вдовствующей императрицей Марией Федоровной. Еще один старик уже несколько месяцев находился, что называется, на грани: худой как скелет, на неразгибающихся ногах, голова совершенно лысая, желтая, покрытая редкими волосиками, как у чудовищного птенца, ввалившийся беззубый рот, частичная потеря памяти. Иногда он впадал в длительное обморочное состояние, которое внешне ничем не отличалось от смерти. Раз за разом соседи ошибались и вызывали к нему, как новопреставленному, лекпома, то есть лекарского помощника.
Грешным делом, я считал такой порядок чем-то типа неизбежного уровня революционного зверства. Просто так отпустить контру выходит не по-коммунистически, но и наказать реально не за что. Вот и дают три года «шпионской деятельности»…
Отчаянно жаль, что тут не принято брать в зачет время предварительного заключения, но все равно три года отработки на лесоповале не казались мне чем-то невероятно ужасным.
Однако сам факт замены расстрела «всего-то» тремя годами здорово меня напряг.
– Неужели все настолько плохо? – спросил я.
– Не хотел тебя пугать раньше времени, – ответил учитель, не поднимая взгляда от пола. – Сильных, молодых – хорошо если треть возвращается{32}32
Точно задокументированные данные о смертности в Соловецких лагерях отсутствуют. Сами узники оценивали ее в пределах 35–40 %. По свидетельству генерала Зайцева из 100 каэров-трехлетников первых «призывов» к моменту освобождения в 1927 г. 37 умерли, 38 покалечены и лишь 25 покинули лагерь здоровыми (большинство из последних попали на хлебные лагерные места канцеляристов, кладовщиков и т. п.).
[Закрыть]. А для такого старика, как я, сей путь есть дорога в один конец. Уж лучше бы пуля! Но ты… – Каким-то немыслимым напряжением сил Кривач одернул себя и даже улыбнулся. – Ты молодой, за себя не переживай, вижу – хваткий парень, всегда вывернешься.
– Но как же так?.. – в растерянности промямлил я. – Неужели они не понимают?!
Ничего более умного в голову не приходило.
– Знаешь, Алексей… – неожиданно перешел на тихий, едва уловимый шепот Кривач-Неманец. – Как-то еще в двадцать третьем пришлось мне переводчиком выступать на одном интересном допросе… Тогда я еще им, то есть товарищам нашим… – Он опять выделил интонацией явно неприятное слово «товарищам». – Верил. Мне уж точно не судьба, а вот ты твердо запоминай. Есть во Франкфурте-на-Майне – найдешь, поди, – Metzler Bank. Там снят в сейфе ящик отдельный, предъявить права на который может тот, кто назовется Oberst Ludwig Richter. Прямо так, и никак иначе, буква в букву, – дай сейчас запишу, после зазубришь. – Профессор дотянулся до старой газеты и быстро вывел слова огрызком карандаша. После чего продолжил: – Не беспокойся, документа никакого не спросят, просто порядок такой. Имени, конечно, мало будет для банкиров, так что запоминай пароль: «Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen»{33}33
Цитата из Ф. Ницше: «Факты не существуют, только интерпретации».
[Закрыть]. Все понял?
Я смог только кивнуть в ответ, повторяя про себя кодовую фразу.
Дождавшись, пока я окончательно все уложу в голове, старый чех продолжил свой рассказ:
– Не знаю, что там точно, но ценность наверняка немалая. За эти слова пятерых убили, а потом еще и мой начальник с замом друг друга перестреляли. Лишь про меня – хе-хе! – забыли, идиоты краснопузые. Думал, выберусь с очередной делегацией из Совдепии, пригодится, чтоб старость не в ночлежке встретить. Но не судьба, видать, так хоть тебе сгодится. – Он легко отмел мою слабую попытку возразить. – Не спорь со старшими, не надо. Обещай только, если сможешь, отомстить… За меня тоже!
– Все что будет в моих силах, – без всякого пафоса подтвердил я.
Слово «месть» пока не стучало в мое сердце, но в любом случае деньги казались сущей мелочью на фоне еще не случившейся – невероятной, но все равно неизбежной – гибели такого выдающегося человека, как Кривач-Неманец.
– Ничего, Бог поможет. – Он положил руку на мое колено. – Я свое отжил. А ты себя сбереги. И вообще… Совсем старый стал, дурака свалял. Забудь про месть, слышишь, забудь! Сможешь добраться до Германии – проживи все, что найдешь, в свое удовольствие, а о Совдепии думать забудь. Купи фольварк где-нибудь в Баварии, девку найди посимпатичнее, детей настрогай десяток. Вот… Вот это и будет самый лучший ответ большевикам!
– П-п-постараюсь, – пробормотал я, едва сдерживая слезы.
– А теперь давай на боковую, – резко сменил тему старый чех. – И так засиделись.
Он откинулся на койке и как-то очень легко уснул. Наверное, именно так должны засыпать люди, до конца выполнившие свой долг.
Как его забрали, я не услышал, самым глупым образом продрых. Хотя не думаю, что профессор на меня за это в обиде. Скорее наоборот – он явно собирал вещи украдкой, чтобы не разбудить меня, знал: я бы ни за что не взял от него прощальный подарок – шикарные, совсем новые немецкие калоши. Мой будущий счастливый талисман…
Больше месяца я провел как в тумане.
Вдребезги, в клочья и пыль развалилось тщательно выстраиваемое в глубине сознания убежище, в котором пряталась вера в справедливость и свободу. Стали нестерпимо смешными фантазии бессонных ночей, в которых я мечтал о самой малости – адвокате, свидетелях, да просто хоть каком-то суде! Хотя уже тогда по рассказам соседей прекрасно понимал – ничего, абсолютно ничего подобного на процессах ГПУ нет и в помине!
Надежда умерла…
Я забросил обучение, хотя педагогов по-прежнему было в достатке, прекратил тщательный уход за волосами и одеждой, перестал заниматься физкультурой, в общем, отчетливо покатился вниз, в тупость, грязь, к блохам и клопам.
Вытащил меня из депрессии, а вернее сказать, спас от гибели староста. Уже не тот, который принимал меня в камеру, а новый – неисправимый оптимист Семен Павлович Данцигер.
Его отец когда-то имел в Минске кожевенный заводик аж с целыми пятнадцатью рабочими, и это стало натуральным проклятием для сына. Сначала – сразу после национализации – Данцигер удрал в Пермь, устроился в какой-то кооператив, но там быстро вынюхали его торговое происхождение и выперли. Голодал, пристроился к какому-то кустарю выделывать кожи. Через полгода кустаря посадили за спекуляцию – скупку кож скота, но Семен Павлович сумел сбежать в Новороссийск и пристроиться грузчиком. На профсоюзной чистке какой-то комсомолец выскочил: «Так я же его знаю, у его отца громадный завод был». Выгнали и посадили за сокрытие классового происхождения. Отсидел полгода, уехал в Петроград и устроил кооперативную артель «Самый свободный труд»…
Вот тут-то его и арестовали за дачу взятки{34}34
По УК РСФСР 1922 г. взятка считалась контрреволюционной деятельностью, соответственно наказывалась «вплоть до расстрела».
[Закрыть].
Сперва этот «великий комбинатор» пытался обойтись внушением, наверное, в его голове просто не укладывалось, как молодой парень может сломаться из-за такой малости, как старик-учитель. Тогда как он сам сумел пережить куда более страшные удары судьбы: смерть родителей от болезней – а скорее от неустроенности и плохого питания, – гибель воевавшего за белых брата и еще многое, накопившееся за десяток лет борьбы за существование. Но, осознав тщетность простого пути, Семен Павлович немедленно изобрел иной сильный ход. А именно, поселил рядом со мной новенького – веселого, жизнерадостного сверстника, студента-филолога Диму Лихачева{35}35
Д. С. Лихачев – чл. – корр. АН СССР по Отделению литературы и языка, действительный член многих зарубежных академий. Во время учебы в Ленинградском университете участвовал в шуточном кружке «Космическая Академия наук». Арестован 8 февраля 1928 г., в октябре 1928 г. получил по ст. 58-11 пять лет лагерей.
[Закрыть], попавшего в Шпалерку за шуточную поздравительную телеграмму от имени папы римского.
Банальный стыд оказался куда сильнее логики и здравого смысла. Он живо вышиб из моих мозгов тоску, заставил очнуться и привести себя в порядок.
Жаль, что уже через несколько дней наша зарождающаяся дружба оборвалась навсегда – Кукушка наконец-то добралась до меня.
– Обухов, в канцелярию! – однажды долбанул сапогом по решетке надзиратель. – Подымайся, тута, знаешь ли, ждать страсть не любят!
Он сопроводил меня в комнату, где я наконец-то смог убедиться, что облик легендарной канцеляристки как нельзя лучше соответствует прозвищу. Впрочем, голос у нее оказался, наоборот, сильным и приятным.
– «Слушали: дело гражданина Обухова Алексея Анатольевича, по обвинению его в преступлениях, предусмотренных статьей 58-11{36}36
Статья 58-11: «Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, приравнивается к совершению таковых и преследуется уголовным кодексом по соответствующим статьям».
[Закрыть], – скороговоркой прокуковала она шаблонный текст. – Постановили: признать виновным в преступлениях, предусмотренных указанной статьей, и заключить его в концентрационный лагерь ОГПУ{37}37
Только 27 июня 1929 г. Политбюро переименовало концентрационные лагеря ОГПУ в исправительно-трудовые. То есть до этого момента слово «концлагерь» использовалось вполне официально.
[Закрыть] сроком на три года. Дело сдать в архив». Распишитесь…
Кукушка положила бумагу на стол, текстом вниз. Я потянулся перевернуть, прочесть приговор своими глазами.
Надзиратель резко одернул:
– А ну, не задерживай, у меня нет времени с каждым валандаться!
– Мне по этой бумаге три года жить, – возразил я, все же переворачивая злосчастный документ.
– Напрасно сомневаешься, Обухов, – злобно скривилась канцеляристка, отчего из страшненькой превратилась в настоящую кикимору. – Можешь вообще ничего не подписывать, от этого ничего для тебя не изменится.
Не споря, быстро пробежал глазами текст, тщательно запомнил номер дела и дату. Кривач-Неманец специально предупреждал, что без указания этих сведений любое обжалование не имеет даже крохотного шанса на рассмотрение. Вписал в строчку для подписи свое настоящее имя – Алексей Коршунов, поставил закорючку… Уже как осужденный.
– Чего расселся-то?! – грубо поторопил надзиратель. – Пшел быстро! Манатки в охапку, этап не за горами!
Глава 3
Путевые заметки
Бирзула, апрель 1930 года
(3 месяца до рождения нового мира)
За окном смеркалось. Как будто подстраиваясь под угасание дня, все реже звучал перестук колес на стыках, ощутимо замедлился бег телеграфных столбов. Вдоль дороги потянулись замызганные заборы и сараи. Рельсы начали ветвиться стрелками, уходящими в обветшалые, но многочисленные ремонтные или погрузочно-разгрузочные закутки. Неожиданно совсем рядом с составом проплыла монументальная «свечка» странного здания красного кирпича с несвежей, но все же белой отделкой окон и вычурных фронтонов. Очень небольшое, немногим длиннее вагона, оно высилось на целых пять этажей. И почти сразу за ним показался верный признак крупной станции – невысокий асфальтированный перрон, за которым под грубой коричневой штукатуркой скучало двухэтажное здание вокзала.
Состав остановился, потом чуть сдал назад и опять дернулся вперед, как будто поудобнее устраиваясь на месте{38}38
Каждые 60–100 км паровоз нуждается в заправке водой. Машинисту, особенно не слишком опытному, бывает порой сложно подогнать локомотив под заливочную систему водонапорной башни.
[Закрыть].
– Станция Бирзула{39}39
Ныне станция Котовск Одесской области (переименована в 1935 г.).
[Закрыть], – сквозь негромкий металлический лязг буферов и сцепок донесся из коридора голос проводника. – Стоянка сорок пять минут.
Бросив завистливый взгляд на безмятежно спящего Якова, я все же решился размять ноги.
– А чего ж так долго-то? – выйдя в коридор, окликнул я кстати вывернувшегося проводника. – Вроде невеликий городок.
– Время ужинать, – удивился он моей недогадливости. – Вы-то, товарищ, ежели кушать захотите, так в местный ресторан-вагон сходить извольте-с, он тут совсем недалече, третий вагон, только через первый класс пройти-с. Коли заказать чего изволите-с – принесем в сей же час. А пассажирам из жесткого в буфете на вокзале подают-с.
– Снова все звери равны, – пробормотал я себе под нос. – Но некоторые равнее других.
В короткой борьбе между ленью и любопытством победило второе.
В воздухе над перроном пахло дымом и уборной. Из передних, ближних к паровозу зеленых вагонов к вывеске «Буфет» бойко, почти бегом тянулись желающие поесть.
Добравшись до засиженной мухами стойки, я чуть не поперхнулся от давно забытого лагерного запаха. Однако толпа, ничуть не смущаясь, шустро разбирала единственное доступное блюдо – вареную перловку без капли жира с тощей селедкой по цене рубль с гривенником. Насколько я успел понять нынешние советские реалии – весьма адекватное по деньгам предложение. Хотя не уверен, что такое стали бы жрать собаки из моего родного две тысячи четырнадцатого года.
Собравшись было уходить, я заметил в стороне вывеску-указатель: «Буфет для пассажиров первого и второго классов». Я уже прикидывал, как доказывать свою принадлежность к привилегированному сословию, но вход оказался свободным для всех.
Чуть более приятные ароматы, на покрытых пестрыми, удачно маскирующими пятна скатертями столах стоят цветочные горшки, украшенные розовыми и лиловыми лентами. И всего несколько посетителей!
Причину такого «счастья» я понял, как только взял в руки меню: капустный суп, жареная рыба с картофельным пюре, кофе и булочка с маслом стоили целых девять рублей. То есть недешево даже для такого буржуя, как я, и чуть не в пять раз дороже среднепаршивых одесских забегаловок.
Экономия мигом отправила чувство голода в далекое, слегка эротическое путешествие. Положив роскошную обложку тисненой кожи с одиноким желтым листочком отпечатанных на машинке расценок обратно на стол, я тихо смылся в шумную суету перрона… чтобы немедленно попасть под прессинг небольшой стайки попрошаек-беспризорников лет пяти – десяти. Отбиться стоило немалого труда и полудюжины медных монеток. Впрочем, надо отдать им должное, процесс облегчения карманов шел весело, можно сказать, с улыбкой, да и окружающие относились к детям удивительно спокойно и по-доброму.
Тем временем очередь в буфет успела рассосаться, однако у пассажиров немедленно нашлась новая забава – вооружившись огромными, чуть не полуведерными медными чайниками или котелками – а то и двумя-тремя, как видно для соседей, – они толпились около сложенной из кирпича еще в имперские времена будки с выведенной белой краской надписью «Кубовая». Хотя выдавали там отнюдь не «кубы», а кипяток. Система работала на самообслуживании: два высоких бака с кранами, соответственно для горячей и холодной воды, знай подставляй посуду.
И только тут я наконец понял, чего не хватает в картине провинциального вокзала. Где же неизбежные, встречающие каждый поезд торговки снедью и навязчивые спекулянты нативными сувенирами?! Почему бабульки не продают успевшим оголодать за пару-тройку часов пути товарищам домашние пироги, вареные яйца, сметану? Куда подевалась воспетая в железнодорожных сагах синюшная картошка? Как страждущие обходятся без неизбежной закуски, в смысле – маринованных и соленых огурчиков?
Может быть, продавцов просто не пускают на перрон? И стоит поискать вкусный, горячий калач с другой стороны вокзальных дверей?
Не откладывая в долгий ящик – тем более что вокзальный колокол уже отзвонил первое предупреждение, – я быстрым шагом пересек полупустой зал ожидания и в остолбенении замер на крыльце.
Привокзальную площадь – всю, с окрестными улицами! – плотно забивала чудовищная орда. Опрятные с виду телеги перемежались кучами наваленных прямо под открытым небом узлов, корзин, свертков, а то и вообще сомнительной рухляди. В проходах, а кое-где и прямо поверх скарба мельтешили толпы разновозрастных детей. Кто-то просто играл, другие возились вокруг маленьких костерков, третьи занимались починкой своих вещей или иным попутным ремеслом. Хозяева – судя по всему, местные крестьяне – сидели в рядок около закрытого на амбарный замок окошечка кассы.

– Вот, значит, оно как… – пробормотал я.
Одно дело – читать о коллективизации в учебниках или газетах, совсем другое – видеть результаты жестокого социального эксперимента буквально лицом к лицу. Хорошо хоть в относительно сытом тридцатом! Что же тут будет твориться через пару лет, в разгар голода?
– Лес рубят – щепки летят, – продолжил я вслух, но тут же поймал злой взгляд патрульного.
Его напарник, выразительно поправив ремень винтовки и стряхнув шелуху семечек с губ, развязно посоветовал:
– Шли бы вы отсюда, товарищ… К поезду.
До своего вагона я добрался со вторым колоколом.
– Напоили лошадку, повезла, – встретил меня проводник и улыбнулся с откровенной хитринкой. – Не изволите-с чего из вагона-ресторана?
– Изволю. – Я непроизвольно подстроился под его манеру говорить. – Но завтра с утра, пожалуй. Сегодня никак, надо доесть то, что из Одессы прихватили.
– Как прикажете-с. В котором часу подать-с?
– Часиков в девять приносите, – обозначил я время, лишь бы скорее отвязаться от докучливого проводника, чем рассчитывая что-то получить на самом деле.
И сразу отвлекся на презанятнейшее зрелище: невысокая женщина лет тридцати пяти, кажущаяся миниатюрной даже несмотря на изрядную полноту, тащила по проходу на своих плечах нажравшегося до положения риз краскома. Его голова болталась из стороны в сторону на каждом шагу, мутный расфокусированный взгляд бессмысленно скользил по обстановке и людям. Неприятное, лошадиное лицо, усики скобочкой а-ля Гитлер…
«Где-то я его видел», – мелькнула мысль.
Петлицы с ромбом, однако большой начальник… Канта не видно, неужели ГПУ?!{40}40
На практике отличить петлицы ГПУ (поле крапового цвета) от малинового (пехота РККА) практически невозможно, поэтому все ориентировалось на кант – в РККА он был черный, а в ГПУ – малиновый.
[Закрыть]
Курилко! Главпалач Кемской пересылки! Бывший гвардейский офицер белой армии{41}41
Согласно мемуарам Д. С. Лихачева, Курилко служил в белой армии не более пары месяцев.
[Закрыть], потом большевик и чекист! Любитель маршировки, криков «Здра!», холодных карцеров, выстойки на комарах и вообще практик убийственно черного юмора. Сколько прекрасных людей остались навсегда в мерзлой земле по его вине!
Пока я изображал соляной столп, женщина умудрилась не только проволочь гражданина начальника мимо меня, но даже втащить мерзкое тело в купе.
Через неплотно закрытую дверь я мог видеть, как она сосредоточенно стягивает со своего сваленного на диван мужа или, может быть, любовника сапоги, галифе и следом – грязный заблеванный китель. Затем, собрав вещи, она скрылась за дверью уборной, из которой сквозь выходящее в коридор матовое стекло послышался шум набираемой в раковину воды.
Сколько она там будет стирать? Минимум пять минут? Хватит времени заскочить, придавить подушкой лицо и подождать, пока затихнут конвульсии!
Непроизвольно я сделал шаг к двери, другой и… И, резко взяв себя в руки, пошел в свое купе.
Какой смысл брить волоски по одному, когда надо отсекать голову? Зачем делать из прохвоста героя, погибшего от руки недобитой контры? Ведь я-то точно знаю: недолго виться сволочной карьере – скоро шлепнут свои же и, сильно надеюсь, справятся куда раньше кровавого тридцать седьмого{42}42
Курилко был снят с должности уже в мае 1930 г., попал под следствие и ближе к осени расстрелян, более того, в конце июля этого года по всем лагерям зачитали приказ коллегии ОГПУ «О произвольщиках и белогвардейцах в лагерях», после чего режим был существенно смягчен (так называемая «Соловецкая оттепель»).
[Закрыть].
Однако поворочаться перед сном в этот вечер мне пришлось изрядно…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?