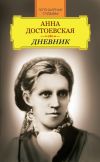Текст книги "Достоевский без глянца"

Автор книги: Павел Фокин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Творчество
Анна Григорьевна Достоевская:
Ничего не было труднее для него, как садиться писать, раскачиваться.
Писал чрезвычайно скоро.
Николай Николаевич Страхов:
Федор Михайлович всегда откладывал свой труд до крайнего срока, до последней возможности; он принимался за работу только тогда, когда оставалось уже в обрез столько времени, сколько нужно, чтобы ее сделать, делая усердно. Это была леность, доходившая иногда до крайней степени, но не простая, а особенная, писательская леность, которую с большою отчетливостию пришлось мне наблюдать на Федоре Михайловиче. Дело в том, что в нем постоянно совершался внутренний труд, происходило нарастание и движение мыслей, и ему всегда трудно было оторваться от этого труда для писания. Оставаясь, по-видимому, праздным, он, в сущности, работал неутомимо. Люди, у которых эта внутренняя работа не происходит или очень слаба, обыкновенно скучают без внешней работы и со сластью в нее втягиваются. Федор Михайлович с тем обилием мыслей и чувств, которое он носил в голове, никогда не скучал праздностию и дорожил ею чрезвычайно. Мысли его кипели; беспрестанно создавались новые образы, планы новых произведений, а старые планы росли и развивались. «Кстати, – говорит он сам на первой странице «Униженных и оскорбленных», где вывел на сцену самого себя, – мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености. Отчего же?»
Попробуем отвечать за него. Писание было у него почти всегда перерывом внутренней работы, изложением того, что могло бы еще долго развиваться до полной законченности образов. Есть писатели, у которых расстояние между замыслом и выполнением чрезвычайно мало; мысль у них является почти одновременно с образом и словом; они могут дать выражение только вполне сложившимся мыслям, и, раз сказавши что-нибудь, они сказать лучше не могут. Но большинство писателей, особенно при произведениях крупного объема, совершают долгую и трудную работу; нет конца поправкам и переделкам, которые все яснее и чище открывают возникший в тумане образ. Федор Михайлович часто мечтал о том, какие бы прекрасные вещи он мог выработать, если бы имел досуг; впрочем, как он сам рассказывал, лучшие страницы его сочинений создались сразу, без переделок, – разумеется, вследствие уже выношенной мысли.
Писал он почти без исключения ночью. Часу в двенадцатом, когда весь дом укладывался спать, он оставался один с самоваром и, попивая не очень крепкий и почти холодный чай, писал до пяти и шести часов утра. Вставать приходилось в два, даже в три часа пополудни, и день проходил в приеме гостей, в прогулке и посещениях знакомых.
Любовь Федоровна Достоевская (1869–1926), дочь писателя, писательница, мемуаристка:
Окончив завтрак, отец возвращался в свою комнату и сразу же начинал диктовать главу, сочиненную им ночью. Мать стенографировала ее и потом переписывала. Достоевский исправлял написанное, часто добавляя некоторые детали. Мать переписывала еще раз и отсылала рукопись в типографию… Почерк у моей матери был очень красивым; а у отца он был менее правильным, но более изящным. Я называла его «готическим шрифтом», может быть, потому, что все рукописи были испещрены готическими окнами, очень тонко нарисованными пером. (В Инженерном замке большое значение придавали рисованию.) Достоевский рисовал их совершенно механически, обдумывая то, над чем работал; можно было бы подумать, что душа его жаждала готических линий, которыми его так восхитили Миланский и Кельнский соборы. Иногда он рисовал на рукописи головы и профили, всегда очень интересные и характерные.
Анна Григорьевна Достоевская:
Обычно Федор Михайлович прямо диктовал роман по рукописи. Но если он был недоволен своею работою или сомневался в ней, то он прежде диктовки прочитывал мне всю главу зараз. Получалось более сильное впечатление, чем при обыкновенной диктовке.
Любовь Федоровна Достоевская:
Диктуя матери свои произведения, Достоевский иногда останавливался и спрашивал ее мнение. Мать воздерживалась от критики. Злобные газетные критики доставляли ее мужу достаточно огорчений, она не хотела добавлять их. Но, опасаясь, чтобы ее согласие не было слишком однообразным, мать иногда осмеливалась возражать ему по несущественным вопросам. Если героиня романа была одета в голубое, она переодевала ее в розовое; если шкаф стоял слева, она переставляла его направо; она изменяла форму шляпы героя и обрезала иногда ему бороду. Достоевский охотно принимал желаемые изменения и наивно полагал, что этим доставил своей жене большое удовольствие.
Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская):
Когда он писал разговоры, он всегда, прежде чем написать, несколько раз повторял их шепотом или вслух, делая при этом соответствующие жесты, как будто видел перед собой изображаемое лицо.
Николай Николаевич Страхов:
На Федоре Михайловиче можно было ясно наблюдать, какой великий труд составляет писание для таких содержательных писателей, как он. В свои произведения он вкладывал только часть той непрерывной работы, которая совершалась в его голове. Читатели, как известно, иногда питают легкомысленное мнение, что писание ничего не стоит даровитым людям, и обманываются в этом случае тою легкостию, с которою течет стих или проза готового произведения. Но, в сущности, читатели редко ошибаются в оценке авторского труда, потому что обыкновенно их занимает или трогает только то, что занимало или трогало самого автора, и насколько души и труда он вложил в свое произведение, настолько оно и действует на читателей.
Что касается до поспешности и недоделанности своих произведений, то Федор Михайлович… очень ясно видел эти недостатки и без всяких околичностей сознавался в них. Мало того; хоть ему и жаль было этих «недовершенных созданий», но он не только не каялся в своей поспешности, а считал ее делом необходимым и полезным. Для него главное было подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. Важно было не самое произведение, а минута и впечатление, хотя бы и неполное. В этом смысле он был вполне журналист и отступник теории чистого искусства. Так как планам и замыслам у него не было конца, то он всегда носился с несколькими темами, которые мечтал обработать до полной отделки, но когда-нибудь после, когда будет иметь больше досуга, когда времена будут спокойнее. А пока он писал и писал полуобработанные вещи, – с одной стороны, чтобы добывать средства для жизни, с другой стороны, чтобы постоянно подавать голос и не давать публике покоя своими мыслями.
Анна Григорьевна Достоевская:
Всегда был чрезмерно строг к самому себе, и редко что из его произведений находило у него похвалу. Идеями своих романов Федор Михайлович иногда восторгался, любил и долго их вынашивал в своем уме, но воплощением их в своих произведениях почти всегда, за очень редкими исключениями, был недоволен.
Всеволод Сергеевич Соловьев:
Я знаю, в какую тоску, в какое почти отчаяние приводили его иногда отсутствие денежных средств, забота о завтрашнем дне, о нуждах семьи. Он почти всю жизнь не выходил из денежных затруднений, никогда не мог отдохнуть, успокоиться.
Все это тяжело отзывалось на его произведениях, и почти ни одним из них он не был доволен. Он работал всегда торопясь, часто не успевая даже прочитать им написанного. А между тем ведь он писал не легкие рассказы. У него иногда, в горячие, вдохновенные минуты выливались глубоко поэтические сцены, страницы красоты необыкновенной, которых очень много в каждом его романе. Но этого было мало: у него бывали глубокие психологические задачи, в его голове мелькали оригинальные и замечательные решения серьезных нравственных вопросов. Тут минут горячего вдохновения оказывалось недостаточно, требовалась спокойная работа мысли, а обстоятельства не давали его мысли спокойно работать…
Больной, измученный, он уставал больше и больше; но уставал не мыслью, не чувством, а просто уставал физически. Ему трудно становилось работать, и он работал медленно. Он заранее продавал свой роман, который ожидали с нетерпением. Редакция то и дело понуждала его высылать скорее рукопись. Эти понуждения раздражали, он волновался, спешил, посылал начало и потом, торопясь продолжением, почти забывал это начало. По мере развития романа являлась необходимость изменять то то, то другое, но исполнить этого уже не было возможности – то, что нужно было изменить и переработать, оказывалось уже напечатанным. Таким образом, являлись великолепные эпизоды, но в общем роман представлял довольно бесформенное и, во всяком случае, невыдержанное произведение.
Он сам отлично сознавал это, и подобное сознание для художника являлось горьким мучением. Он сознавал, и в то же время ему болезненно хотелось, чтобы другие не замечали того, что он сам видит. Поэтому всякая похвала доставляла ему большую усладу: она его обманывала. Поэтому замечаемое им в ком-либо понимание его промахов раздражало его, оскорбляло, мучило…
Но я свидетельствую, что сам он, в иные откровенные, теплые минуты, признавался в своих промахах и скорбел, что судьба ставила его в невозможность вовремя исправлять их. Это было горе, горше которого не может и быть для творца-художника! И передо мною так и стоит бледное, изнеможенное лицо его в минуты этих мучительных признаний.
Михаил Александрович Александров:
Я не знаю, легко ли писал Федор Михайлович свои романы и большие повести, но знаю, что статьи для «Дневника писателя» писались им с большою натугою и вообще стоили Федору Михайловичу больших трудов. Первою и самою главною причиною трудности писания для Федора Михайловича было его неизменное правило: обрабатывать свои произведения добросовестно и самым тщательным образом; второю причиною было требование сжатости изложения, а иногда даже прямо определенные рамки объема журнальных статей; наконец, третьею причиною была срочность писания подобных статей… Следствием всего этого было то, что, несмотря на огромную опытность Федора Михайловича в литературной технике, редкие из его манускриптов обходились без одного или даже двух черняков, которые потом, для сдачи в типографию, непременно переписывались или самим Федором Михайловичем, или Анною Григорьевною, писавшею под его диктовку с черняков.
Николай Николаевич Страхов:
Федор Михайлович любил журналистику и охотно служил ей, разумеется ясно сознавая, что он делает и в чем отступает от строгой формы мысли и искусства. Он с молодости был воспитан на журналистике и остался ей верен до конца. Он вполне и без разделения примыкал к той литературе, которая кипела вокруг него, не становился никогда в стороне от нее. Обыкновенное его чтение были русские журналы и газеты. Его внимание было постоянно устремлено на его собратий по части изящной словесности, на всякие критические отзывы и об нем самом и об других. Он очень дорожил всяким успехом, всякою похвалою и очень огорчался нападками и бранью. Тут были его главные умственные интересы, да тут же были и его вещественные интересы. Он жил исключительно литературным трудом, никогда и не предполагая для себя какого-нибудь другого занятия, не задаваясь и мыслью о каком-нибудь месте, казенном или частном…
Литература была вполне родною сферою Федора Михайловича; он избрал ее своею профессиею и иногда даже высказывал гордость этим своим положением. Он усердно трудился и работал и достиг своего: он сделал одну из блистательных литературных карьер, достиг громкой известности, распространения своих идей, а под конец жизни и материального достатка.
На эстраде
Из дневника Елены Андреевны Штакеншнейдер, 1880:
Сегодня, 19 октября, лицейский день. Литературный фонд давал сегодня литературное утро в такой зале, где трудно читать и где чтецов не во всех концах слышно, а Достоевский, больной, с больным горлом и эмфиземой, опять был слышен лучше всех. Что за чудеса! Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шепотным голосом, он, едва начнет читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная. Он кашляет постоянно и не раз говорил мне, что это эмфизема его мучает и сведет когда-нибудь, неожиданно и быстро, в могилу. Господи упаси!
Но во время чтения и кашель к нему не подступает; точно не смеет.
Михаил Александрович Александров:
Чтение его было, по обыкновению, мастерское, отчетливое и настолько громкое или, вернее, внятное, что сидевшие в самом отдаленном конце довольно большой залы Благородного собрания, вмещающей в себе более тысячи сидящих человек, слышали его превосходно.
И. Щеглов (Иван Леонтьевич Леонтьев; 1855–1911), писатель:
Сейчас мерещится, как в тумане, огромный зал Благородного собрания, переполненный избранной публикой. Несмотря на то, что зал набит битком, в зале тихо-тихо, слышно, как муха пролетит; вся публика, как один человек, затаила дыхание, чтобы не проронить ни одного звука.
На эстраде – Федор Михайлович.
Он читал главу из «Братьев Карамазовых»: Исповедь горячего сердца.
Впрочем, сказать про Достоевского: «он читал» – все равно что ничего не сказать. Понятие о чтении в обычном смысле неприменимо, когда дело идет о Достоевском. Так, как читал Федор Михайлович, когда он был в ударе (а в этот раз он был в особенном ударе), кажется, никто из русских литераторов не читал! Это было прямо что-то сверхчеловеческое, так сказать, новое творчество во время самого процесса чтения, сопровождаемое таким огромным нервным подъемом, который слушателя зараз заражал и ошеломлял и как бы насыщал атмосферу вокруг электричеством…
Достаточно было на минуту полузакрыть глаза – и чтец, и автор вдруг исчезали – и только слышалось в затаенной тишине, как лилась и переливалась пламенная покаянная речь Мити Карамазова – «воистину исповедь горячего сердца».
В моих ушах до сих пор звучит стих, цитируемый Митей Карамазовым:
Нам друзей дала в несчастьи,
Гроздкий сок, венки Харит,
Насекомым – сладострастие…
Это – «насекомым – сладострастие» было произнесено каким-то сдавленно-страстным, нервно трепетным шепотком, от которого дрожь пробегала по телу.
И далее:
– Я, брат, это самое насекомое и есть, это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие, и в тебе, ангеле, это насекомое живет, и в крови твоей бури родит. Это – бури, потому что сладострастие – буря, больше бури! Красота, это – страшная и ужасная вещь!!
Буквально волосы шевелились на голове от этого огненного проникновенного чтения – впечатление было близкое к тому, что дает «Патетическая симфония» Чайковского. Что в том, что Достоевский дерзнул взять для публичного чтения самую дерзновенную главу «О Мадонне и грехе Содомском», но в его передаче каждое слово жгло и хватало за сердце, унося куда-то в неведомые и недосягаемые дали…
Гипноз окончился только тогда, когда он захлопнул книгу. И тогда началось настоящее столпотворение: хлопали, стонали, махали платками, какая-то барышня поднесла пышный букет, кому-то сделалось дурно…
Несмотря на настойчивые вызовы, Достоевский почему-то долго не показывался перед публикой. Но когда он, наконец, вышел, на лице его было выражение значительное и торжественное – и на эстраду он на этот раз не взошел, а остановился возле эстрады, прямо перед первыми рядами кресел, и начал взволнованным голосом:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился…
Это был «Пророк» Пушкина – любимое стихотворение Федора Михайловича.
Публика замерла, захваченная волнением чтеца. А чтец с каждым стихом пламенел все более и более и последний стих:
Глаголом жги сердца людей! –
подчеркнул с таким увлечением, что буквально весь зал дрогнул.
Это «жги» он как-то исступленно выкрикнул с сверкающим взором, с резким повелительным жестом правой руки.
Впечатление получилось ошеломляющее.
Стих Пушкина сам по себе необыкновенный и вдохновенный – и тут же вдруг чтец – такой же необыкновенный и вдохновенный. Поднялась целая буря рукоплесканий, заставившая Федора Михайловича после многих поклонов прочесть «Пророка» вторично.
И вот он снова около эстрады, весь бледный от волнения, и с тем же пафосом льются из его уст огненные строки.
Так он и запечатлелся навсегда в моей памяти, великий писатель, как я его видел в последний раз: с горящим взглядом, с протянутой повелительно рукой, с вещим словом в устах: «Глаголом жги сердца людей!»
И он ли, спрашивается, не «жег» эти сердца и не был воплощением на земле этого самого библейского пушкинского пророка – кому Сам Господь на место сердца:
Угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул!
Михаил Александрович Александров:
Он прочел маленькую поэму графа А. К. Толстого «Илья Муромец» и при этом очаровал своих слушателей художественною передачею полной эпической простоты воркотни старого, заслуженного киевского богатыря-вельможи, обидевшегося на князя Владимира Красное Солнышко за то, что тот как-то обнес его чарою вина на пиру, покинувшего чрез это его блестящий двор и уезжавшего теперь верхом на своем «чубаром» в свое родное захолустье, чрез дремучий лес. Когда Федор Михайлович читал финальные стихи поэмы:
И старик лицом суровым
Просветлел опять,
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать;
Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор… –
одушевление его, казалось, достигло высшей степени, потому что заключительные слова «и смолой и земляникой пахнет темный бор…» были произнесены им с такою удивительною силою выражения в голосе, что иллюзия от истинно художественного чтения произошла полная: всем показалось, что в зале «Благородки» действительно запахло смолою и земляникою… Публика остолбенела, и, благодаря этому обстоятельству, оглушительный гром рукоплесканий раздался лишь тогда, когда Федор Михайлович сложил книгу и встал со стула.
Отец и муж
Любовь Федоровна Достоевская:
На протяжении всей своей жизни Достоевский был очень гостеприимным и любил в дни семейных праздников объединять за столом своих родных и родню жены. Он был тогда очень любезен, выбирал темы для разговора, которые могли бы их интересовать, смеялся, шутил и соглашался даже иногда поиграть в карты, хотя и не любил эту игру.
Анна Григорьевна Достоевская:
Когда дети ложились спать, то кто-нибудь из них кричал: папа, Богородицу читать! Он приходил и читал над ребенк<ом> Б<огородицу> и затем говорил несколько ласковых слов, целовал в лоб или в губы и уходил, говоря: ну, спите, спите…
Если кто заболевал хоть немного, он говорил: доктора, доктора.
Любовь Федоровна Достоевская:
Чем старше мы становились, тем строже был он по отношению к нам, но всегда оставался очень нежным, пока мы были маленькими. В детстве я была очень нервной и часто плакала. Чтобы развлечь меня, отец предлагал потанцевать с ним. Мебель в зале отодвигалась в сторону, мать брала в кавалеры сына, и мы танцевали кадриль. Так как некому было играть на рояле, мы все четверо напевали какой-нибудь ритурнель. Мать хвалила своего мужа за ту точность, с которой он выполнял трудные па кадрили. «О! – отвечал он, кашляя и вытирая пот со лба. – Если бы ты могла видеть, как хорошо я танцевал в молодости мазурку!»
Анна Григорьевна Достоевская:
На Рождестве 1872 года в семье нашей произошел следующий курьезный случай.
Федор Михайлович, чрезвычайно нежный отец, постоянно думал, чем бы потешить своих деток. Особенно он заботился об устройстве елки: непременно требовал, чтобы я покупала большую и ветвистую, сам украшал ее (украшения переходили из года в год), влезал на табуреты, вставляя верхние свечки и утверждая «звезду».
Елка 1872 года была особенная: на ней наш старший сын, Федя, в первый раз присутствовал «сознательно». Елку зажгли пораньше, и Федор Михайлович торжественно ввел в гостиную своих двух птенцов. Дети, конечно, были поражены сияющими огнями, украшениями и игрушками, окружавшими елку. Им были розданы папою подарки: дочери – прелестная кукла и чайная кукольная посуда, сыну – большая труба, в которую он тотчас же и затрубил, и барабан. Но самый большой эффект на обоих детей произвели две гнедые из папки лошади, с великолепными гривами и хвостами. В них были впряжены лубочные санки, широкие, для двоих. Дети бросили игрушки и уселись в санки, а Федя, захватив вожжи, стал ими помахивать и погонять лошадей. Девочке, впрочем, санки скоро наскучили, и она занялась другими игрушками. Не то было с мальчиком: он выходил из себя от восторга, покрикивал на лошадей, ударял вожжами, вероятно, припомнив, как делали это проезжавшие мимо нашей дачи в Старой Руссе мужики. Только каким-то обманом удалось нам унести мальчика из гостиной и уложить спать.
Мы с Федором Михайловичем долго сидели и вспоминали подробности нашего маленького праздника, и Федор Михайлович был им доволен, пожалуй, больше своих детей. Я легла спать в двенадцать, а муж похвалился мне новой, сегодня купленной у Вольфа книгой, очень для него интересной, которую собирался ночью читать. Но не тут-то было. Около часу он услышал неистовый плач в детской, тотчас туда поспешил и застал нашего мальчика, раскрасневшегося от крика, вырывавшегося из рук старухи Прохоровны и бормочущего какие-то непонятные слова. (Ему было менее полутора лет, и он неясно еще говорил.) На крик ребенка проснулась и я и прибежала в детскую. Так как громкий крик Феди мог разбудить спавшую в той же комнате его сестру, то Федор Михайлович решил унести его к себе в кабинет. Когда мы проходили чрез гостиную и Федя при свете свечи увидал санки, то мигом замолк и с такою силою потянулся всем своим мощным тельцем вниз к санкам, что Федор Михайлович не мог его сдержать и нашел нужным его туда посадить. Хоть слезы и продолжали катиться по щекам ребенка, но он уже смеялся, схватил вожжи и стал опять ими махать и причмокивать, как бы погоняя лошадей. Когда ребенок, по-видимому, вполне успокоился, Федор Михайлович хотел отнести его в детскую, но Федя залился горьким плачем и до тех пор плакал, пока его опять не посадили в саночки. Тут мы с Федором Михайловичем, сначала испуганные загадочною для нас болезнию, приключившеюся с ребенком, и уже решившие, несмотря на ночь, пригласить доктора, поняли, в чем дело: очевидно, воображение мальчика было поражено елкою, игрушками и тем удовольствием, которое он испытал, сидя в саночках, и вот, проснувшись ночью, он вспомнил о лошадках и потребовал свою новую игрушку. А так как его требование не удовлетворили, то и поднял крик, чем и достиг своей цели. Что было делать: мальчик окончательно, что называется, «разгулялся» и не хотел идти спать. Чтоб не бодрствовать всем троим, решили, что я и нянька пойдем спать, а Федор Михайлович посидит с мальчуганом и, когда тот устанет, отнесет его в постельку. Так и случилось. Назавтра муж весело жаловался мне.
– Ну, и замучил меня ночью Федя! Я часа два-три не спускал с него глаз, все боялся, как бы он не вывернулся из саней и не расшибся. Уж няня два раза приходила звать его «баиньки», а он ручками машет и собирается опять заплакать. Так и просидели вместе часов до пяти. Тут он, видимо, устал и стал приваливаться к сторонке. Я его поддержал, и, вижу, крепко заснул, я и перенес его в детскую. Так мне и не пришлось начать купленную книгу, – смеялся Федор Михайлович, видимо чрезвычайно довольный, что происшествие, сначала нас испугавшее, кончилось так благополучно.
Любовь Федоровна Достоевская:
Достоевский всегда привозил нам из-за границы чудесные подарки. Обычно это были полезные и дорогие вещи, выбранные с большим вкусом. Матери он привез элегантный бинокль из расписного фарфора, резной тонкой работы веер из слоновой кости, красивые кружева Шантильи, черное шелковое платье и белье с изящной вышивкой. Мне он привозил белую пикейную одежду для лета, украшенные вышивкой шелковые платьица для зимы. В противоположность родителям, одевающим своих дочерей всегда в голубое или розовое, он выбирал платья цвета морской волны. Цвет морской волны был его любимым цветом, и он часто одевал героинь своих романов в одежду этого цвета.
Анна Григорьевна Достоевская:
Скажу, кстати, что муж всегда был чрезвычайно доволен, когда видел меня в красивом платье или в красивой шляпе. Его мечта была видеть меня нарядной, и это его радовало гораздо более, чем меня. Наши денежные дела были всегда неважны, и нельзя было думать о нарядах. Но зато как бывал доволен и счастлив мой дорогой муж, когда ему случалось, и даже иногда против моего желания, купить или привезти мне из-за границы какую-нибудь красивую вещь. При каждой своей поездке в Эмс Федор Михайлович старался экономить, чтобы привезти мне подарок: то привез роскошный (резной) веер слоновой кости, художественной работы; в другой раз – великолепный бинокль голубой эмали, в третий – янтарную парюру (брошь, серьги и браслет). Эти вещи он долго выбирал, присматривался и приценивался к ним и был чрезвычайно доволен, если подарки мне нравились. Зная, как мужу было приятно дарить мне, я всегда, получая подарки, выказывала большую радость, хотя иногда в душе была огорчена тем, что покупал он не столько полезные, сколько изящные вещи. Помню, например, как мне было жаль, когда Федор Михайлович однажды, получив от Каткова деньги, купил в лучшем московском магазине дюжину сорочек, по двенадцати рублей штука. Конечно, я приняла подарок в видимом восхищении, но в душе пожалела денег, так как белья у меня было достаточно, а на затраченную сумму можно было бы купить многое мне необходимое.
Покупке роскошных сорочек предшествовал комический анекдот, очень меня потешивший. Как-то раз, часу во втором ночи, муж вошел в мою комнату и разбудил громким вопросом: «Аня, это твои сорочки?» – «Какие сорочки, вероятно, мои», – не понимала я спросонья. «Но разве можно носить такое грубое белье?» – говорил муж в негодовании. «Конечно, можно, не понимаю, про что ты говоришь, голубчик, дай мне спать!» Утром последовала разгадка прихода мужа и его возмущения. Горничная рассказала, как ее и кухарку сначала испугал, а затем удивил «барин». Вечером она выстирала свои две сорочки и вывесила их сушить на веревочку за окно. Ночью поднялся ветер, и замерзшие сорочки стали колотиться о стекло. Федор Михайлович, работавший у себя в кабинете, услышав стук и боясь, что шум разбудит детей, пошел в кухню, встал на табурет, отворил форточку и потихоньку вытянул вещи одну за одной. Затем тщательно развесил обе на веревке над плитой. Вот тут-то Федор Михайлович и рассмотрел белье (оно было, конечно, из грубого серого холста), ужаснулся и пришел меня разбудить. Утром я рассказала мужу, в чем дело, и он так смеялся своей ошибке. Когда я спросила, зачем он не разбудил горничную, муж ответил: «Да жалко было будить, ведь наработались в целый-то день, пусть отдохнут». Таково было всегдашнее отношение мужа к прислуге, от которой он лишних услуг для себя никогда не требовал.
Но особенно Федор Михайлович был доволен, когда, за два года до кончины, ему удалось подарить мне серьги с бриллиантами, по одному камню в каждой. Стоили они около двухсот рублей, и по поводу покупки их муж советовался с знатоком драгоценных вещей П. Ф. Пантелеевым. Помню, я одела в первый раз подарок на литературный вечер, на котором читал муж. В то время, когда читали другие литераторы, мы с мужем сидели рядом вдоль стены, украшенной зеркалами. Вдруг я заметила, что муж смотрит в сторону и кому-то улыбается; затем обратился ко мне и с восторгом прошептал: «Блестят, великолепно блестят!» Выяснилось, что при множестве огней игра моих камней оказалась хорошею, и муж был этим доволен как дитя…
Зная мою всегдашнюю скупость на мои наряды, он решился заняться этим делом сам: повез меня в меховой магазин Зезерина… и попросил старшего приказчика «на совесть» выбрать нам лисий мех на шубу и куний воротник. Приказчик (поклонник таланта мужа) накидал целую гору лисьих мехов и, указывая их достоинства и недостатки, выбрал, наконец, безукоризненный на назначенную (сто рублей) цену мех. Воротник из куницы почти на ту же цену оказался превосходным. У них же нашлись образчики черного шелкового атласа, которые Федор Михайлович просмотрел и на свет, и на цвет, и на ломкость. Когда зашел разговор о фасоне (ротонды только что начинали входить в употребление), Федор Михайлович попросил показать новинку и тотчас запротестовал против «нелепой» моды. Когда же приказчик, шутя, сообщил, что ротонду выдумал портной, желавший избавиться от своей жены, то муж мой объявил:
– А я вовсе не хочу избавляться от своей жены, а потому сшейте-ка ей вещь по-старинному, салоп с рукавами!
Видя, что заказ салопа так заинтересовал мужа, я не настаивала на ротонде. Когда через две недели салоп был принесен и я его надела, Федор Михайлович с удовольствием сказал:
– Ну, ты теперь у меня совсем замоскворецкая купчиха! Теперь я не буду бояться, что в нем ты простудишься…
18-го мая 1876 года произошел случай, о котором я вспоминаю почти с ужасом. Вот как было дело: в «Отечественных записках» того года печатался новый роман С. Смирновой под названием «Сила характера». Федор Михайлович был дружен с Софьей Ивановной Смирновой и очень ценил ее литературный талант. Заинтересовался он и последним ее произведением и просил меня доставлять ему книжки журнала по мере выхода их в свет. Я всегда выбирала те несколько дней, когда муж отдыхал от работы по «Дневнику писателя», и приносила ему «Отечественные записки». Но так как новые номера журналов обычно выдаются на два-три дня, то я всегда торопила мужа прочесть книжку, чтоб, во избежание штрафа, вовремя вернуть ее в библиотеку. То же случилось и с апрельской книжкой. Федор Михайлович прочел роман и говорил мне, как удался нашей милой Софии Ивановне (которую я тоже очень ценила) один из мужских типов этого романа. В тот же вечер муж уехал на какое-то собрание, а я, уложив детей, принялась за чтение «Силы характера». В романе, между прочим, было помещено анонимное письмо, посланное каким-то негодяем герою романа. Оно заключалось в следующем:
«Милостивейший государь,
благороднейший Петр Иванович!
Будучи совершенно незнакомой вам особой, но как я принимаю участие в ваших чувствах, то и осмеливаюсь прибегать к вам с сими строками. Ваше благородство мне достаточно известно, и мое сердце возмущалось от мысли, что, несмотря на ваше благородство, некая близкая вам особа так недостойно обманывает. Будучи от вас отпущена более, может быть, чем за тысячу верст, она, как голубица какая обрадованная, которая, распустивши свои крылья, возносится на поднебесье и не хочет вернуться в дом отчий. Вы ее отпустили себе и ей на погибель, в когти человека, коего она трепещет; но очаровал он ее своей льстивой наружностью, похитил он ее сердце, и нет ей милее очей, как его очи. Дети малые и те ей постылы, коли не скажет он ей слова ласкового. Коли хотите вы знать, кто он – этот злодей ваш, то я вам имени его не скажу, а вы посмотрите сами, кто у вас чаще бывает, да опасайтесь брюнетов. Коли увидите брюнета, что любит ваши пороги обивать, поприсмотритесь. Давно вам этот брюнет дорогу перешиб, только вам-то не в догадку.
А меня ничто, кроме вашего благородства, к этому не побуждает, чтобы вам эту тайну открыть. А коли вы мне не верите, так у вашей супруги на шее медальон повешен, то вы посмотрите, кого она в этом медальоне на сердце носит.
Вам навеки неизвестная,но доброжелательная особа».
Я должна сказать, что за последнее время я была в самом благодушном настроении: у мужа давно приступов эпилепсии не было, дети совершенно оправились от болезни, долги наши мало-помалу уплачивались, а успех «Дневника писателя» шел creszendo. Все это поддерживало во мне столь свойственное моему характеру жизнерадостное настроение, и вот под влиянием его, по прочтении анонимного письма у меня мелькнула в голове шаловливая мысль переписать это письмо (изменив и вычеркнув две-три строки, имя, отчество) и послать его на имя Федора Михайловича. Мне представлялось, что он, только вчера прочитавший это письмо в романе Смирновой, тотчас же догадается, что это шутка, и мы вместе с ним посмеемся. Промелькнула и другая мысль, что муж примет письмо всерьез; в таком случае меня интересовало, как он отнесется к полученному анонимному письму: покажет ли мне или бросит в корзину для бумаг? По моему обыкновению, что задумано, то и сделано. Сначала я хотела написать письмо своим почерком, но ведь я каждый день переписывала для Федора Михайловича стенограммы «Дневника», и почерк мой был ему слишком знаком. Следовало несколько замаскировать шутку, и вот я принялась переписывать письмо другим, более круглым, чем мой, почерком. Но это оказалось довольно трудно, и мне пришлось испортить несколько почтовых листков, прежде чем письмо было написано однообразно. Назавтра утром я бросила письмо в ящик, и оно среди дня было доставлено нам почтою вместе с другой корреспонденцией.