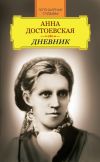Текст книги "Достоевский без глянца"

Автор книги: Павел Фокин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Здоровье
Александр Егорович Ризенкампф:
Прежде всего он был золотушного телосложения, и хриплый его голос при частом опухании подчелюстных и шейных желез, также землистый цвет его лица указывали на порочное состояние крови (на кахексию) и на хроническую болезнь воздухоносных путей. Впоследствии присоединились опухоли желез и в других частях, нередко образовались нарывы, а в Сибири он страдал костоедой костей голенных. Но он переносил все эти страдания стоически и только в крайних случаях обращался к медицинской помощи. Гораздо более его тревожили нервные страдания. Неоднократно он мне жаловался, что ночью ему все кажется, будто бы кто-то около него храпит; вследствие этого делается с ним бессонница и какое-то беспокойство, так что он места себе нигде не находит. В это время он вставал и проводил нередко всю ночь за чтением, а еще чаще за писанием разных проектированных рассказов. Утром он тогда был не в духе, раздражался каждой безделицей, ссорился с денщиком, отправлялся расстроенный в Инженерное управление, проклинал свою службу, жаловался на неблаговоливших к нему старших инженерных офицеров и только мечтал о скорейшем выходе в отставку…
Анна Григорьевна Достоевская:
Федор Михайлович страдал эмфиземой, катаром дыхательных путей. Дышал он тяжело, как через материю, сложенную вчетверо. По лестницам едва мог ходить. И вот, к примеру, поднимаемся мы к Полонскому на 5 этаж. Садится он и отдыхает на каждой площадке. Десяток знакомых проходит мимо, видит нас и раскланивается и, конечно, несет хозяевам весть: «идет Достоевский». Немудрено, что когда он входит, уже и хозяин и хозяйка в прихожей, и все наперебой начинают его раздевать, а он задыхается и не может сказать слова. Но чтобы не затруднять, и сам начинает помогать раздеванию, а всякое движение ему вредно. Дома был целый обряд его раздевания – минут десять…
Не любил, когда его спрашивали, как его здоровье, всегда сердился. Часто говорил: говорят про меня, что я угрюм и сердит, а они не знают того, что мне дышать нечем, что у меня воздуху не хватает, что я задыхаюсь. Я дышу как бы через платок.
Михаил Александрович Александров:
Федор Михайлович перед незнакомыми ему людьми любил выказать себя бодрым, физически здоровым человеком, напрягая для этого звучность и выразительность своего голоса….
«Священная болезнь»
Степан Дмитриевич Яновский:
Первая болезнь, для которой Федор Михайлович обратился ко мне за пособием, была чисто местною, но во время лечения он часто жаловался на особенные головные дурноты, подводя их под общее название кондрашки. Я же, наблюдая за ним внимательно и зная много из его рассказов о тех нервных явлениях, которые бывали с ним в его детстве, а также принимая во внимание его темперамент и телосложение, постоянно допускал какую-нибудь нервную болезнь.
Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912), писатель, публицист, журналист, издатель:
Падучая болезнь, которою он страдал с детских лет, много прибавила к его тернистому пути в жизни. Нечто страшное, незабываемое, мучащее случилось с ним в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь. В последние годы она как будто ослабела, сделалась реже, но была постоянно в зависимости от напряжения в труде, от огорчений, от жизненных неудач, от той беспощадности, которой так много в нравах русской жизни и русской литературы. Приступы ее он чувствовал и начинал страдать невыразимо; невольно закрадывался в душу страх смерти во время припадка, болезненный, тупой страх, тот дамоклов меч, который висит над такими несчастными на самой тончайшей волосинке. Конечно, мы все знаем, что когда-нибудь умрем, что, может быть, завтра умрем, но это общее положение: оно не страшит нас или страшит только во время какой-нибудь опасности. У Достоевского эта опасность всегда присутствовала, он постоянно был как бы накануне смерти: каждое дело, которое он затевал, каждый труд, любимая идея, любимый образ, выстраданный и совсем сложившийся в голове, – все это могло прерваться одним ударом. Сверх обыкновенных болезней, сверх обыкновенных случаев смерти у него был еще свой случай, своя специальная болезнь; привыкнуть к ней почти невозможно – так ужасны ее припадки. Умереть в судорогах, в беспамятстве, умереть в пять минут – надобна большая воля, чтоб под этой постоянной угрозой так работать, как работал он.
Под влиянием этой вечной угрозы перейти из этой жизни в другую, неведомую, у него образовался какой-то панический страх смерти, и смерти страшной, именно в образе его болезни. Проходил припадок, и он становился необыкновенно жив и говорлив. Однажды я застал его именно в то время, когда он только что освободился от припадка. Сидя за маленьким своим столом, он набивал себе папиросы и показался мне очень странным – точно он был пьян. «Не удивляйтесь, – глядя на меня, сказал он, – у меня сейчас был припадок».
Всеволод Сергеевич Соловьев:
Мне хотелось узнать что-нибудь достоверное об ужасной болезни – падучей, которою, как я слышал, страдал Достоевский, но, конечно, я не мог решиться даже и издали подойти к этому вопросу. Он сам будто угадал мои мысли и заговорил о своей болезни. Он сказал мне, что недавно с ним был припадок.
– Мои нервы расстроены с юности, – говорил он. – Еще за два года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь. Рассказать я не могу этих отвратительных ощущений; но живо их помню; мне часто казалось, что я умираю, ну вот, право – настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно – как только я был арестован – вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла, ни в пути, ни на каторге в Сибири и никогда потом я ее не испытывал – я вдруг стал бодр, крепок, свеж, спокоен… Но во время каторги со мной случился первый припадок падучей, и с тех пор она меня не покидает. Все, что было со мною до этого первого припадка, каждый малейший случай из моей жизни, каждое лицо, мною встреченное, все, что я читал, слышал, – я помню до мельчайших подробностей. Все, что началось после первого припадка, я очень часто забываю, иногда забываю совсем людей, которых знал хорошо, забываю лица. Забыл все, что написал после каторги; когда дописывал «Бесы», то должен был перечитать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц…
Софья Васильевна Ковалевская:
Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок. Впоследствии я слышала другую, совсем различную версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому подвергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга; которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет.
Как бы то ни было, вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.
Говорили они о том, что обоим всего было дороже, – о литературе, об искусстве и философии; коснулись наконец религии.
Товарищ был атеист, Достоевский – верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.
– Есть Бог, есть! – закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.
– И я почувствовал, – рассказывал Федор Михайлович, – что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! – закричал я, и больше ничего не помню.
– Вы все, здоровые люди, – продолжал он, – и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!
Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели как замагнетизированные, совсем под обаянием его слов. Вдруг, внезапно, нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок.
Николай Николаевич Страхов:
Припадки болезни случались с ним приблизительно раз в месяц, – таков был обыкновенный ход. Но иногда, хотя очень редко, были чаще; бывало даже и по два припадка в неделю. За границею, то есть при большем спокойствии, а также вследствие лучшего климата, случалось, что месяца четыре проходило без припадка. Предчувствие припадка всегда было, но могло и обмануть. В романе «Идиот» есть подробное описание ощущений, которые испытывает в этом случае больной. Самому мне довелось раз быть свидетелем, как случился с Федором Михайловичем припадок обыкновенной силы. Это было, вероятно, в 1863 году, как раз накануне Светлого воскресенья. Поздно, часу в одиннадцатом, он зашел ко мне, и мы очень оживленно разговорились. Не могу вспомнить предмета, но знаю, что это был очень важный и отвлеченный предмет. Федор Михайлович очень одушевился и зашагал по комнате, а я сидел за столом. Он говорил что-то высокое и радостное; когда я поддержал его мысль каким-то замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, показывавшим, что одушевление его достигло высшей степени. Он остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты.
Припадок на этот раз не был сильный. Вследствие судорог все тело только вытягивалось да на углах губ показалась пена. Через полчаса он пришел в себя, и я проводил его пешком домой, что было недалеко.
Много раз мне рассказывал Федор Михайлович, что перед припадком у него бывают минуты восторженного состояния. «На несколько мгновений, – говорил он, – я испытываю такое счастие, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь».
Следствием припадков были иногда случайные ушибы при падении, а также боль в мускулах от перенесенных ими судорог. Изредка появлялась краснота лица, иногда пятна. Но главное было то, что больной терял память и дня два или три чувствовал себя совершенно разбитым. Душевное состояние его было очень тяжело; он едва справлялся со своей тоскою и впечатлительностию. Характер этой тоски, по его словам, состоял в том, что он чувствовал себя каким-то преступником, ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство.
Анна Григорьевна Достоевская:
В последний день Масленицы (1867 г. – Сост.) мы обедали у родных, а вечер поехали провести у моей сестры. Весело поужинали (тоже с шампанским, как и давеча), гости разъехались, а мы остались посидеть. Федор Михайлович был чрезвычайно оживлен и что-то интересное рассказывал моей сестре. Вдруг он прервал на полуслове свою речь, побледнел, привстал с дивана и начал наклоняться в мою сторону. Я с изумлением смотрела на его изменившееся лицо. Но вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, вернее, вопль, и Федор Михайлович начал склоняться вперед. В то же время раздался громкий крик моей сестры, сидевшей рядом с моим мужем. Она вскочила с кресла и с истерическими рыданиями выбежала из комнаты. Мой зять бросился за нею.
Впоследствии мне десятки раз приходилось слышать этот «нечеловеческий» вопль, обычный у эпилептика в начале приступа. И этот вопль меня всегда потрясал и пугал. Но тогда, к моему удивлению, я в эту минуту нисколько не испугалась, хотя видела припадок эпилепсии в первый раз в жизни. Я обхватила Федора Михайловича за плечи и силою посадила на диван. Но каков же был мой ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана, а у меня нет сил его удержать. Отодвинув стул с горевшей лампой, я дала возможность Федору Михайловичу опуститься на пол; сама я тоже опустилась и все время судорог держала его голову на своих коленях. Помочь мне было некому: сестра моя была в истерике, и зять мой и горничная хлопотали около нее. Мало-помалу судороги прекратились, и Федор Михайлович стал приходить в себя; но сначала он не сознавал, где находится, и даже потерял свободу речи: он все хотел что-то сказать, но вместо одного слова произносил другое, и понять его было невозможно. Только, может быть, через полчаса нам удалось поднять Федора Михайловича и уложить его на диван. Решено было дать ему успокоиться, прежде чем нам ехать домой. Но, к моему чрезвычайному горю, припадок повторился через час после первого, и на этот раз с такой силою, что Федор Михайлович более двух часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное! Впоследствии двойные припадки бывали, но сравнительно редко, а на этот раз доктора объяснили чрезмерным возбуждением, которое было вызвано шампанским, выпитым Федором Михайловичем во время наших свадебных визитов и устроенных в честь «молодых» обедов и вечеров…
Пришлось нам остаться ночевать у моей сестры, так как Федор Михайлович чрезвычайно обессилел, да и мы боялись нового припадка. Какую ужасную ночь я провела тогда! Тут я впервые увидела, какою страшною болезнью страдает Федор Михайлович. Слыша его не прекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страдания, совершенно непохожее на него лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой, любимый муж сходит с ума, и какой ужас наводила на меня эта мысль!
Но, славу Богу, Федор Михайлович, проспав несколько часов, настолько оправился, что мы могли уехать домой. Но то удрученное и подавленное настроение, которое всегда наступало после припадка, продолжалось более недели. «Как будто я потерял самое дорогое для меня существо в мире, точно я схоронил кого, – таково мое настроение» – так всегда определял Федор Михайлович свое послеприпадочное состояние. Этот двойной припадок навсегда остался тяжелым для меня воспоминанием.
Михаил Александрович Александров:
Я никогда не видел этих припадков, но мне рассказывала о них Анна Григорьевна. Она говорила, между прочим, что обыкновенно Федор Михайлович за несколько дней предчувствовал приближение их. При появлении известных предвестников принимались всевозможные предосторожности: так, между прочим, Федор Михайлович несколько дней не выходил из дома; днем домашние, то есть главным образом Анна Григорьевна, следили за ним, а на ночь возле его постели на диване стлалась другая постель на полу, на случай припадка во время сна. Благодаря этим предосторожностям, опасные последствия припадков предупреждались и тем самым смягчались, иначе легко могло случиться, что Федор Михайлович мог в припадке упасть на улице и разбиться о камни. При всем том, эти припадки так измучивали и обессиливали Федора Михайловича, что он потом оправлялся от каждого из них три-четыре дня; в эти дни он уже ничего не мог делать и никого не принимал, кроме Анны Григорьевны, которая одна в таких случаях умела ухаживать за ним…
Анна Григорьевна Достоевская:
Я вспоминаю о днях нашей совместной жизни как о днях великого, незаслуженного счастья. Но иногда я искупала его великим страданием. Страшная болезнь Федора Михайловича в любой день грозила разрушить все наше благополучие. Четыре месяца это, пожалуй, был самый большой промежуток между его припадками. Но бывали они и через неделю. Бывали и такие ужасные полосы, когда на неделе случалось два припадка, бывало даже так, что через час после одного начинался второй. Начиналось это обычно страшным нечеловеческим криком, какого нарочно никогда не произнести. Очень часто я еще успевала перебежать из своей комнаты через промежуточную, заваленную книгами, к нему и застать его, стоявшего с искаженным лицом и шатающегося. Я успевала обнять его сзади и потом опуститься на пол.
Большей частью катастрофа застигала ночью, но бывало это и днем. Он и спал не на постели, а на низеньком широком диване на случай падения. Он ничего не помнил, приходя в себя. Потом жалко и вопросительно произносил: «Припадок?» – «Да, – отвечаю я, – маленький!». – «Как часто! Кажется, был недавно». – «Нет, уж давно не было», – успокаивала я.
После припадка он впадал в сон, но от этого сна его мог пробудить листок бумаги, упавший со стола. Тогда он вскакивал и начинал говорить слова, которых постигнуть невозможно. Ни предотвратить, ни вылечить этой болезни, как вы знаете, нельзя. Все, что я могла сделать, это – расстегнуть ему ворот, взять его голову в руки. Но видеть любимое лицо, синеющее, искаженное, с налившимися жилами, сознавать, что он мучается, и ты ничем не можешь ему помочь, – это было таким страданием, каким, очевидно, я должна была искупать свое счастье близости к нему. Дня четыре после каждого приступа он был разбит физически и духовно – в особенности ужасно было его нравственное страдание.
Период жизни со мною был еще сравнительно более здоровым для Федора Михайловича. Раньше припадки были еще чаще. К концу жизни они стали реже. И каждый раз Федору Михайловичу казалось, что он умирает.
Всеволод Сергеевич Соловьев:
По зимам 76–77 и 77–78 годов мы продолжали довольно часто видаться. И хотя мы жили на двух противоположных концах города, Достоевский иногда проводил у меня вечера.
Он приезжал ко мне почти всегда после своих мучительных припадков падучей болезни, так что некоторые наши общие знакомые, узнавая, что у него был припадок, так и говорили, что его нужно искать у меня.
Бедный Федор Михайлович имел достаточно времени привыкнуть к своим припадкам, привыкали к ним и их последствиям и его старые знакомые, которым все это уже не казалось страшным и считалось обыкновенным явлением. Но он бывал иногда совершенно невозможен после припадка; его нервы оказывались до того потрясенными, что он делался совсем невменяемым в своей раздражительности и странностях.
Придет он, бывало, ко мне, войдет как черная туча, иногда даже забудет поздороваться и изыскивает всякие предлоги, чтобы побраниться, чтобы обидеть; и во всем видит и себе обиду, желание дразнить и раздражать его… Все-то у меня ему кажется не на месте и совсем не так, как нужно, – то слишком светло в комнате, то так темно, что никого разглядеть невозможно… Подадут ему крепкий чай, какой он всегда любил, – ему подают пиво вместо чая! Нальют слабый – это горячая вода!..
Пробуем мы шутить, рассмешить его – еще того хуже: ему кажется, что над ним смеются…
Впрочем, мне почти всегда скоро удавалось его успокоить. Нужно было исподволь навести его на какую-нибудь из любимых его тем. Он мало-помалу начинал говорить, оживлялся, и оставалось только ему не противоречить. Через час он уже бывал в самом милом настроении духа. Только страшно бледное лицо, сверкающие глаза и тяжелое дыхание указывали на болезненное его состояние.
Долги и доходы
Николай Николаевич Страхов:
Обыкновенно ему приходилось торопиться, писать к сроку, гнать работу и нередко опаздывать с работою. Причина состояла в том, что он жил одною литературою и до последнего времени, до последних трех или четырех лет, нуждался, поэтому забирал деньги вперед, давал обещания и делал условия, которые потом и приходилось выполнять. Распорядительности и сдержанности в расходах у него не было в той высокой степени, какая требуется при житье литературным трудом, не имеющим ничего определенного, никаких прочных мерок. И вот он всю жизнь ходил, как в тенетах, в своих долгах и обязательствах и всю жизнь писал торопясь и усиливаясь.
Анна Григорьевна Достоевская:
Я хочу объяснить, как именно явились эти столь замучившие нас обоих долги.
Лишь самая малая доля их, тысячи две-три, была сделана лично Федором Михайловичем. Главным же образом то были долги Михаила Михайловича по табачной фабрике и по журналу «Время». После неожиданной смерти Михаила Михайловича (он проболел лишь три дня) семья его, жена и четверо детей, привыкшие к обеспеченной, даже широкой жизни, остались без всяких средств. Федор Михайлович, к тому времени овдовевший и не имевший детей, счел своею обязанностью заплатить долги брата и поддержать его семью. Возможно, что ему и удалось бы исполнить свое благородное намерение, если бы он имел осторожный и практический характер. К сожалению, он слишком верил в людскую честность и благородство. Когда впоследствии я слышала рассказы очевидцев о том, как Федор Михайлович выдавал векселя, и из старинных писем узнавала подробности многих фактов, то поражалась его чисто детской непрактичностью. Его обманывали и брали от него векселя все, кому было не совестно и не лень. При жизни брата Федор Михайлович не входил в денежную часть журнала и не знал, в каком положении дела находятся. Когда же после смерти Михаила Михайловича мужу пришлось взять на себя издание журнала «Эпоха», то пришлось взять на себя и все оставшиеся неуплаченными долги по изданию журнала «Время», по типографии, бумаге, переплетной и проч. Но, кроме известных Федору Михайловичу сотрудников «Времени», к нему стали являться люди, большею частью совершенно ему неизвестные, которые уверяли, что покойный Михаил Михайлович остался им должен. Почти никто не представлял тому доказательств, да Федор Михайлович, веривший в людскую честность, их и не спрашивал. Он (как мне передавали) обыкновенно говорил просителю:
– Сейчас у меня никаких денег нет, но, если хотите, я могу выдать вексель. Прошу вас только скоро с меня не требовать. Уплачу, когда будет можно.
Люди брали векселя, обещали ждать и, конечно, не исполняли обещаний, а взыскивали немедленно. Приведу случай, правдивость которого мне пришлось проследить по документам.
Один малоталантливый писатель X., помещавший свои произведения во «Времени», явился к Федору Михайловичу с просьбою уплатить ему двести пятьдесят рублей за повесть, помещенную в журнале еще при жизни Михаила Михайловича. По обыкновению, денег у мужа не оказалось, и он предложил вексель. X. горячо благодарил, обещал ждать, когда у Федора Михайловича поправятся дела, а вексель просил дать бессрочный, чтобы не иметь надобности по наступлении срока его протестовать. Каково же было изумление Федора Михайловича, когда через две недели с него потребовали по этому векселю деньги и хотели приступить к описи имущества. Федор Михайлович поехал к X. за объяснением. Тот смутился, стал оправдываться, уверять, что хозяйка грозила прогнать его с квартиры, и он, доведенный до крайности, отдал ей вексель Федора Михайловича, взяв с нее слово, что она подождет взыскивать деньги. Обещал еще раз поговорить с нею, убедить ее и т. д. Разумеется, из переговоров ничего не вышло, и Федору Михайловичу пришлось за большие проценты занять деньги для уплаты этого долга.
Лет через восемь, пересматривая по какому-то случаю бумаги Федора Михайловича, я нашла записную книжку по редакции «Времени». Представьте мое удивление и негодование, когда я нашла в ней расписку писателя X. в получении от Михаила Михайловича денег за эту же повесть! Я показала расписку мужу и услышала в ответ:
– Вот уж не думал, что X. способен был меня обмануть! До чего доводит человека крайность!
По моему мнению, значительная часть взятых на себя Федором Михайловичем долгов была подобного рода. Их было около двадцати тысяч, а с наросшими процентами, к нашему возвращению из-за границы, оказалось около двадцати пяти. Уплачивать нам пришлось в течение тринадцати лет. Лишь за год до смерти мужа мы, наконец, с ними расплатились и могли дышать свободно, не боясь, что нас будут мучить напоминаниями, объяснениями, угрозами описи и продажи имущества и проч.
Для уплаты этих фиктивных долгов Федору Михайловичу приходилось работать сверх сил и тем не менее отказывать и себе, и всей нашей семье не только в довольстве, в комфорте, но и в самых насущных наших потребностях. Как счастливее, довольнее и спокойнее могли бы мы прожить эти четырнадцать лет нашей супружеской жизни, если бы над нами не висела всегда забота об уплате долгов…
Эти взятые на себя долги были вредны Федору Михайловичу и в экономическом отношении: в то время когда обеспеченные писатели (Тургенев, Толстой, Гончаров) знали, что их романы будут наперерыв оспариваться журналами, и они получали по пятьсот рублей за печатный лист, необеспеченный Достоевский должен был сам предлагать свой труд журналам, а так как предлагающий всегда теряет, то в тех же журналах он получал значительно меньше. Так, он получил за романы «Преступление и наказание», «Идиот» и «Бесы» по полтораста рублей за печатный лист; за роман «Подросток» – по двести пятьдесят рублей и только за последний свой роман «Братья Карамазовы» – по триста рублей.
Николай Николаевич Страхов:
«Дневник писателя» на 1876 год имел 1982 подписчика, и кроме того в розничной продаже каждый номер расходился в 2000–2500 экземплярах. Некоторые номера потребовали 2-го и даже 3-го издания, например январский.
В 1877 году было около 3000 подписчиков и столько же расходилось в розничной продаже.
Один номер, выпущенный в 1880 году (август) и содержавший в себе речь о Пушкине, был напечатан в 4000 экземплярах и разошелся в несколько дней. Было сделано новое издание в 2000 экз. и разошлось без остатка.
«Дневник» на 1881 год печатался в 8000 экземплярах и имел в январе, прежде выхода первого номера, 1074 подписчика. Все 8000 были распроданы в дни выноса и погребения. Сделано было второе издание в 6000 экземплярах и разошлось без остатка…
В 1873 году 24-го января вышли «Бесы» в 3500 экземплярах.
В 1874 году, 24-го января «Идиот» в 2000 экземплярах, а 21-го декабря 1875 года «Записки из Мертвого дома» в 2000 экземплярах.
В 1876 году 18-го декабря «Преступление и наказание» в 2000 экземплярах.
В 1879 году 10-го ноября «Униженные и оскорбленные» в 2400 экземплярах.
В конце 1880 года «Братья Карамазовы» в 4000 экземплярах.
Федор Михайлович необыкновенно радовался поправлению своих денежных дел. Он истинно гордился не только успехом своих сочинений, но и тем, что они дают ему хороший доход, позволили ему расплатиться с долгами и принесли ему достаток. Вспоминая о тех трудах, в которых он прожил свою жизнь, он иногда горько жаловался на свою судьбу и особенно мучился мыслью, что если скоро умрет (а плохое здоровье часто наводило на эти мысли), то оставит семью в бедности. Поэтому всякий успех в денежных делах был ему истинною отрадою, давал ему надежду на лучшую судьбу дорогих ему существ, утешал и оправдывал его в собственных его глазах. В одной из его записных книг сохранился листок, на котором он тщательно подводил итог чистого дохода, выручавшегося со всех его изданий. Во эта записка:
В 1877 году
«Преступление и наказание» продано на – 487 р. 12 к.
Переплетенных экземпляров «Дневника» 1876 г. – 497 р. 80 к.
«Бесы», «Идиот», «Записки из Мертвого дома» – 561 р. 63 к.
От 1876 года – + 295 р. 40 к.
Итого – 1841 р. 95 к.
В 1878 году
«Бесы», «Идиот» и «Записки из Мертвого дома» – 1199 р. 50 к.
«Преступление и наказание» – 548 р. 98 к.
Переплетенных экземпляров 1877 года – 346 р. 50 к.
Переплетенных экземпляров 1876 года – 281 р. 68 к.
Итого – 2376 р. 66 к.
В 1879 году
«Бесы», «Идиот» и «Записки из Мертвого дома» – 1271 р. 99 к.
«Преступление и наказание» – 797 р. 16 к.
Переплетенных «Дневника» 1877 года – 121 р. 2 к.
Переплетенных «Дневника» 1876 года – 98 р. 61 к.
+ «Униженные и оскорбленные» – 227 р. 24 к.
Итого – 2516 р. 2 к.
В 1880 году
«Бесы», «Идиот» и «Записки из Мертвого дома» – 1287 р. 20 к.
«Преступление и наказание» – 933 р. 99 к.
«Дневник» 1877 года – 219 р. 14 к.
«Дневник» 1876 года – 247 р. 6 к.
Итого – 2687 р. 39 к.
+ «Униженные и оскорбленные – 548 р. 51 к.
+ «Дневник» 1880 года – 893 р. 87 к.
Итого – 4129 р. 77 к.
«Братья Карамазовы» – 3681 р. 50 к.
Всего – 7811 р. 27 к.
Прибавим к этому для полного понятия о делах Федора Михайловича те суммы, какие получались за новые романы, печатавшиеся в журналах. За «Подростка», печатавшегося в «Отечественных записках», получалось по 250 р. с печатного листа; за «Братьев Карамазовых» по 300 р.
В 1878 году Федор Михайлович в последний раз обращался с просьбой о деньгах к редакции «Русского вестника», так долго и радушно поддерживавшей своего сотрудника и большими и малыми ссудами. После 1878 года уже никаких займов не делалось и началось собирание небольшого капитала.
Анна Григорьевна Достоевская:
Под Новый год, 30 и 31 дек<абря> он сводил счеты по продаже в том году наших изданий и был донельзя доволен, если книги шли хорошо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?