Текст книги "Энциклопедия русской православной культуры"
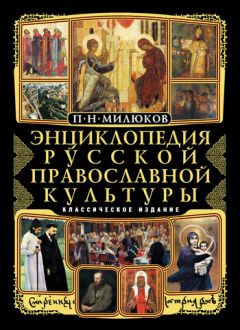
Автор книги: Павел Милюков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Еще больше хотел приблизить философию В. С. Соловьева к учению положительной религии его ученик и друг Евгений Николаевич Трубецкой в двухтомной работе «Миросозерцание В. С. Соловьева» (1913). Космогония Соловьева представляется ему слишком близкой к Шеллингу и все еще пантеистической. Бог и мир у Соловьева, по его мнению, слишком перемешаны и взаимонезависимы. Поэтому он не мог выработать учения о свободе. Точно так же и «София» – выражение Божественной Премудрости, слишком близко поставлена к миру, составляя как бы его сущность. При такой тесной связи божественного начала с миром нельзя объяснить происхождение зла. Поэтому E. Н. Трубецкой учит, что для земного человечества «София» есть только идеал, который свободная личность может либо принять, либо отвергнуть. Бог и мир свободны друг от друга; иначе нельзя бы было понять отношения любви со стороны Бога и вражды со стороны человека. Поставив, таким образом, в центр учения добровольное принятие божественного начала богочеловеческой личностью, Трубецкой ищет дальнейшего сближения с положительной верой в принятии таинства евхаристии как способа слияния с Божеством и в защите поклонения иконам.
Приближение революционных событий отвлекло внимание широких кругов интеллигенции от религиозных вопросов, ее религиозно-философские настроения раздвоились и пошли по разным руслам. Наиболее проникшаяся богословскими идеями небольшая группа мыслителей, преимущественно в Москве, оставшейся вдали от событий, продолжала дело сближения философии с положительной религией, начатое братьями Трубецкими. Очень часто религиозное настроение этой группы приобретало определенный политический, именно консервативный оттенок. Другое течение, напротив, стало ближе к политической борьбе и в то же время повело себя свободнее в области религиозно-философского новаторства. Оно нашло особенно яркое выражение в Петербурге, где по инициативе Мережковских было организовано в 1902 г. «Религиозно-философское общество», привлекавшее в течение двух следующих лет большое внимание интеллигенции.

Ф. М. Достоевский
У обоих упомянутых течений были свои предшественники в XIX в. Такими оказались два великих русских писателя – Достоевский и Толстой. Оба были самоучками в богословии, и обоих поэтому нельзя ввести в цепь развития русской светской богословской мысли. Но они сделали чрезвычайно много для распространения в умах как интеллигенции, так и более широких кругов религиозных настроений. Влияние Достоевского, проявившего склонность вернуться к традиционной церковности, обнаружилось, главным образом, уже после его смерти. Напротив, влияние Толстого, отошедшего далеко от православия и навлекшего на себя – в известном смысле вполне правильно – отлучение Синода, было прижизненным. Оно шло далеко за пределы так называемого «толстовства», – с одной стороны, в ряды русского сектантства, с другой, – в международные круги, увлеченные демократизмом и рационализмом его морали. В дальнейшем это воздействие должно было ослабеть, ибо учение Толстого было, прежде всего, слишком индивидуально, а затем, по своим предпосылкам, по своему отрицанию божественности Христа и бессмертия души, не говоря уже об отрицании таинств и церковности, выходило уже слишком далеко за пределы того, что было доступно для «богоискательства», остающегося на почве откровенной религии. Для религиозного сознания оно сохраняло слишком мало, а для философии – слишком много от религии.
Возвращаясь теперь к охранительному течению русского богословия XX в., мы прежде всего заметим, что, сливаясь с ортодоксальным учением Церкви, оно в то же время перестает быть светским. Два главных писателя этого направления, П. Флоренский и С. Булгаков (известный нам борьбою за «идеализм»), стали священниками. П. Флоренскому принадлежит обширная работа, построенная на пристальном изучении не только святоотеческих писаний, но и философской литературы, по всем вопросам, чем-нибудь связанным с его «православной теодицеей». Книга о. Флоренского «С толп и утверждение истины» (1914) имела чрезвычайно большое влияние на последующих представителей того же течения богословской мысли. О «мысли» в собственном смысле, впрочем, здесь трудно говорить, ибо Истина, составляющая предмет книги, переносится автором из области познаваемого всецело в область мистического. «Рассудок не принимает» необходимых для усвоения Истины построений. Самое большое, на что рассудок способен, – это дойти до своего «идеального предела» и принять, «как регулятивный принцип», возможность «потустороннего, запредельного, трансцендентального образования». Свое исходное отношение к этому непостигаемому и непостижимому Флоренский определяет известной формулой Тертуллиана и Паскаля: credo, quia absurdum – верю, потому что нелепо, «верю, вопреки стонам рассудка, хочу быть безрассудным». Утвердившись на достигнутой ступени веры и признав, что «вера есть источник высшего разумения», богоискатель переходит затем к формуле Ансельма Кентерберийского: credo, ut intelligam – верю, чтобы понять. И только перескочив через новые девять веков, от Ансельма до нашего времени, верующий удостоверяется, что он «не только верит, но и знает». И он, «радостный, взывает»: «intelligo, ut credam – понимаю, чтобы верить».
Что же именно, непостижимое, составляет предмет веры и является Истиной с большой буквы? Флоренский ставит в центр православного разумения и «дискурсивной интуиции» догмат Святой Троицы. Рациональный подход к нему возможен путем, уже указанным Соловьевым: преодоление скептического и иллюзионистского мировоззрения требует признания абсолютного начала. Начало это вопреки закону тождества раскрывается в троичном понятии: «Я», которое выходит в «не-Я» – в «другое», и созерцает себя при помощи «третьего». «Такое сочетание терминов для рассудка не имеет и не может иметь смысла, ничего не обозначает». Но тут и является на помощь вера. Выхождение «Я» из себя в «не-Я» с этой точки зрения уже не есть предельное логическое рассуждение разума, а начальный акт «любви». Конечно, здесь разумеется не «эмпирическое» понятие любви, не психофизиология любви, не «альтруистические эмоции и стремление к благу человечества, а нечто мистическое». «Истинная любовь есть выход из эмпирического и переход в новую действительность». Это есть «вхождение в божественную жизнь, которое в самом богообщающемся субъекте сознается им, как ведение Истины». Такое состояние может быть достигнуто, однако, лишь «при истечении, влиянии в другого силы Божией, расторгающей узы человеческой конечной самости». Эти «невыразимые, несказанные, неописуемые переживания… не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречия», антиномии, которые в природе и в духе человеческом не только непонятны, но и не должны быть понимаемы в порядке логическом. «Как идеальную, предельную границу, где снимается противоречие, мы ставим догмат». А рассудок, который хочет понять антиномию, исключив из нее противоречие, совершает односторонний «выбор» или, по-гречески, «ересь» (hairesis). Такой «выбор», например, сделало арианство, попытавшись понять непонятное разумом «единосущие» ипостасей Святой Троицы и подставив вместо него понятное, но «еретическое» «подобосущие» (вместо homousia – homoiusia).

Портрет о. Сергия Булгакова. Париж, 1940-е гг.
Процесс приятия Истины путем «переживания» ее есть процесс длительный. Флоренский принимает учение св. Григория Богослова о последовательности восприятия догмата Святой Троицы от Ветхого Завета к Новому и от Нового к современности. «Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, но не с такой ясностью – Сына. Новый открыл Сына и дал указания о Божестве Духа. Ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о нем понятие». Явление Духа есть и явление Царства Божия: это понятия тожественные. Но и то, и другое придет в полноте лишь «в Конце Истории». Теперь лишь приближение к ним доступно немногим аскетам или отшельникам. Признаком усвоения Духа является ощущение этими немногими «божественного света» (это напоминает учение «исихастов» о свете фаворском). Напротив, всякое «самоутверждение личности, противопоставление ее Богу» есть путь к мраку, к «дроблению, распаду, обеднению личности», при котором «душа теряет свое субстанциональное единство и подпадает греху». Бог тут ни при чем, ибо «акт миротворения… должен мыслиться свободным, т. е. из Бога происходящим не с необходимостью», и «существование твари никак не выводимо из идеи Истины».
Предел греха есть «геенна», «бунт» против Бога, «отрицание догмата троичности», что становится началом тьмы, небытия или «призрачного бытия». Но тут является новая антиномия. Как совместить правосудие Божие, осуждающее грешника на гибель, с «милосердием» Божиим, по которому все должны спастись? Ответ недоступен для разума. Но Флоренский все-таки дает его, опираясь на притчу о талантах. «Дело» зарывшего талант «сгорит» на последнем суде. Но «сам он спасется», ибо человек есть «храм Божий», и в нем живет Дух Божий. Спасется «Богосознание», образ Божий, а погибнет «самосознание», «самость», «душа», от которой отделится «дух». Уже Гомер представлял себе, что «призрак» человека может мучиться в аду, а сам он – пребывать в горнем мире.

М. Нестеров. Философы. Двойной портрет философов П. Флоренского и С. Булгакова
В вопросах об отношении Бога к миру и человеку и о Церкви Флоренский тщательно охраняет границы православия от домыслов светского богословия. Но в то же время он подтверждает те из них, для которых на ходит подкрепление в святоотеческих писаниях. Прежде всего, строя свое учение на мистическом восприятии, он отгораживается от «ложной мистики» оргиастических культов сектантства и теософической мистики Индии. Первая есть мистика «живота», вторая – мистика «головы». И «только мистика средоточия человеческого существа, “сердца”, открывает доступ благодати в человека». Это – мистика «целомудрия» и «чистоты», которые не исключают, однако, восторга православного аскета перед «красотой твари». Подвижнику «открывается вечная и святая сторона всякой твари». Последняя цель подвига – «достигнуть нетления и обожения духа через стяжание Духа». «Созерцая безусловную ценность тварей», подвижник приготовляет себя к лицезрению «любви Божией», сказавшейся в создании мира, т. е. Софии, – «четвертого ипостасного элемента» Троицы. Учение Соловьева о Софии Флоренский считает «тонко-рационалистическим по форме, вещным по содержанию» и «несомненно примыкающим к савеллианству, к спинозизму, к шеллингизму». Сам он, опираясь на Григория Богослова, Афанасия Великого и Климента Александрийского, принимает предсуществление мира в умопредставлении Бога как совокупность «образов» «идеальной личности твари», человека и невидимой Церкви. Степени раскрытия Софии в творении Флоренский определяет так: «Если София есть вся тварь, то душа и совесть твари, Человечество – есть София по преимуществу. Если София есть все человечество, то душа и совесть человечества, Церковь, есть София по преимуществу. Если София есть Церковь, то и душа и совесть Церкви, Церковь Святых, есть София по преимуществу, Если София есть Церковь Святых, то душа и совесть Церкви Святых… Матерь Божия, – есть София по преимуществу. Но истинным знамением Марии Благодатной является Девство Ее. Это и есть София». Многообразие значений Софии Флоренский затем подтверждает изображениями Софии в русской иконографии.
Книга Флоренского дошла до крайних пределов допустимого и с трудом была пропущена духовным начальством как академическая диссертация.
Она очертила границу возможного православного богословствования и в этом отношении явилась руководством для последующих богословов этого направления. Впрочем, ближайший из них, о. Сергий Булгаков, натура менее эмоциональная, не пользуется даже тем относительным простором, который сохраняет за собой Флоренский. Богословие у него еще более освобождается от философских придатков, и многое, оставленное Флоренским в тумане, доказывается в смысле дальнейшего ограничения церковной традицией. Так, подчеркивая творение мира из ничего, он старается отделить Бога от мира на большее расстояние, чем это чувствуется в поэтической фразеологии Флоренского. Усиливается вместе с тем необходимость влияния свыше благодати для спасения от греха. Не только абстрактная мысль, но и мистическое самопогружение получают значение только в связи с религиозным откровением. Идея антиномизма всецело приемлется Булгаковым, но разумная сторона антиномии резче разграничивается с иррациональной, алогической, мистической, и Булгаков не так уже боится, отрицая рассудочные системы пантеистической эманации, вернуться к традиционному дуализму.
На этом компромиссе с официальным богословием не хочет остановиться неистовый ницшеанец Н. А. Бердяев. Он находит, что «на мучения и вопрошения Ницше нет ответа в катехизисах и поучениях старцев… Душа человека стала иной», и «те, которые познали безмерную свободу духа и в свободе вернулись к христианской вере, те не могут зачеркнуть и изгладить из своей души этот опыт…» Эти люди «несут с собой в христианство особый дух свободы». «Ответственное христианское сознание нашего времени не может делать вид, что со времени Вселенских соборов и споров учителей Церкви ничего особенного не произошло». Нет, «страшно изменился человек, новыми грехами он болеет… Человек прошел через Гамлета и Фауста, через Ницше и Достоевского, через гуманизм, романтизм и революционизм, через философию и науку нового времени, – и зачеркнуть пережитого нельзя». «Ныне нужно творчески продолжать дело старых учителей Церкви, а не повторять их ответы на старые вопросы». И Бердяев гордо называет свое богословие «философией свободного духа».

Н. А. Бердяев
После такого подхода можно было бы ждать радикальных решений. Но в основу своего учения Бердяев берет учение Флоренского, повторяя его до мельчайших подробностей. Разница с Булгаковым, однако, в том, что Бердяев как раз выдвигает алогическую сторону книги Флоренского. Мистический «опыт» удовлетворяет его стремление «сохранить индивидуальность утонченной человеческой души» от обезличения ее в пантеизме и в то же время, вопреки дуализму «школьного богословия», выдвинуть ее богочеловеческое начало. Мистика выше пантеизма и дуализма, ибо ее язык непереводим на язык философии и разума. Она и надконфессиональна; мистики всех времен и народов перекликаются друг с другом на одном, им понятном языке. Наконец, мистика «аристократична», ибо для погружения в нее надо иметь особый орган познания. Обычное христианство заботится о среднем человеке и для него вырабатывает свое экзотерическое учение, скрывая и даже опасаясь углубления в «тайну». Но ведь «христианство существует не только для простых душ, но и для душ сложных и утонченных» – для людей «аристократического типа», в противоположность мещанскому, «демократическому». Этим своего рода сверхчеловекам Ницше не нужно даже обычного пути к мистике – не нужно аскетизма и монашества, им «даром дан дар». «Можно быть святым и не иметь мистической озаренности (gratia gratis data), и можно иметь мистическую озаренность и не быть святым». Мистика этого рода, в противоположность «ангельскому чину» и священству, «пророческая», проникнутая эсхатологическими предчувствиями, свойственными поколению Бердяева. «Профетическая мистика есть мистика Духа. Это есть русский тип мистики… мистика сердца, как центра духовной жизни… светлая, радостная… стремящаяся к обожению мира и человека». Эта мистика отличается от «ложной мистики телесной» – оргиастов и хлыстов, так же как и от душевной, «психологической» мистики совершенствования души. В отличие от «душевной» (психе) эта мистика «духовна» (пневма). Она есть «познание тайн бытия».

Русское богоискательство: З. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Философов. Шарж Ре-Ми. Журнал «Сатирикон», 1910, № 2
Встав, таким образом, на позицию алогизма, Бердяев уже свободно расправляется со всем, что носит характер рационализирования в богословии. Все доступное наблюдению и рассуждению, включая содержимое душевной жизни человека, «натуралистично», «природно». «Прорыв» в область абсолютной истины возможен только путем, противоположным познанию, – с помощью «символа» и «мифа». «Живое знание мифологично… Миф есть реальность несоизмеримо большая, нежели понятие». Прометей, Дионис, грехопадение Адама и Евы, троичность Божества и вообще все догматы недоступны рациональному познанию, ибо они мифологичны. Таким образом, Бердяев ставит путь «мистического опыта» выше попыток догматического богословствования. «Догматы – мистические факты, факты духовного опыта».
Освобождение от этих «авторитетов» и «критериев» служит Бердяеву преддверием к тому «духовному творчеству» нового, утонченного человека, которое признано обновить христианство. Это совсем не модернизм, не теософия в обычном смысле слова, даже не вполне гнозис. Это, прежде всего, динамика в противоположность статике ходячего богословствования. Оно обращено не к прошлому, а к будущему. Это творческое продолжение и завершение «богочеловеческого процесса», активное приближение к Царству Божию, к «обожению» твари и человека. Цель эта, конечно, может быть достигнута лишь в Церкви, – но не в той внешней Церкви обрядов и таинств, для которой существуют приспособленные к среднему человеку учения «школьного богословия», а в Церкви невидимой. К ней принадлежат мистики всех времен и народов, это настоящий «род нового Адама». Невидимая Церковь и сейчас уже вселенская. Для нее разделения церквей не существует, поэтому и вопрос об их соединении не имеет значения. «Религия личного спасения» – Церковь, как «лечебное заведение», тоже отходит тут на второй план. В невидимой Церкви сосредоточивается вся творческая жизнь; в ней «цветет красота космической жизни… в ней творил Шекспир, Гете, Пушкин… достиг вершины гнозиса Я. Беме, пережил трагедию распятого Диониса Ницше… Раскрытие жизни богочеловечества в Церкви связано с христианским учением о Новом Адаме, о новом духовном роде человеческом, идущем от Христа». Процесс идет не сверху вниз, а снизу вверх. «Человек, а не ангел поднимается до недр Святой Троицы… Значение ангельской, священнической иерархии не может быть распространено на активную творческую жизнь человека в обществе и культуре». Вождем в этом восхождении от человеческого к божескому является пророк. «Он есть источник творческого движения в религиозной жизни, он не допускает окостенения и омертвения религиозной жизни, он дышит стихией свободы. Он не уходит из мира для спасения души, он стремится к совершенству человечества и мира, а не только личности… Все будущее христианства, вся его способность к возрождению зависит от того, будет ли признано в христианстве пророчество». На этой ноте заканчивается «философия свободного духа». Хотя автор и признает, что «самого главного не умеет объяснить и сокровенных мыслей своих не умеет развить», но основная тенденция его учения ясна. Ее можно сравнить с крайними тенденциями нашего духовного сектантства, например, учением украинского религиозного философа Сковороды и чистой доктриной духоборцев.

Иоанн Кронштадтский. Гравюра В. Боборова. 1900 г.
Самую смелую попытку сблизить и по возможности примирить традиционную церковную веру с современными религиозно-философскими мировоззрениями сделали Мережковские (Дмитрий Сергеевич Мережковский и его жена Зинаида Николаевна Гиппиус), организовав в Петербурге в 1902–1903 гг. религиозно-философские беседы, в которых, с одной стороны, участвовали видные представители интеллигенции и литературы, а с другой – иерархи Церкви и представители просвещенного столичного духовенства, «с благословения митрополита Антония и с молчаливого выжидательного попустительства Победоносцева», как вспоминает З. Н. Гиппиус. Конечно, обе стороны приходили на эти беседы с разными настроениями. Д. С. Мережковский приносил сюда свою любимую идею – главную и единственную его творчества, продиктовавшую неудачную мысль будущей трилогии «Христос и Антихрист». Он воспроизводил в своем труде исторические эпохи, искавшие, подобно ему самому, высшего синтеза между Олимпом и Голгофой, Дионисом и Христом, плотью и духом. Торжество плоти – это был, еще по Гегелю, древний классический мир. Торжество духа он видел в аскетическом христианстве. В каждом из романов Мережковского и почти в каждой его фразе развивается эта основная антитеза. В его изображении и два величайших русских писателя схематизируются, как «ясновидец плоти» (Толстой) и «ясновидец духа» (Достоевский).
Вполне несходен и даже противоположен был Мережковскому Василий Васильевич Розанов. Оба писателя, «игрок запойный в символы» (как очень метко охарактеризовал Розанов Мережковского) и «певец интимных шепотов и стыдных домашних запахов, прелестный и противный в своей интимности» (по выражению З. Н. Гиппиус) сошлись на реабилитации плоти. У Мережковского она достигалась мистическим путем – в конце мира, по пришествии на землю «третьего царства», царства Духа, после царств Отца (древний мир) и Сына (христианство и современность). Розанов подходил к тому же самым реальным образом – путем восстановления прав земной любви. И та и другая идеология были, разумеется, вполне чужды представителям белого и черного духовенства, собиравшимся на беседы: розановская идеология была еретична, а Мережковского просто непонятна. Церковные люди приходили на эти собрания с целью обратить интеллигентов в традиционную веру; а богоискатели, по формуле Минского, «избрали путь мистического познания – путь, ведущий к примирению свободомыслия и религиозности». Иоанн Кронштадтский прямо назвал этот «странный новый путь» «сатанинским».
Выписанный из Казани для словопрений архиерей Михаил (впоследствии старообрядец) выражался несколько мягче, но все же отгородился от «новых христиан». И даже В. А. Тернавцев (чиновник особых поручений при обер-прокуроре Святейшего Синода), которого Мережковский считал близким себе, потому что он готов был говорить о «праведной земле» (то же, что «святая плоть» Мережковского) и о задаче христианства раскрыть в будущем новый догмат об антропологической стороне христианского учения, требовал от интеллигенции (Мережковский предпочитал говорить о «культурных людях» – от слова сolеге, т. е. разумея под ними только богоискателей), чтобы она сама «пришла к Христу и Церкви, обнищавши духом». «Интеллигенция завтра же почувствует ложь», – говорил Тернавцев, – если для успеха проповеди подменить христианство стоицизмом или моралью».
Сговориться при таком взаимоотношении было невозможно. Разногласия начались уже с самого начала бесед, когда на очередь были поставлены, казалось, наименее спорные в глазах общественного мнения вопросы: о порабощении Церкви государством, об использовании Церковью государственной власти для борьбы с инославными и сектантскими исповеданиями, о свободе совести и т. д. Естественно, что Церковь не могла смотреть на все эти вопросы с точки зрения нейтральной, внецерковной, с какой смотрела на них интеллигенция. Представители Церкви, с большими или меньшими оговорками, защищали сохранение существующего. Споры обострились по поводу докладов Розанова и арх. Михаила о браке как государственном правовом институте принудительного характера и о браке как таинстве. Принять точку зрения Розанова, близкую к учению беспоповца поморского толка Емельянова, Церковь никак не могла, не изменив в корне своего взгляда на самое таинство, как на сообщение благодати только через посредство Церкви. Обе стороны окончательно потеряли общий язык, когда речь зашла о значении догмата и о возможности догматического развития в Церкви. По мере того как апокалиптические намеки Мережковского становились яснее, а его требования признать права «святой плоти» настойчивее, служители Церкви все более настораживались и примирительный, смягчающий разногласия тон уступал место категорическому и учительскому. Специалист по кафедре богословия Лепорский защищал учение Церкви о неизменяемости догматов и невозможности пополнения их новыми. И хотя Тернавцев, идя навстречу Мережковскому, признавал возможность открытия «кроме двух тайн о Боге и Христе еще и третьей – о человеке – тайны, не раскрытой деятельностью Вселенских соборов», Мережковский заявил, что в таком случае и «живой связи между религией и жизнью быть не может». Он говорил: «Вот уже два года, как длится поразительное недоразумение в этом собрании. Нас как будто все время обращают в христианскую веру. Мы уверяем, что мы верим, а нам говорят: вы не только не верите, но вы настолько погибшие, что даже всякий безбожник нам ближе, чем такая вера, как у Мережковского и Розанова. Мы верим, может быть, более вашего, или, точнее, мы верим уже иначе».

Л. Бакст. Василий Васильевич Розанов. 1905 г.
В своей статье «Не мир, но меч» Мережковский продолжает эту реплику в ряде антитез, ярких, но не совсем справедливых: «Для нас вера была удивлением, для них – почти скукой; для нас глубиной мистики, для них позитивной плоскостью, для нас праздником, для них буднями, для нас белой ризой, в которую мы не смели облечься, для них – старым домашним халатом. Слова Священного Писания, в которых слышались “голоса семи громов”, звучали для них, в лучшем смысле, как затверженные тексты катехизиса, а в худшем, как мертвые костяшки лавочных счетов или деревянные молоточки бесструнных клавишей. Нам хотелось, чтобы лик Христа был как “солнце, сияющее в силе своей”, а они довольствовались черным пятном под венчиком старой иконы, в которой уже ничего нельзя разобрать… Они готовы были простить всю нашу грешную плоть и не могли понять, что нам нужно, чтобы Церковь согласилась не простить грешную, а благословить святую плоть. Они были мягки, как вата, но этою бескостною мягкостью окутывали камень, и острие всех мыслей наших или ломалось об этот камень, или уходило в эту мягкость, как острие ножа в подушку».

Д. С. Мережковский. Рисунок И. Репина. 1894 г.
Другими словами, приступая с любопытством и энтузиазмом неофитов к разрушению обветшавшего здания, охраняемого профессионалами вековой доктрины, наивные люди рассчитывали чуть ли не на немедленную капитуляцию и удивлялись, получив более или менее вежливый отказ. Другая сторона судила о причинах неудачи грубее и проще. Арх. Сергий еще в первых беседах указал на эти факторы: «Содержание учения Церкви одно, а интеллигенция (лучше сказать, богоискатели) хочет видеть в нем другое; способ учения, который предлагает Церковь, один; тот же, который предлагает интеллигенция, другой; Бог церковный один, а Бог интеллигенции другой. Христос интеллигенции – Христос богожелательный, но в учении Церкви важны моменты нравоучительный, догматический и мистический. Двух последних моментов интеллигенция не признает, и потому мы говорим на разных языках». В конце концов, «Победоносцев посмотрел-посмотрел, да и запретил религиозно-философские собрания», а цензор остановил печатание их протоколов в журнале Мережковских «Новый путь».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































