Текст книги "Из тайников моей памяти"
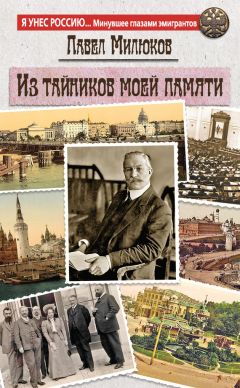
Автор книги: Павел Милюков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
5. Ближайшие последствия моей «политики»
Исключение из университета и, следовательно, отсрочка на год окончания университета были не единственным последствием моего первого дебюта в политике. Этот дебют резко оборвал мои отношения с семьей И. Перед этим наши отношения как будто налаживались благоприятно. Мне разрешались долгие tкte-а-tкte’ы с предметом моего увлечения – «у рояли». Я не помню, о чем мы говорили – оба мы были неразговорчивы, – но только не о моих чувствах. Как-то раз она меня спросила, могу ли я рассчитывать приобрести такую же «славу», как приобрел Кареев. Вопрос меня обидел; он как будто ставил какое-то условие. Я ответил, что никак поручиться за это не могу. В номерах И. жил очень симпатичный студент-медик Б., стипендиат, который готовился по окончании курса уехать на службу в Сибирь. Мы все очень жалели о предстоящем его отъезде. После одного из общих сердечных разговоров с ним дочь И. меня спросила, с очевидным огорчением: «Отчего у вас нет такой непослушной пряди волос, как у Б.?»
Тут я как будто что-то понял. У меня волосы были гладкие, зачесанные назад, а «непослушной пряди», спускающейся на лоб, не было. Очевидно, эта прядь есть тоже условие, и притом гораздо более важное, нежели слава Кареева. Нет пряди – нет и соответственной сердечной эмоции. Мой случай, с эмоциональной точки зрения, безнадежен… Наконец, произошел случай, которым я очень бестактно воспользовался для окончательной проверки. Одна знакомая барышня призналась мне в своих тайных сношениях с каким-то профессором и попросила, чтобы предупредить позор последствия, – жениться на ней фиктивным браком. Тогда, в духе традиции шестидесятых годов и Чернышевского, такое предложение не было неправдоподобно. Я ответил, что люблю девушку, на которой собираюсь жениться. Но потом мне стало совестно за такой полуобман. И я решил рассказать об этом самой дочери И., чтобы этим побудить ее высказать определенно свое отношение ко мне. Я никогда не видал ее такой взволнованной. Она отошла к хвосту рояля и после долгой паузы выговорила: «Вы не должны были говорить мне этого». Я уже понял, что поступил нехорошо… Но в то же время почувствовал, что на мой прозрачный вопрос ответа у нее не было.
Все это не обещало мне хорошего исхода. Но вопрос все-таки решила не романтика, а… политика. В самый день убийства Александра II я пришел к И. Конечно, все были в страшном волнении, не исключая и меня. Но причины волнения были неодинаковы. И когда г-жа И. почувствовала в моих словах эту разницу настроений, она буквально набросилась на меня с самым жестоким осуждением моей безнравственности, беспринципности, бесчувствия и т. д. Словом, это была страница из «Бесов».
Я знал, что И. и ее покойный муж были поклонниками Достоевского еще со времени сибирской ссылки, что он иногда останавливался у них. Она находилась под свежим впечатлением его смерти и знала о моем недружественном отношении к его идеям. Незадолго до этих событий состоялось то чествование памяти Пушкина, которое разделило общество на два лагеря – сторонников Тургенева и сторонников Достоевского. Я был в эти дни в Пушкине и намеренно не поехал на празднество. Я знал по «Дневнику писателя», что может сказать о Пушкине Достоевский (за исключением «всечеловечности» Пушкина), и не хотел присутствовать при его вероятном торжестве над Тургеневым (после того как Тургенев только что подвергся разносу со стороны левых из ложи актового зала университета, в импровизированной речи студента Викторова).
Все это отразилось на приподнятом нервном настроении г-жи И., в котором, однако, мне слышалось ее настоящее откровенное мнение обо мне. Я слушал молча, понурив голову, а когда она кончила, встал, простился и ушел. Я как-то чувствовал, что больше прийти в этот дом не могу. Это не значило, что я вдруг излечился от своего чувства. Я уносил его с собой, но с сознанием, что и тут надо мной произнесен обвинительный приговор.
Большое утешение неожиданно пришло с другой стороны. У брата был приятель по Училищу Кречетов, с обличьем и привычками молодого купчика. Узнав, что я на вакации свободен, он предложил мне сопровождать его в путешествии по Италии. Я не очень доверял серьезности его намерения и не собирался быть его гидом. Я поэтому предложил сделать у него заем в три тысячи на три месяца – и путешествовать вместе, но сохраняя полную самостоятельность. Предложение было принято, и я усердно принялся готовиться к поездке.
Здесь я должен с благодарностью вспомнить о еще одном, не упомянутом мной профессоре, престарелом Ф. И. Буслаеве. Подобно Соловьеву, он кончал свое преподавательское и жизненное поприще, часто манкировал, приходил неподготовленным и бормотал про себя свою лекцию, точно вовсе не замечая аудитории. Но среди этого бормотания можно было услышать преинтереснейшие вещи, – и как раз профессор постоянно возвращался к своим воспоминаниям об Италии. Помню, раз он вдруг заговорил о картине Мантенья, как образце раннего итальянского реализма. Другой раз он движениями рук объяснял, как он научился одним осязанием различать настоящую греческую скульптурную работу от римской. Такие проблески запоминались, возбуждали любопытство и будили настоящий интерес.
Я как раз и поставил своей исключительной задачей знакомство с греко-римской скульптурой и с живописью раннего Возрождения. Я не обещал себе наслаждения природой или наблюдений над обществом недавно объединенной Италии; не обещал даже непосредственного наслаждения искусством. Я почему-то считал себя на это решительно неспособным. Суровой и единственной целью должно было быть изучение. У меня в библиотеке стоял толстый том произведений Винкельмана: я решил взять его с собой, несмотря на специальность трактовки. На месте я потом увидел, что изучение, например, складок платья на классических статуях было бы для меня бесполезной тратой времени. Целесообразнее был выбор в руководители Буркгардта. Я очень ценил Буркгардта по его работе о «Ренессансе в Италии», – и выбор меня не обманул.
Но помимо того я запасся двумя томиками «Путешествия в Италию» Тэна и его книжками по философии искусства – и на месте мог различить его «философствование» от действительности. Особенную же услугу мне оказал только что вышедший томик Гастона Буассье: «Promenades archeologiques». Наконец, четыре тома Rio, «L’art chretien», завершали мою дорожную коллекцию.
Соответственно цели я выработал себе маршрут, которого строго держался. После остановки в Венеции я должен был заехать в Падую – для фресок Джотто в Arena, потом в Болонью – для Святой Цецилии Рафаэля и в Пизу – не столько для падающей башни, сколько для Campo Santo с знаменитой фреской Орканья. Оттуда мой путь лежал во Флоренцию, на которую, по ее значению для раннего Возрождения и для его расцвета, я полагал от одной до двух недель, затем, с заездом в Сиену, где меня интересовал собор и особая школа живописи, я должен был направиться прямо в Рим, минуя Перуджу, для которой уже не хватало времени. На Рим – на Палатин и Ватикан – я назначил себе целый месяц. Оттуда остаток времени предназначался для Неаполя и Помпеи, а в качестве баловства – для поездки в Неаполитанский залив и на Капри. План был обширный и требовал строгого выполнения.
Что касается языка, я считал, что справлюсь с ним довольно свободно. Я учился по-итальянски у нашего милого университетского лектора Мальма, шведа, гримировавшегося не то под итальянца, не то под испанца, – с длинными белыми волосами и эспаньолкой. Проведя слушателей через «Promessi Sposi» Манцони, он довел нас до Данте и прочел с нами несколько песен «Divina Commedia». Меня сближал с ним, помимо итальянского, также интерес к музыке. Он был известным альтистом и, узнав о моих упражнениях в квартете, который составился у меня в университетские годы, подарил мне хороший альт Клотца.
Кстати, о моем квартете. С самого начала университетского курса ко мне подошел молодой студент Даль и, зная о моих упражнениях на скрипке, предложил мне играть в квартете с его старшим братом. Это был известный невропатолог, сторонник нансийской школы и гипнотизер, Николай Владимирович Даль. Он играл первую скрипку, вторую изображал я, а младший брат был виолончелистом. Тут я впервые познакомился с квартетной литературой и признал квартет высочайшей формой музыкального искусства. Наш состав несколько изменялся, совершенствуясь в силе. Первая скрипка менялась; на вторую тогда садился Николай Владимирович, меняясь с д-ром Воробьевым; я к тому времени подучился на альте, а партию виолончели играл брат Даля. Партнеры не только спелись, но и сблизились: все были – хорошие люди, и эти музыкальные вечера остались навсегда для меня драгоценным воспоминанием. Много времени спустя доктор Даль от большевиков перебрался в Бейрут, где также не забывал своего искусства, и я имел радость перед его смертью еще раз встретить его в Париже, где мы, конечно, тотчас ввели его в наш парижский квартет.
Но возвращаюсь к итальянской поездке. Для нее назначены были летние месяцы: часть мая, июнь, июль и часть августа. Время было неудобное для путешествия по Италии. Но выбирать было не из чего; тем более что я ехал не для удовольствия, а для работы. Еще не поладив со своим чувством после разрыва с И., я уезжал в Италию с тяжелым настроением. В кармане я увозил с собой свое стихотворение, из которого запомнились первые строфы, свидетельствующие о моей внутренней драме:
Ты не простишь, я знаю, гордая богиня,
И обмануть нельзя ничем твой чистый взор:
Я в нем давно прочел, навеки и отныне,
Свой грозный приговор.
* * *
Из следующей строфы помню только два стиха:
Я не прошу тебя смиренно о прощеньи,
Я не коснусь тебя нечистою рукой.
Они делают вывод из настроения.
Итак, я оставался «один в пространстве».
6. Путешествие по Италии
Мне было 22 года, когда я впервые выехал за границу. До тех пор я (за исключением поездки в Костромскую губернию) ни разу не покидал Москвы. Естественно, что заграничные впечатления переживались с особенной силой. Путь наш лежал через Варшаву и Вену. Варшава при проезде с вокзала на вокзал показалась мне, при сравнении с Москвой, настоящим европейским городом, – первым, который я видел. Что же сказать о впечатлении, произведенном Веной! Я потом много раз бывал в этой красивой столице. Но тогда восторг мой достиг высшей точки. Мне казалось, что лучше этого я уже больше ничего не увижу. Мы остановились в отеле «Метрополь». Этот сравнительно скромный отель мне представился верхом комфорта и роскоши.
А венское кофе с нетонущим куском сахара на сливочной пенке и с непременным стаканом ледяной воды! Я еще не касался культурной Вены. Кроме Ринга, не успел побывать ни в картинных галереях, ни в музеях; только с завистью смотрел на богатые новинками витрины книжных магазинов. Время было точно размерено; надо было спешить дальше. Мой спутник, однако, больше меня поддался приманкам Вены – и имел другие позывы и ресурсы, чтобы ими воспользоваться. Он решил остаться в Вене и обещал потом меня нагнать в Венеции. Но окончательно исчез из вида, и путешествовать по Италии, к моему великому удовольствию, мне пришлось одному. Не знаю, что вышло бы из моего плана, если бы мы поехали вместе дальше. Но тут я был всецело предоставлен себе самому.
На вокзале в Венеции меня ожидало большое разочарование. Носильщик понимал мой итальянский язык, но я из его ответов и вопросов не понял ни слова! Он говорил на венецианском наречии, а я – на lingua toscana in bocca romana! («тосканский язык в римских устах»). Я назвал ему отель на «Canal Grande», где рассчитывал поселиться; он снес мой багаж не на извозчика, а на гондолу, и по узким каналам, вместо улиц, я выехал на главную артерию чудного города.
Отель выходил прямо на канал, уже освещенный огнями гондол, дрожавшими в водной ряби. Налево вода уходила в темное пространство лагуны; почти прямо вырисовывался в вечернем сумраке силуэт Сан-Джорджо, а направо – феерия лодочных флотилий уходила вверх по каналу. И я тут сразу вспомнил описания Тэна, которые раньше считал чересчур красочными. Да, это город колористов, город искусства, родившегося на месте и не допускавшего повторения!
Я, однако, не хотел поддаваться первому впечатлению. Мой план был не любоваться, не восторгаться, а учиться. Здесь, как и в других городах, куда предстояло поехать, я решил начинать с гиератического искусства ранних примитивов, чтобы проследить переход византийского образа в итальянскую картину. Венеция для этого перехода была самым подходящим местом, где Византия и Рим соприкасались. И прежде чем пойти в Академию искусств, я на следующий же день отправился в Мурано, – в окрестностях Венеции. Конечно, это была ошибка невежды. В Мурано можно было изучать превосходное стеклянное производство, а для Муранской школы надо было идти в венецианские собрания. Я пошел – и для начала тщательно избегал комнат с Тицианом, Тинторетто и Веронезом. Пошел на площадь Св. Марка, покормил голубей, зашел в византийский собор и в Дворец дожей – и там наткнулся на того же Веронеза с его стенными полотнами живописи, с пышными белокурыми венецианскими красавицами и кавалерами в фижмах – для изображения библейских сюжетов. Ничего нельзя было поделать: венецианские краски совсем забили примитивы и бесстыдно совались вперед повсюду. Опять Тэн был прав; но пришлось сразу свернуть с избранной заранее дороги.
Должен признаться: в этом настроении я не рассмаковал сразу венецианского Возрождения, прочел в Рио, что полагалось, и поехал дальше, заглянув только в Лидо с его громадным отелем на самом пляже и с его туристикой, совершенно не подходившей к тому, для чего я приехал в Италию.
Я спешил дальше, в Падую, где ждали меня ранние фрески Джотто в Arena, – целые стены, разрисованные – больше чем раскрашенные – библейскими сюжетами. Обязательный византийский рисунок здесь впервые зажил жизнью живого чувства. Это было для меня настоящее пиршество. От квадрата к квадрату я переходил, сличая описание с фреской и выслеживая штрихи новизны в рамках строгой традиции. Джотто – но это уже ранняя Флоренция! Джотто современник Данте! Но подождем. Надо не умиляться, а учиться!
На следующем этапе, в Болонье, я уже системы не выдержал. Перед святой Цецилией Рафаэля я долго стоял, забыв о всех своих планах. По своей неподготовленности я не видел раньше репродукций этой картины в красках – и очутился сразу перед оригиналом.
Своего впечатления я не могу передать. От картины веяло поистине неземной гармонией (и музыкой, моей милой музыкой). Гармония в диспозиции рисунка, в повышающейся градации настроений окружающих персонажей, и, после Венеции, – в такой бережливой сдержанности красок! Но – дальше, дальше… Я затаил в себе это впечатление – и устремился дальше, в Пизу, к Андреа Орканья. Об Орканья упоминал еще Буслаев, сравнивая впечатление тления на его фреске «Торжество Смерти» и на ракурсе тела Христа Мантеньи. Но фреска плохо сохранилась, и я уже знал ее по снимкам; может быть, поэтому она не произвела на меня ожидаемого впечатления. Кажется, теперь сомневаются даже в ее принадлежности Орканья.
Падающая башня Пизы произвела впечатление больше тем, что с ее верхней площадки я наблюдал сменяющиеся краски солнечного заката в море.
От Флоренции я ожидал больше, чем получил. Это и понятно. Флоренция дается нелегко; в ней надо жить, чтобы полюбить ее и ее скрытые сокровища. Не говорю уже о флорентийской общественности. Я пошел с визитом к престарелому Губернатису, единственному выдающемуся итальянцу, к которому я мог иметь отношение (через Миллера) в Италии. Губернатис был женат на русской, мне был известен по некоторым работам и по словарю писателей, им изданному. Но почтенный писатель привык к паломничеству русских, может быть, и тяготился им – и, во всяком случае, на недоучившегося студента не обратил никакого внимания. Я ушел от него с обостренным чувством собственного одиночества.
Конечно, я мог наслаждаться произведениями искусства, окружающими Mercato Vecchio, заглянул в Uffizi, но слишком бегло, чтобы изучить собранные там сокровища; был в Santa Croce, наконец, обратил особое внимание на собор, который тогда только начали облицовывать мрамором, изучил на месте и по снимкам знаменитые бронзовые ворота Донателло с изумительной перспективой его барельефов. Наибольшее впечатление произвел на меня доминиканский монастырь Сан-Марко, где Фра Беато Анджелико разрисовал своими фресками каждую монашескую келью и где подвизался Савонарола. Эти фрески подействовали на меня, как совершенное воплощение христианского искусства, его высшая точка между не обладавшими техникой примитивами – и его неизбежным закатом после приобретения техники.
Из Флоренции на Рим вели два пути: через Сиену (Тоскана) и через Перуджу (Умбрия). Я выбрал путь на Сиену, – имея в виду, во-первых, познакомиться с Сиенской школой живописи и, во-вторых, взглянуть на одну из средневековых итальянских республик, лучше других сохранивших на высокой горе свои старые укрепления. Я, таким образом, пропускал гораздо более богатые коллекции города учителя Рафаэля – и возможность увидеть в Ассизи фрески Джотто. С этими двумя городами мне пришлось познакомиться уже в эмиграции. В Ассизи я даже прожил несколько времени, благодаря любезному приглашению художника Лохова, известного копииста, влюбленного в Ассизи. На этот раз, остановившись на несколько дней в Сиене, я познакомился с сиенской школой, сохранившей – от Маттео до Содомы – свою независимость и свой органический рост, побывал в знаменитом соборе, походил по скалистым переулкам – и, наконец, сел в вагон, чтобы добраться до центра всего моего путешествия, до вечного Рима.
Однако и в этом вечном Риме я не мог оставаться вечно. На Рим у меня был положен целый месяц, но и при таком сроке надо было точно ограничить работу. Из трех Римов, языческого, папского и нового, я выбрал первый и последний, выделив притом из последнего одну лишь эпоху раннего Возрождения. Затем нужно было организовать занятия. Я прежде всего снял за сорок лир комнату на месяц в конце Via Sistina. Дешево тогда жилось бедному студенту. Надо мною был Monte Pincio с своими виллами и пиниями, подо мной – знаменитая лестница, спускавшаяся на Piazza di Spagna. Несмотря на эти прелести, выбор места в северной части Рима оказался, однако, неудачным. Развалины языческого мира, начиная с форума, были расположены в южной половине города. Они оставались в том же заброшенном, нетронутом виде, как были в папское время. Раскопки в этой части, предпринятые правительством объединенной Италии, продолжались еще и в годы управления Муссолини. Тогда это были пустыри с жалкими хибарками беднейшего населения, засыпанные песком. Ходить в июльскую жару в эту часть Рима было настоящим подвигом. Местные жители говорили, что в такое время года, когда асфальт мнется под ногами, как глина, по улицам ходят только inglesi e cani – англичане и собаки. Это была действительно собачья работа – добираться до базилики Сан-Паоло, fuori le muro (за городскими стенами), в южные христианские катакомбы, или выходить на Аппиеву дорогу. Один раз, зайдя довольно далеко по аллее гробниц, я чуть не схватил солнечный удар. Помню, как в каком-то полусознательном состоянии я опустился у дерева при дороге и так в полусне пролежал без движения, очнувшись только, когда солнце стояло низко над горизонтом и веял с Кампаньи прохладный ветерок. Кое-как, пешком же, я добрался к ночи до своей квартиры.
Далеко оказалось и до Ватикана, которому я решил посвятить главное внимание. Перейдя через Тибр и крепость св. Ангела и пройдя огромную площадь перед св. Петром, я с ужасом думал, что пройдена только половина пути, а дальше, минуя главный вход, охраняемый швейцарской гвардией в живописных костюмах, я должен был обойти кругом весь собор и все огромные пристройки. Вход в галереи был позади, и я таким образом каждый день обходил чуть не все теперешнее Ватиканское государство.
Я тем не менее не унывал. Я точно распределил работу между часами дня. Вставал рано и один из первых приходил к открытию намеченного музея. В час завтрака шел в ближайшую тратторию народного типа и там завтракал за 60 чентезими, избегая, по возможности, специфических итальянских блюд, к которым трудно приучиться. После завтрака шел опять в музей с книжками под мышкой. Меня всегда сопровождал мой любимый «Чичероне» Буркхардта, устранявший всех других гидов. Я смотрел свысока на толпы «Куков», спешно пробегавших комнаты и не успевавших заглянуть в свои Бедекеры. Я усаживался на стул или диван и медленно переходил от одного предмета к другому. Уходил я после звонка к закрытию, и один раз случилась даже со мной по этому поводу забавная история в Капитолийском музее.
Я углубился, в амбразуре окна, в рассмотрение tabula ilica[7]7
Небольшая каменная доска (вероятно, I века) с барельефным изображением отдельных эпизодов Троянской войны (Прим. ред.).
[Закрыть], звонка не заметил, сторожа прошли мимо меня и заперли музей на ключ. Я продолжал свою работу, пока не заметил, что все стихло и никого нет в музее. Я толкнулся во двор; ворота заперты. Я обошел музей с другого конца, открыл окно на спуске тротуара от Araceli и стал ждать прохожих. Остановил одного, рассказал ему свою историю; тот побежал звать другого, более посвященного. Но другой сказал, что сторожа ушли в Ватикан и что на вызов их потребуется время. Комната была интересная, и я вернулся к созерцанию Амазонки и Амура. Прибежали, наконец, испуганные сторожа, но прежде чем выпустить, попросили разрешения меня обыскать, на что я охотно согласился. Извинились и ушли, а я пропустил свой завтрак, который большею частью был и обедом.
После послеобеденного закрытия музеев я возвращался домой и принимался готовиться к следующему дню. Тут прочитывалась соответственная глава Гастона Буассье; для Рима я приобрел еще шесть томов Ампера, построенных на изучении топографии Рима в связи с его историей. Ампер необыкновенно оживлял мои прогулки по Риму. На одном перекрестке я видел Горация, на другом встречался с Цицероном, а вот та низина, в которой римляне похитили сабинянок. Так проштудировал я, следуя Гастону Буассье, Форум, ходил по Аппиевой дороге, съездил с ним в виллу Адриана, суммировавшего там память о своих путешествиях, ходил и в Латеран, где подробно знакомился с символикой первых веков христианства, при помощи еще одной прекрасной книги, словаря христианских древностей Мартиньи.
От виллы Адриана я пробрался пешком к котловине озера Неми, из которого недавно напрасно вылавливали римскую трирему. Потом решил подняться на гору Monte Cavo по дороге, которая вилась кругом и служила в древности для триумфального восхождения римских генералов, которым сенат не присуждал настоящего, нормального триумфа. На вершине горы стоял небольшой монастырь, куда меня, измученного восхождением, пустили переночевать. После скромной трапезы, состоявшей из неперевариваемых незрелых фиг собственного произрастания, монах повел меня посидеть на лавочке и первым делом спросил, по Гомеру, из каких я стран. Я ответил: un russo. Монах отпрянул: nihilista? Я его успокоил, и мы начали мирную беседу о том, как испортилось время, как девицы забросили домодельные костюмы и стали одеваться в ситцы и т. д. Пока мы беседовали, солнце склонилось к закату, и мой монах оказался поэтом. Действительно, картина была очаровательная. Перед нами открывался весь Лациум, видно было все течение Тибра вплоть до моря, которое сияло последними солнечными лучами. А что делалось на небе! Закатываясь в облаках, солнце постоянно меняло форму; краски, от красной до фиолетовой, оживали по очереди вслед солнцу – и вслед за ним умирали. Но надо было слышать при этом воодушевленный комментарий монаха… Когда стемнело, он повел меня в предназначенную для меня келью. Стена против узенькой кровати была заставлена полкой с книгами в старинных переплетах: тут были мои любимые классики. Я выбрал Горация с комментарием XVIII в., но читать не мог, страшно уморившись за этот поистине трудовой день. Я открыл наудачу книгу – и прочел известный мне стих:
Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
Finem Di dederint, Leuconoe; nec babylonios
Temptaris numeros…
«Ты не гадай, – знать грешно, – что за конец
боги дадут мне и тебе, Левконоя, – и не пытай
вавилонских таблиц»…
Я мирно заснул и снов не видал. Рано утром монах проводил меня по кратчайшей дороге. Это была одна из самых приятных прогулок – и так она хорошо запомнилась.
Главное внимание и большая часть времени были, однако, посвящены Ватикану. Прежде всего я занялся скульптурными собраниями. В то время слепков в Москве не было, – музей Александра III, задуманный проф. И. В. Цветаевым на месте Колымажного двора, еще и не строился, и, вместо слепков, мне пришлось сразу увидеть оригиналы. Правда, щупать мрамор, чтобы различить подлинные греческие статуи от римских копий, как учил Буслаев, мне не пришлось; да это все было и в каталоге. Но общее впечатление было потрясающее. Я подолгу выстаивал перед каждым из шедевров Ротонды.
Вот Лаокоон и его сыновья, переплетенные змеями: каждая часть группы напоминала мне комментарий Лессинга… Но и тут я помнил о своей задаче: изучить историческую эволюцию искусства. Мне не нужно было для этого ни насиловать фактов, ни открывать что-либо новое. Моя схема деления на периоды была тут совсем готова. Вот раннее гиератическое искусство примитива: застывшие позы, угловатые движения, неподвижные лица, костюмы, спускающиеся вдоль фигуры ровными, точно гофрированными складками. Особенно меня поразила сходством с Средневековьем закутанная фигура Пенелопы (это моя теория). А вот в статуях проявляется жизнь, дифференцируются выражения лиц, все еще строгие, как на византийских иконах, затем фигуры начинают двигаться, движения становятся естественными, сочетаются в группы, наконец, в движениях и выражениях лиц начинает проявляться утрировка, искусственность, в жестах и позах – преувеличенное выражение страсти; самые темы перестают браться из мифологии, появляется портрет и пейзаж, сложные сцены изображаются в мозаике. К какому периоду принадлежит мой несравненный Лаокоон? Очевидно, к позднему! Этим масштабом можно мерить скульпторов классической эпохи, где техника становится свободной от гиератической схемы, но статуя сохраняет важность и серьезность божества. Древность, Средние века, Возрождение, упадок – все тут налицо: но какой красивый упадок!
От скульптур Ватикана я перешел к живописи, – чтобы найти там те же самые деления! Знакомство с гиератическими примитивами и с переходом от них к Джотто, к Анджелико, к прерафаэлитам меня уже приготовило к пониманию классиков; но тут со мной произошло то, что началось в Болонье, перед св. Цецилией Рафаэля: я начал не только понимать, но и наслаждаться. Я откладывал до Рима окончательное знакомство с Рафаэлем и с Микельанджело. Здесь открылись передо мной Станцы и Лоджии Рафаэля, Сикстинская капелла Микельанджело. По правде сказать, я тут почувствовал, что моя граница классической гармонии, равновесия и спокойствия уже перейдена, и с Микельанджело – перейдена далеко. Спаситель, бросающий громы с верха картины на выходящих из гробов грешников, слишком напоминает скульптурного Юпитера. И Рафаэль уже переживает свой последний, римский период. То, что за этим следует, уже вызывало во мне определенно отрицательное отношение, как все более яркое выражение упадка. Должен сказать, что тогда это оправдывало в моих глазах небрежное отношение к XVII веку. Я отчасти поэтому освободил себя от систематического посещения римских церквей. Во всяком случае, живописный материал для моей схемы, как и скульптурный, был в моей голове готов. Поправки пришлось внести уже гораздо позднее.
Вместе с тем кончилась главная цель моего путешествия. Приходили к концу и мои капиталы. Конец поездки я решил посвятить баловству, под чем разумелось беглое посещение юга Италии: Неаполь (с Помпеями, которые, конечно, не были баловством) и Капри.
В Неаполе мое пребывание было кратко. Музеи не были так полны, как теперь, статуэтками и мозаиками из Помпеи и Геркуланума. Я поселился, из экономии, в самом южном и (тогда) демократическом квартале Неаполя, на Via Margellina, откуда ходить в центральные части города было неблизко. Зато я выиграл по части живописности положения. Надо мной высился Castel St. Ehno, где скрывался замученный Петром его сын Алексей; отсюда крепость была особенно хорошо видна. Подо мной открывалось, особенно к вечеру, веселое зрелище: на песчаной отмели берега копошились ладзарони и рыбаки, слышались неаполитанские песни, включая ходячую во всей Италии Santa Lucia. Я жалел только об одном. После месячного пребывания в Риме я уже считал, что свободно владею итальянским языком. Приехав в Неаполь, я опять увидал, что здешнего народного языка я совершенно не понимаю. Купил себе текст таких милых неаполитанских песен – и тоже в нем с трудом разбирался. За пределами Марджеллины, в двух шагах, находится знаменитый грот Позиллипо, с предполагаемой могилой Вергилия. Но я так «избаловался», что за все дни пребывания в Неаполе не успел даже туда зайти, несмотря даже на то, что дальше шел залив Байи, а около него классическое сошествие в ад. Я предпочитал в сумерках спускаться к морю и, качаясь на волнах, созерцать прямо перед собой силуэт Везувия с шапкой красноватого облака над ним, всегда напоминающего о катастрофе с лежащими под ним Геркуланумом и Помпеями.
На подземные раскопки Геркуланума я не польстился, а проехал кругом залива прямо в Помпеи. Излишне повторять, какое впечатление производит этот застывший вид римского города с его колеями на улицах, водопроводами, обстановкой домов, избирательными плакатами на стенах и всеми подробностями ежедневной жизни. Но тогда из девяти кварталов города были раскопаны только три, и внутреннюю обстановку домов только что перестали вывозить в Неаполитанский музей. Мне пришлось посетить Помпеи много позднее, когда в них работала милая Т. Варшер, дочь той самой барышни из Арбузовского дома, о которой я упоминал выше. Она составляла подробное, многотомное описание всякой вновь находимой частности для проф. М. И. Ростовцева; и когда в моих руках всякие гиды видели описание Помпеи, ею составленное, они уже не приставали с предложениями и говорили: это – наша principessa! В 1881 году я, конечно, не мог получить такого полного впечатления и после беглого дневного осмотра поехал дальше по берегу вплоть до Сорренто. Это чудесное место я тоже оценил много позднее; в то время я на него смотрел, как на самый дешевый способ переправиться на Капри.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































